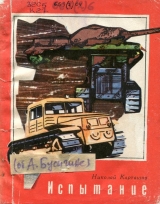
Текст книги "Испытание"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
ЭВАКУАЦИЯ
Перед самыми Октябрьскими праздниками на участок бригады Демина пришел начальник цеха. Казалось, что огромная беда, свалившаяся на страну, на Ленинград, на путиловцев, внешне нисколько не затронула этого далеко уже не молодого, худощавого человека. Как всегда, он был ровен, приветлив, и глаза, добрые, карие, под нависшими бровями светились все так же спокойно.
Он позвал Демина:
– Василь Иваныч, ко мне. Бегом надо, когда начальство зовет…
– Отбегался, – спокойно ответил Демин, – харчи не те…
– Собирай своих гвардейцев.
– А что стряслось?
Что ответил начальник цеха, Бусыгин не расслышал, а очень желал расслышать, потому что понял: не зря собирают бригаду, отрывают от срочной работы. Неужели эвакуация? Не хотелось в это верить.
Но не верить Бусыгин уже не мог: все стало до предела ясно, как только начальник цеха произнес первые же слова.
– Ну, вот что, орлы боевые, наступил и наш черед перебраться на новые квартиры, то есть туда, куда уехали наши товарищи, – на Урал. Вот. – Начальник цеха умолк. – Обстановку вы сами знаете, нового ничего добавить не могу. Работать нам фашисты здесь не дают, и не дадут, стервецы: им путиловцы – поперек горла. А строить танки надо – что здесь, что на Урале.
Потом помолчал, пожевал посиневшими от холода губами и уж с какой-то затаенной грустью добавил:
– Мы тут, на родном заводе, делаем все, что можем. А надо делать больше. Вот так. Нам, конечно, не все равно, где быть, – тут или там, не все равно. Мы всегда здесь были как бы в центре жизни. Всякое было. – Голос его окреп, будто бы стал звонче и бодрее. – Я вот что скажу вам, мои дорогие: где бы ни работали, мы – кировцы, путиловцы, по-прежнему с Нарвской заставы, так вот.
Деминцы окружили начальника цеха и молчали. И кто мог бы сказать, какие чувства обуревали их сердца, кто бы мог измерить горе и тоску этих людей, которые вынуждены покинуть все то, к чему сызмальства привыкли, чем гордятся, что навсегда вошло в их жизнь.
– У меня вопрос. – Бусыгин, как в школе, поднял руку.
– Ну?
– А кто не желает эвакуироваться?
Начальник цеха покачал головой, усмехнулся:
– Ишь ты, «не желает». Кто не желает?
– Я, – дерзко сказал Бусыгин.
– С такими будем поступать как с нарушителями военной дисциплины. Во-енной… Понятно?
Бусыгин взорвался:
– А я что – в глубокий тыл прошусь? Хочу на переднем крае остаться.
– Стало быть, ты, Бусыгин, один патриот, а мы кто? Тебя спрашиваю! Высшее проявление патриотизма сегодня – знаешь что? Подчинение дисциплине. И весь разговор.
Как бы издалека, глухо доносилось до слуха Бусыгина все, что потом говорил начальник цеха: «Одеться потеплее. Взять до десяти килограммов вещей и явиться на завод».
Прощание с матерью и сестрами, которые оставались в Ленинграде, было недолгим и тягостным. Мать не плакала. Она лишь суетилась, что вовсе не было на нее похоже, совала в чемодан сына разные рубашки, теплые носки, теплый шарф.
– Там же холодно, Коленька, – говорила она, – там же морозы, Сибирь…
– Нельзя, маманя, нельзя. – Николай выкладывал на стол вещи. – Разрешают только десять килограммов.
Перед самым уходом из родительского дома Николай обнял мать. А она как-то задумчиво сказала:
– А как же весточки, Коленька, как же письма? Идут теперь письма?
– А как же! – уверенно ответил Николай, хотя совершенно не был убежден в том, что в осажденный, зажатый в кольцо Ленинград идут письма.
Связь между Ленинградом и Большой землей поддерживалась в это время только по воздуху.
Улетали с аэродрома в Новой Деревне. В «дугласы» сели по двадцать пять человек. Предстояло пересечь Ладожское озеро и добраться до Тихвина. А там пересесть в эшелон.
Поднялись в воздух, полетели над Ладогой, и сразу же увидели: «дугласы» сопровождают советские истребители. Пролетели низкий лесистый мыс, на котором стояла высокая красная башня – Осиповецкий маяк. Пройдя над ним, свернули на восток и пошли прямо через озеро, на Кобону.
Озеро лежало под самолетом огромной пустыней. Осень затянулась, настоящих морозов еще не было, и Ладога еще не стала, а покрылась лишь первым салом.
Бурное озеро, враги на берегу, враги в небе, враги, грозящие с севера, на воде… Самолет летит низко над водой, почти бреющим полетом, и видно, как ноябрьские штормы вздымают свинцово-черные валы.
Наши «ястребки» челночат над озером, охраняя «дугласы».
И вдруг Бусыгин увидел через иллюминатор четыре темных вытянутых пятнышка. Скорее догадался, чем понял: «Мессершмитты».
Они шли в строю с явным намерением преградить путь «дугласам» на восток.
Дальше все произошло, как в кошмарном сне. Что происходило в небе, Бусыгин не мог ни толком увидеть, ни понять. Ясно увидел, как какой-то самолет (чей? какой?) боком нырнул вниз и падал, пуская черную струю дыма в свинцовые волны Ладоги. Потом пулеметная очередь прошила дюраль в их самолете, и кто-то крикнул и умолк. Оказывается, был ранен Игорь Морозов, молодой рабочий с механического. Кинулись парня перевязывать. Вытирали на сиденье пятна крови.
И через несколько минут увидели впереди низкий берег, он как бы подплыл под самолет, внизу потянулся лес почти до самого Тихвина. Вылезли из самолетов.
Николай был в каком-то оцепенении.
На аэродроме в Тихвине объявили тревогу. Начался налет, и все укрылись в ближайшем лесу, хоронились за большими березами от осколков и пуль. Кругом падали ветки, сшибленные пулями.
Наконец, повели кировцев в солдатскую столовую кушать. Давали пшенную кашу с кусками вареного сала.
Бусыгин ел жадно, как бы спеша насытиться. Подошел капитан, пожилой, с рукой на перевязи.
– Не ешьте все сразу, – сказал он, – возьмите с собой. Заболеть можете…
Трудно было не есть, но все-таки пересилил себя, вынул из каши кусочки сала и завернул в носовой платок.
Кировцы со своим немудреным багажом разместились в полуторках и поехали на железнодорожную станцию Тихвин, чтобы пересесть в товарные вагоны.
Только прибыли на вокзал, – воздушная тревога. Стая «юнкерсов» остервенело бомбила станцию, эшелоны. Свист и грохот кругом, рушатся здания, пылают вагоны.
К кировцам, стоявшим под защитой какой-то кирпичной стены, прибежал моряк.
– Товарищи, – крикнул он, – помогите… В горящих вагонах – раненые моряки. За мной! – Моряк энергично взмахнул рукой и, не оглядываясь, побежал к пылающим вагонам. Кировцы, побросав вещи, – за ним.
Вытаскивать раненых из горящего эшелона было мучительно трудно. Бусыгин взваливал на спину тяжелое, бессильное тело раненого и относил его под какой-то навес. Потом снова бежал к вагонам. Он задыхался – и от копоти, и от усталости, ноги подкашивались, пот заливал лицо, шею, грудь. Но Бусыгин, все так же шатаясь под тяжелой ношей, шел к навесу, а потом трусцой бежал к эшелону. И так – десятки раз.
К вечеру кое-как умылись, пожевали кусочки сала и разместились в товарные вагоны с нарами в три яруса. Раненых моряков снова погрузили в эшелон.
Удивительное ощущение испытывал Бусыгин. Все события, участником или очевидцем которых был он, как бы переживал вновь.
В длинные вечерние часы, лежа на нарах теплушек, кировцы вели в темноте бесконечные разговоры о войне, Ленинграде, о битве за Москву. Лиц не видно, слышны только голоса. Но разве спутаешь задорный, веселый, иронический голос Саши Куницына со спокойным, рассудительным говорком Константина Ковша, басок Василия Ивановича Демина с высоким тенорком токаря из механического цеха Васи Гусева, худенького, невысокого семнадцатилетнего парня. О чем только ни говорилось на этих «темных посиделках»!
…К середине дороги, где-то уже за Куйбышевом, в городах не было затемнения, и в теплушках засветились «коптилки», загудели железные печки. Когда ночью вдруг звездой сверкнул огонек, Бусыгин аж вздрогнул. Поезд шел вдоль кромки леса, и огонек пропал, потом мелькнул вновь. А станция уже вся сверкала огнями, во всех окнах – яркий свет.
– Свет! – закричал Бусыгин. – Смотрите – свет!
Столпились у чуть приоткрытой двери и радостно смотрели на электрические огни, от которых отвыкли за долгие месяцы блокады, за длинные вечера в пути.
Утром, после Златоуста, поезд остановился у каменного столба с надписью: «Европа – Азия». Высыпали из теплушек, начали греться – бегали из Европы в Азию и обратно.
Николай смотрел на две огромные сосны: одна стояла в Европе, другая – в Азии.
Что за той сосной, которая в Азии, ждет его, всех кировцев, какая жизнь, какие трудности? Позади – тысячи километров. Впереди… Горы, покрытые заснеженным хвойным лесом, скалы. На одной скале кто-то огромными черными буквами вывел:
«Был здесь 20.XI.41. Костя Лопатин. Здравствуй, Урал!»
Здравствуй, здравствуй, Урал. Седой. Могучий. Загадочный.
На двадцать девятый день кировцы прибыли в Челябинск.
ТАНКОГРАД
Раздвинули двери теплушки, и сразу дыхнуло леденящим ветром. Николай в своем пальтишке на «рыбьем меху» и в ботиночках выбивал чечетку, ожесточенно тер ладонями уши. Ну и морозище! Ну и холодина! А ветер пронизывал насквозь.
Челябинцам не в диковину было это «великое переселение». Сюда каждый день прибывали десятки эшелонов с эвакуированными. Область встретила и разместила двести крупных и средних предприятий, в том числе такие, как «Азовсталь», «Серп и молот», «Запорожсталь», «Электросталь», «Калибр», «Красный пролетарий». Оборудование порой размещалось не только на площадках действовавших заводов. Московский завод «Калибр», например, занял вновь построенное в Челябинске, но еще не открытое здание оперного театра, – на сцене работал термический цех, в партере – кузнечный, в фойе – другие цехи.
Вместе с оборудованием приехали рабочие, инженеры, конструкторы с семьями. Челябинцы уже привыкли к эшелонам эвакуированных. Сердца уральцев не раз сжимались от горя и страданий, когда они смотрели на измученных длинной дорогой и бомбежками людей, вынужденных покинуть насиженные гнезда. Челябинцы делали все, что в их силах, чтобы чем-то и как-то помочь эвакуированным.
Удивительное чувство владело кировцами: им казалось, что приехали они не в чужой город, а к себе, на свой завод, временно переведенный в далекий город за Уральским хребтом; и рано или поздно вернутся к берегам Невы, к Нарвской заставе, к цехам родного завода.
…Автобусы и трамваи привезли кировцев на завод. Им дали умыться и сразу же повезли в столовую инструментального цеха. Здесь было чисто и уютно. Работники столовой и заводские комсомольцы помогали голодным, усаживали их за столы.
Бусыгин нервно поглядывал на раздатку, откуда шел аппетитный запах мясного бульона. Когда он взял ложку, рука его задрожала. Николаю как-то неудобно было смотреть на товарищей, и он ел подчеркнуто медленно. А другие спешили, ели жадно, словно не верили, что это все им. А официантки стояли рядом, смотрели и тихо плакали…
Где жить?
Челябинск и до войны не имел излишка жилья, а тут такое «нашествие». Одноэтажный, в основном деревянный в то время город вынужден был потесниться. Заселили кухни, ванные комнаты, подвалы, чердаки, все, что имело хоть какие-то стены и крышу. Жили в клубе, в спортивном зале. Строили бараки и землянки. А в общежитиях стояли двухъярусные нары, и помещалось там в одной комнате 46 парней.
Бусыгину выделили топчан сначала в подвале одного из пятиэтажных домов. Потом – «пошел на уплотнение». Этот светловолосый, спокойный паренек, пришелся по душе семье челябинского рабочего. Да и дома он бывал редко, очень редко. Все дни и многие ночи проводил в своем «СБ-2».
Это только название старое, ленинградское. Да начальство прежнее. И половина народу в цехе – кировцы. Остальные – ремесленники – бледные, оборванные, да усталые женщины с кошелками и судками. Что поделаешь – воина.
У «СБ-2» еще не было крыши. Холод адский. Обогревались мангалами – так назывались бочки из-под карбида, в которых горел кокс: через дыры шло тепло и пыхал едкий дым. Под корпусами танков разводили костры: из-за холода к броне нельзя было прикоснуться – обжигало руки. Но танки, несмотря ни на что, собирались. В цехе стоял сизый туман, это – сгущенные на морозном воздухе бензиновые пары и выхлопные газы.
Василий Иванович Демин, сосредоточенный и серьезный, как всегда спокойный, спросил:
– Как устроился, Никола?
– Порядок.
– Продуктовые получил?
– Ага.
– Ватник дали – это вижу. Варежки. Шлем танкистский. Добро. А с обувью – дрянь дело, так?
– Обещали валенки.
– Тогда хорошо. Ну, становись на свое место, друг-приятель.
Не было артиллерийских обстрелов, бомбежек, воя сирен. Было сытнее. Но распорядок дня такой же, как в Ленинграде: работали почти по две смены. И работа та же: сборка и регулировка тяги – дело, хорошо освоенное Бусыгиным и не столь уж и мудреное.
Пришел мастер – свой, ленинградский. Он коренаст, невысок ростом. Длинноногий, худой Бусыгин на полголовы выше. Мастер смотрит на Николая, усмехается в густые усы щеточкой:
– Ты, Бусыгин, волосы запрячь под шлем. Они у тебя льняные, и все смазочное хозяйство на них виднеется… Убери волосы. Ишь, беляк какой… Ну вот, порядочек. Велено мне рассказать всем об условиях работы. Знаком?
– Не-ет. Какие условия?
Мастер как-то горестно покачал головой, смущенно провел пальцами по усам.
– Условия вот какие. Выполнил норму – «спасибо». Выполнил две – бутерброд с селедкой. Агитация простая: пусть каждый поднатужится и сделает две нормы – не ради селедки, а святого дела ради: из цеха выйдут еще два лишних танка. А каждый танк прикроет собой в атаке тысячу бойцов. Значит, спасем еще две тысячи наших воинов. Все ясно?
– Ясно.
– Ну, давай, Бусыгин, вкалывай. – И после паузы добавил: – По-ленинградски. – Усмехнулся: – И по-уральски.
Через некоторое время Бусыгину поручили центровку коробки перемены передач с бортовыми редукторами и мотором. Дело это куда сложнее, требовало не только сноровки, но и смекалки.
Василий Иванович не сводил глаз со своего подопечного. Он не только объяснял Бусыгину, как лучше подступиться к делу, но и все показывал сам, своими большими и ловкими руками. А потом спрашивал:
– Все ясно?
– Ясно, Василий Иванович.
– Тогда давай разок проделай практически.
Бусыгин по десять раз повторял одну и ту же операцию, репетировал каждое движение. За смену так умаялся, что сил не было двинуть ногой, руку поднять. Смотрел на бригадира и думал: «Может, в душе проклинает меня Василий Иванович, мучается из-за моей неопытности». Но когда закончил работу, Демин сказал Николаю: – Вот так, друг-приятель, надо нам работенку эту осваивать. Времени у нас, сам знаешь, в обрез. Дни – считанные.
– А сколько дней? – спросил Бусыгин.
Демин поднял на него глаза:
– Чего сколько?
– Репетировать… Сколько дней?
– Не знаю, Николай. От тебя зависит. Из десяти только один осваивает центровку более или менее за месяц, остальные – дольше, много дольше. А сейчас время военное – надо быстрее.
Но Василий Иванович не торопил его, а терпеливо и настойчиво обрабатывал каждую деталь. И тихо басил: «Уяснил, Никола?»
– Да уяснил я, Василий Иванович, уяснил, – не вытерпел Бусыгин. – Чего вы со мной нянчитесь, ей богу, не ребенок ведь. – И уверенно добавил: – Я сам сумею.
Не наивность Бусыгина разозлила Демина, а его самонадеянность, нетерпеливость.
– Слушай, что тебе говорят, – отрезал он. – Слушай и на ус мотай. – Смягчившись, должно быть, прибавил: – Тебе сколько лет? Шестнадцать… В шестнадцать лет человек уже должен нести полную ответственность за свое прохождение жизни. И в работе пора мастером стать. А это, можно сказать, привычка к высоте. У тебя, Никола, эта привычка еще не выработалась. А стремиться к этому ты обязан. Ясно?
Николай, нахмурившись, молчал.
– Опасный ты человек, Бусыгин, – сказал Демин.
– Даже опасный, – усмехнулся Николай.
– Чего ухмыляешься? Правда опасный. Я тебе после работы кое-что покажу…
Вечером Демин позвал с собой Бусыгина. Они вышли из проходной завода.
Демин молча шагал впереди – огромный, сильный, рассерженный. Бусыгин шел по его следам.
Наконец пришли. У палаточного городка, прижавшегося к железнодорожной ветке, на большой заснеженной площадке стояли разбитые, истерзанные танки «КВ». Видимо, их недавно разгрузили и не успели привезти на завод.
Демин повернулся к Бусыгину. Сказал, словно отрезал:
– Ну-ка, погляди, друг-приятель…
Бусыгин подошел к танкам. Смотреть на них больно: пробиты насквозь, с развороченными корпусами и башнями; казалось, это – не стальные машины, а живые существа, опаленные войной, истерзанные в страшных столкновениях с лютым врагом.
– Смотри, смотри, Никола, ты во внутрь загляни…
Внутри танка раны казались еще более страшными: здесь везде были видны засохшие бурые Пятна крови.
Бусыгин вылез из танка оглушенный и расстроенный.
– Ну что, видел? – спросил Демин.
– Видел.
– Что увидел?
– Кровь.
– Ага, кровь. Кровь танкистов. А кровь людская – не водица, друг-приятель. Ты спроси вон того танкиста – откуда кровь? Думаешь, всегда враг оказывался более умелым, более сильным? Иногда бывает так: центровка коробки перемены передач с бортовыми редукторами и мотором сделаны неверно, плохо, безответственно. И в бою поломалась коробка передач. Может так случиться?
– Конечно.
– Нет, не может, не должно. Предположим даже один случай из тысячи. Теперь реши, друг-приятель, такую задачу: а сколько это крови людской, а? Что, молчишь? Вот почему и сказал я тебе: опасный ты, Бусыгин, человек, о цене человеческой жизни не думаешь. Работу тебе поручили ответственную, а она сама ведь не делается – руки ее выполняют, умелые рабочие руки. Умелые, понимаешь?
– Понимаю.
– Ну и молодец. Ты просто талант – все на лету ловишь… Не жалей пота, Бусыгин, когда дело идет о людской крови, – сказал Демин голосом, перехваченным волнением. И, резко повернувшись, крупно зашагал к заводской проходной.
Николай словно онемел от «деминского урока». Он медленно пошел по следу бригадира.
Навстречу шел танкист, одетый в полушубок, на голове у него поверх бинтов танковый шлем.
– Что, парень, страшно? – спросил он, кивнув на разбитые танки.
– Страшно, – ответил Бусыгин.
– Война. Куда ни пойдешь – везде огонь. И огонька подсыплют так, что землю руками грызть будешь.
– Верно, – сказал Бусыгин. – Все понятно. – И молча пошел дальше.
«Почему рассерчал Василий Иванович? – размышлял Бусыгин. – Ни сном, ни духом ни в чем не виноват… Разве не стремился к мастерству, о котором говорил Демин? Не чувствует бригадир его, Николая, мечту. Ох, как обжигало это неутоленное желание, страстная надежда – быстрее все постичь, чтобы стать испытателем танков. Таким, как Константин Ковш!» – Так размышлял Бусыгин, шагая по протоптанной в глубоком снегу дорожке. Перед ним возникли то смертельно раненные танки, то кровь воинов на сиденьях и на броне.
«Знал бригадир, куда привезти, – размышлял Бусыгин. – Всю душу вывернул наизнанку…»
Николай тепло подумал о своем бригадире, у которого открытая душа и обнаженное сердце. Ах, этот «деминский урок»! Как он остудил и как подхлестнул Бусыгина!
Вся жизнь проходила на заводе, другой жизни не было. Изредка кто-то из ленинградцев прорывался через блокадное кольцо и привозил в Челябинск целый мешок с письмами от родных и близких. От этих весточек на сердце становилось еще горше: из осажденного родного города приходили страшные вести, от которых холодело сердце. Люди умирали от голода, гибли под снарядами. Одно утешало: ленинградцы стояли стойко и никакие беды и невзгоды не заставили их согнуться.
Читая коротенькое материнское письмецо, Николай плакал, не стесняясь слез. Ему до боли жаль было мать, сестер. За дни эвакуации он не отрешился от той, ленинградской, блокадной, жизни. Его не покидало щемящее чувство привязанности и благодарности к городу, где начал свою жизнь. Но бывали минуты, когда Бусыгину казалось, будто он всегда жил вдалеке от фронтового города, в безопасности и относительной сытости. А на самом деле, и месяца еще не прошло с тех пор, как «Дуглас» перенес его на своих крыльях через Ладогу.
Перед самым Новым годом Бусыгин пошел во второй механический: Демин велел ему выяснить, почему там вышла заминка с поставкой на сборку некоторых деталей.
– Только ты, Николай, быстро: одна нога тут, другая – там.
– Все понял.
Бусыгин помчался во второй механический. У него была и другая, своя задача – повидать своего земляка Васю Гусева, поговорить – нельзя ли как-то по-человечески встретить праздник.
Цех, в котором работал Гусев, был меньше сборочного, но тоже огромный, новый. Он казался уютнее. Но и здесь было ужасно холодно.
Оказалось, что Вася успел завоевать известность в цехе. Когда Бусыгин спросил одного парнишку, где найти токаря Гусева, тот сразу же откликнулся:
– А, «землячок-смолячок», наш знаменитый, трижды прославленный, четырежды прогремевший! Во-о-он твой Гусев, из-за станка шапочка меховая торчит.
– Здорово, Вася.
Гусев, не отрываясь от работы, взглянул на Бусыгина.
– А-а-а, братец-ленинградец! Как жизнь?
– Цветет.
– Какой тут цвет: от холода зубы заходятся.
– А у тебя как, Вася?
– Вкалываю, аж зимой в поту. Иначе нельзя Одна беда: весь мой ленинградский запас победитовых пластин кончается.
Николай вспомнил «деминский урок» там, у разбитых танков, и рассказал об этом Гусеву.
– Не обижайся на Василия Ивановича, – сказал Вася, – золотой он человек, путиловец кровный, по всем статьям.
– Что ты, Вася, – встрепенулся Бусыгин, – разве можно, у меня и в мыслях нет. Я хотел…
– Хотел, хотел, да хотелка сдала, – ядовито и зло перебил Гусев. – Демин прав: кровь людская– – не водица. Танк, сделанный умными руками, – это жизнь, плохой танк – это гибель, смерть. Так что уж, братец-ленинградец, пота своего не жалей. Кровь бойцов сбережешь. Такие вот дела, Коля Бусыгин… Ну, чего надулся? Обиделся?
– Не обиделся я. Досадно только: все мне лекции читают – «Бусыгин делай так», «Бусыгин поступай эдак». А, к твоему сведению, Колька Бусыгин вкалывает до седьмого пота и норму выполняет на сто двадцать. Понятно?
– Мало, – спокойно сказал Гусев.
– Как это «мало»?
– Мало, говорю. Ты об Анне Пашниной слышал, из агрегатного цеха?
– Ну?
– Ее комсомольско-молодежная бригада дает сто пятьдесят процентов плана.
– Вот так девка! – восхитился Бусыгин.
Комсомольско-молодежная бригада Ани Пашниной в то время действительно стала широко известной на заводе. Крепенькую, невысокую девушку, одетую в жакетку защитного цвета, ее красный берет и не по размеру сапоги можно было увидеть рано утром, когда она входила в агрегатный цех рядом с отцом – пожилым и сильным человеком, старым тракторостроителем.
Аня стала к фрезерному станку ученицей за три дня до начала войны, и освоение профессии шло неимоверно быстро, темпами поистине военными. Рядом стояли сверлильные, фрезерные, долбежные, строгальные станки. И на них такие, как Аня, девчата. Маленькая, круглолицая Аня Парфентьева с шапкой курчавых волос. Сменщица Ани ленинградка Шура Садикова – девушка крупная, остроглазая, отчаянная. И еще Лиза Анфилофьева – она казалась хрупкой и прозрачной, а на самом деле – выносливая, смелая и веселая. Потом Рая Моисеева, певунья и плясунья, которая никогда на месте не сидела. И полная ей противоположность – Зиночка Ларина, плавная, как лебедушка, с плавной речью, будто она словами кого-то одаривала.
Вот такая она бригада Пашниной, которую в пример ставил Бусыгину его приятель Вася Гусев.
– А чем они берут? – спросил Николай.
– Поглядеть надо. После смены пойду к ним, погляжу – что к чему. А с Анкой я толковал.
– И что?
– Все просто: вместе техпроцесс обсуждают, все учатся в стахановской школе. Потом – взаимовыручка. В общем ничего особенного, старая песня: один за всех, все за одного. Комсорг Нина Зайцева мне сказала: девчата работают художественно.
– Это как понять? – пожал плечами Бусыгин.
– Я так понимаю: то есть с огоньком, с выдумкой, с поиском лучшего. Нинка Зайцева – девчонка умная, она скажет – так скажет. Она там всему голова, заводила.
Николай подумал о чем-то своем, улыбнулся, потом сказал:
– Вася, пригласи Анку Пашнину и всех ее девчат Новый год встречать… И я с вами.
– Давай!
Девушки из бригады Пашниной без всяких церемоний согласились встретить Новый год вместе с бригадой Гусева. К ним примкнул и Бусыгин. Демин и другие члены его бригады, кроме Николая, были с семьями – что же с ними делать Бусыгину? Хотя звали и уговаривали все.
Собрались в одной из комнат общежития. Вина было – по одному глотку, зато много винегрета и смеха.
Девчата закидывали парней «критическими снарядами». А парни разговаривали чуть повышенно, чуть бодрее и острее, чем обычно. И хотя вечер был новогодний, разговор сразу принял «производственный» уклон.
– Чего это, – сказал Гусев, – вы назвали свою бригаду именем Гастелло? Свою отчаянность хотите подчеркнуть?
– Почему же отчаянность, – спокойно и тихо ответила Аня. – Верность и непреклонность – вот что.
– Та-а-ак, – протянул Вася. – А если наша бригада у вас первенство отберет?
Лиза Анфилофьева усмехнулась.
– Сказала Настя: як удастся.
– Удастся, – уверенно ответил Гусев.
Аня, услышав слова Гусева, ответила:
– Васенька, в перваках ходить нелегко, первенство трудно заслужить, но еще труднее удержать. И ты не терзай себя, не занимайся самоедством. Первенство не отдадим. Вы бы пока бригаду Саши Садиковой догнали.
Вася аж подпрыгнул от этих слов.
– Ой, держись, Анка! Если мы вас не обгоним, то как же после этого с товарищами разговаривать буду?
Говорил Вася волнуясь и бледнея. Маленький, худой, он в эти минуты как бы вырастал.
– Нет, Аня, нет, девушки, не отступим мы, первенство мы у вас обязательно заберем, – говорил Вася.
– Это каким же образом? – растягивая слова, иронически спросила Зина Ларина.
– Нам совесть не позволит… Понимаешь, какое дело… Если мы вас, девчат, не обгоним, то я всю жизнь буду чувствовать себя виноватым: не сделал я все, что мог для спасения солдата. Сам не воюю, солдата не спас. Моя вина.
– Ну, Вася, – укоризненно покачала головой Аня, – загнул философию. Нет никакой твоей вины.
Гусев встал яростный и злой:
– Не виноват – а города фашистам отдаем. Не виноват – «похоронки» идут и идут… На всех нас вина. И смыть ее можно только работой, работой, работой…
Наступило какое-то неловкое молчание.
– Мальчики, – вскочила Рая Моисеева, – что-то грустно получается. Какой же это Новый год! А ну – песню!
Запели.
Потом снова пошли разговоры о своей жизни, о том, как будут жить после войны, но сначала надо было бы ответить на два других вопроса: когда победим и доживем ли до победы.
Приехал на завод Климент Ефремович Ворошилов. Собрали рабочих. Слушали, что говорил член Государственного Комитета Обороны, маршал. Он никого не утешал, ничего не обещал. Рассказал о том, как трудно приходится воинам на фронтах, и закончил свое выступление такими словами:
– Мы просим вас: сделайте все, чтобы фронт получил больше танков.








