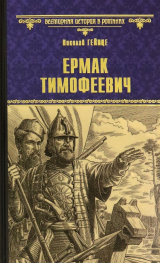
Текст книги "Ермак Тимофеевич"
Автор книги: Николай Гейнце
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
IV
Сила любви
Обморок с Ксенией Яковлевной был очень продолжителен. Сенные девушки раздели её, уложили в постель, а она всё не приходила в себя, несмотря на то что Антиповна опрыскала свою питомицу водой, смочила голову винным уксусом, давала нюхать спирт. Ничего не помогало.
Ксения Яковлевна лежала неподвижно на своей постели без кровинки в лице, и лишь теплота тела да слабое биение сердца указывали, что она жива.
Старуха окончательно растерялась и побежала к Семёну Иоаникиевичу.
– Что случилось? – встревоженно спросил тот.
– Обмерла, батюшка, обмерла Ксенюшка.
– С чего же это?
– А Господь её ведает… Сама не знаю, с чего… Вдруг обмерла и упала, да теперь вот с час поди пластом лежит.
– При тебе это случилось?
– Никак нет, батюшка Семён Аникич, я в рукодельной сидела.
– А Аксюша одна была?
– Нет, с Домашей.
– Опросила её?
– Опросила…
– Что же она сказывает?
– Да стояли, гыть, у окна. Вдруг как-то вскрикнет, да на пол и упади. Домаша-то не успела и поддержать…
– Вот напасть-то…
– Истинно напасть, батюшка Семён Аникич. Раздели мы её, в постель уложили, в себя не приходит. Уж чем только я её не пользовала… Надо бы позвать Ермака Тимофеевича…
– Иди ты с твоим Ермаком Тимофеевичем, – крикнул было в сердцах Семён Иоаникиевич, но вдруг остановился и более мягким тоном произнёс: – Сам-ка я пойду посмотрю её…
Семён Аникич вместе с Антиповной отправился в опочивальню племянницы. В уме его происходила тяжёлая борьба. «Ужели придётся звать снова Ермака после того, как часа два тому назад он решил запретить ему встречаться с Ксенией. И с чего могла приключиться вдруг такая хворь с нею? Уж не проведала ли о его сговоре с Ермаком? Да и откуда узнать ей? С ним она не виделась… Он не посмел бы пойти в светлицу против его воли…»
Но для полного успокоения он всё же спросил у Антиповны:
– Ермак был?
– Не бывал ноне… Пришёл было, я его к тебе, батюшка, послала, а потом он не возвращался… Кабы был, може, того и не приключилось…
– Это почему же?
– Увидал бы он, что худо становится девушке, чем ни на есть бы пользовал.
– А-а, – протянул в ответ Семён Иоаникиевич.
Он вошёл в светлицу, где застал сенных девушек, сбившихся в кучу и о чём-то оживлённо беседовавших шёпотом. Увидев Семёна Иоаникиевича и Антиповну, они бросились по своим местам и притихли. Хозяин прошёл в следующую горницу.
– У какого окна она упала-то? – спросил Строганов.
– Вот у этого, батюшка, Семён Аникич, у этого…
Она указала окно, у которого обыкновенно в последнее время стояла Ксения Яковлевна. Семён Иоаникиевич посмотрел в это окно. Изба Ермака Тимофеевича с петухом на коньке бросилась ему в глаза. Он понял всё.
«Она видела, как Ермак шёл сюда и как возвращался отсюда. Она догадалась», – промелькнуло в его уме. Он молча пошёл в опочивальню.
Ксения Яковлевна продолжала лежать без движения на постели. У её ног на табурете сидела Домаша, печальная и в слезах. Она встала и низко поклонилась Семёну Аникичу. Старик Строганов грузно опустился на табурет и несколько секунд пристально смотрел на лежавшую недвижимо племянницу.
– Пошли, Антиповна, кого ни на есть за Ермаком Тимофеевичем, – сказал он наконец с видимым усилием.
Антиповна вышла с быстротой, не свойственной её летам. Семён Аникич остался с Домашей у постели больной.
– Чего это с ней? – шёпотом спросил он девушку.
– Не ведаю, сама не ведаю…
– Ой ли…
Домаша густо покраснела.
– Выкладывай всю правду лучше, – так же шёпотом, с оттенком строгости продолжал Строганов. – Ждала она ноне Ермака?
– Ждала…
– В окно смотрела?
– Смотрела…
– И видела, как он назад пошёл?
– Видела.
– В ту минуту с ней и приключилось…
– В ту же минуту…
– Что же сказала?
– Да проговорила только: «Что это значит?» Я сдуру-то молви: «Кажись, и впрямь что стряслось», а она и рухни…
– А ты всё знала?
– Да что знать-то?
– Про Ермаковы шашни.
– Никаких шашень я не видала.
– Толкуй там… Я всё знаю. Он мне сознался.
– В чём ему сознаваться-то, не ведаю… Что любят они друг друга, так какие же это шашни?
– А тебе что ещё надобно?..
Этот разговор был прерван вернувшейся Антиповной.
– Послала?
– Послала, батюшка Семён Аникич, послала… Чай, скоро теперь и прибудет. Дай-то Господи, как бы опять вызволил.
Старушка истово перекрестилась.
В опочивальне наступила тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием бесчувственной Ксении Яковлевны.
Время, казалось, тянулось томительно долго. Наконец в соседней горнице послышались торопливые шаги. Антиповна бросилась к двери и отворила её. В опочивальню вошёл Ермак Тимофеевич, бледный, встревоженный. Он как бы не замечал никого, остановился у постели Ксении Яковлевны и с немым ужасом уставился на бесчувственную девушку.
Семён Иоаникиевич встал и приблизился к нему.
– Уж, видно, такая судьба твоя, Ермак Тимофеевич… Вишь, какая беда стряслась, как только удалил тебя… – тихо произнёс он.
Ермак обвёл его помутившимся взглядом.
– Так и убить недолго! – прошептал он.
– Уж ты, как ни на есть, вызволи…
– Вызволи, батюшка свет наш Ермак Тимофеевич, – с воплем бросилась ему в ноги Антиповна.
Ермак быстро наклонился и поднял старуху.
– Что ты, что ты, Богу кланяйся, а не грязным людям, – сказал он. – Не сумлевайся, постараюся… Только вот что… Уйдите отсюда все, кроме Домны Семёновны, она может остаться… Чистая девушка… Отчитать её надо, наговором…
Семён Иоаникиевич бросил на Ермака Тимофеевича недоумевающий взгляд, отошёл от него и сел на табурет.
Антиповна также не двинулась с места.
Ермак Тимофеевич несколько минут молчал, затем подошёл к старику Строганову, наклонился к его уху и сказал властным шёпотом:
– Слушай, купец, коли ты позвал меня сюда, так делай, что я приказываю… А не то я уйду, и она умрёт, не приходя в себя… Ты будешь её убийцей, да и моим, потому что я не переживу её смерти. Нож в сердце и шабаш, других без промаха прирезывал наповал, так себя-то сумею.
Лицо Ермака было страшно. На нём застыло выражение бесповоротной решимости. Семён Иоаникиевич взглянул на Ермака и быстро встал.
– Пойдём, Антиповна… – обратился он к няньке Ксении Яковлевны.
Та послушно последовала за ним. Домаша плотно затворила за ними дверь и отошла в дальний угол опочивальни. Ермак Тимофеевич положил обе руки на плечи лежавшей без чувств девушки, низко наклонился над ней и впился в её губы горячим поцелуем.
Это произвело почти волшебное действие. На щеках девушки вдруг появился яркий румянец. Она открыла глаза и уже сама протянула ему губы.
– Милый, желанный!
Он поцеловал её второй раз.
– Легче тебе, касаточка?
– Теперь хорошо! – потянулась она в сладкой истоме.
На висках Ермака Тимофеевича налились кровью жилы, губы дрожали, но он осилил своё волнение.
– Отчего ты ноне не пришёл?
– Прознал всё Семён Аникич.
– Ты сказал?
– Нет.
– Кто же?
– Максим Яковлевич. Да ты не тревожься, он за нас, – успокоил её Ермак Тимофеевич.
– А дядя?
– Тот пополам с горем.
– Как так?
– Да так…
И Ермак Тимофеевич в коротких словах передал Ксении Яковлевне свой разговор с Семёном Иоаникиевичем, но не стал пока говорить о намеченном им походе за Каменный пояс. Он понимал, что это известие огорчит и снова резко возбудит едва оправившуюся девушку.
– Значит, и дядя согласен… Слышишь, Домаша?
– Слышу, – откликнулась девушка из глубины опочивальни. – Говорила я, что всё уладится…
– Согласен-то он согласен, – заметил Ермак Тимофеевич, – но до получения царского прощения просил не бывать ни ногой не только в твоей светлице, но и в хоромах, да и намедни не пустил меня. Здорова-де она, так нечего зря и ходить. Иди с Богом домой… Я и пошёл.
– И не посмотрел даже в нашу сторону, – тоном упрёка сказала Ксения Яковлевна.
– Тяжко мне было, моя касаточка!
– Милый, желанный!
Она протянула ему свои руки. Он снова склонился к ней.
Она обняла его руками за шею. Губы их слились в горячем поцелуе.
– Э, да ну вас! Довольно вам миловаться, пора и честь знать, – не выдержала Домаша.
– И впрямь довольно, – дрожащим голосом произнёс Ермак Тимофеевич, тихо освобождаясь от объятий Ксении Яковлевны.
– А теперь-то ходить будешь? – спросила тоже дрогнувшим голосом молодая Строганова.
– Теперь, кажись, настою, чтобы ходить, потому что позвал… Не я напрашивался, ну, да и пугнул я его достаточно.
– Пугнул, говоришь?..
И Ермак передал Ксении Яковлевне то, что сказал Семёну Иоаникиевичу перед его уходом из опочивальни.
– Кажись, на него это подействовало, – заключил он.
– Он добрый, – задумчиво проговорила Строганова.
– Впустить, что ли? Пора уж, – спросила неожиданно Домаша.
И Ермак и Ксения Яковлевна вздрогнули. Они только сейчас вспомнили, что их свидание с глазу на глаз не бесконечно.
– Впусти, девушка, – сказал Ермак.
Домаша отворила дверь. В опочивальню вошли Семён Иоаникиевич и Антиповна. На их лицах было написано тяжёлое сомнение, но, когда они увидели пришедшую в себя Ксению Яковлевну, улыбающуюся, с румянцем на щеках, их лица тотчас озарились счастливой улыбкой.
– Ну и знахарь же ты, свет наш Ермак Тимофеевич! – с умилением воскликнула Антиповна.
– Вот она, сила любви! Как с ней бороться! – прошептал Семён Иоаникиевич Строганов. – Пусть видятся… Только бы здорова была… Надо послать челобитную.
V
Московские страхи
Яков между тем ехал да ехал по дороге в Москву. Путешествие его шло благополучно.
Первое время он думал было последовать совету Ермака Тимофеевича и вернуться, отъехав на несколько сотен вёрст, с заявлением, что его ограбили лихие люди, но молодое любопытство взяло верх над горечью разлуки с Домашей, и он в конце концов решил пробраться в Москву, поглядеть на этот город хором боярских и царских палат, благо он мог сказать Семёну Иоаникиевичу, что лихие люди напали на него под самой Москвой. В его голове созрел для этого особый план.
Он решил в Москве явиться к боярам Обносковым, заявить, что он гонец строгановский, но что лихие люди, напавшие на него под Москвою, отняли у него казну и грамотку, адресованную Степану Ивановичу Обноскову, а что заключалось в этой грамотке ему, гонцу, неведомо. На вопросы бояр Обносковых он рассчитывал найти уклончивые ответы, о многом отзываться незнанием, и достичь того, что бояре дадут ему грамотку к Семёну Иоаникиевичу Строганову и казны на обратный путь. Он купит обнов и гостинцев Домаше и, не задерживаясь долго в Москве, поедет в обратный путь.
Таков был его радужный план. Но главная заманчивость этого плана была в том, что он увидит Москву. И по дороге, от многих проезжих и прохожих людей, он слышал о ней самые необычайные рассказы. Все, впрочем, рассказчики сходились на том, что ноне на Москве жить жутко, да и приезжему надо держать ухо востро, иначе попадёшь под замок, а оттуда уж и не выйдешь. Особенные ужасы рассказывали об Александровской слободе, хотя удостоверяли, что жизнь там для опричников и полюбившихся им людей не жизнь, а Масленица.
Все эти рассказы и даже сама опасность жизни в Москве ещё более воспламеняли воображение Якова. Он решил довести своё путешествие до конца и даже стал спешить.
В Москве между тем действительно жить было трудно. До народа доходили вести одна другой тяжелее и печальнее. Говорили, конечно, шёпотом и озираясь, что царь после смерти сына не знал мирного сна. Ночью, как бы устрашённый привидениями, он вскакивал, падая с ложа, валялся посреди комнаты, стонал, вопил, утихал только от изнурения сил, забывался в минутной дремоте на полу, где клали для него тюфяк и изголовье. Ждал и боялся утреннего света, страшился видеть людей и явить на лице своём муку сыноубийцы.
Все эти вести доходили до народа от рядовых опричников, имевших среди московского населения родственные и иные связи.
Затем по Москве разнеслась роковая весть, что царь отказывается от престола и приказал боярам избрать из своей среды государя достойного, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство, так как сын его Фёдор неспособен, по его мнению, управлять государством. Бояре изумились этому предложению. Одни верили искренности Иоанновой и были тронуты до глубины души. Другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли и что и им и тому, кого они признали бы достойным царского венца, не миновать лютой казни.
– Не оставляй нас, не хотим царя, кроме Богом данного, – тебя и твоего сына, – отвечали бояре в один голос.
Иоанн как бы против воли согласился оставить на себе тягость правления, но удалял от глаз своих все предметы величия, богатства, пышности. Он облёк себя и двор в одежду скорби.
Всё это не могло не поражать воображения московского народа. Но ещё больше поверг его в смятение распространившийся слух о затеянной царём перемене веры. Поводом к этому слуху было прибытие в Москву римского посла, иезуита Антония Поссевина, игравшего некоторую роль при заключении мира со Стефаном Баторием или, лучше сказать, приписавшего себе эту роль, так как, справедливо замечает Карамзин, не ходатайство иезуита, но доблесть воевод псковских склонила Батория к уверенности, не лишив его ни славы, ни важных приобретений, коими сей герой был обязан смятением Иоаннова духа ещё более, нежели своему мужеству.
Несомненно, что Антоний Поссевин думал воспользоваться благодарностью царя и исполнить старый, но вечно новый, замысел Рима о соединении церквей. Вот объяснение слуха, проникшего в народ и вызвавшего смятение православных сердец.
Но беспокойство было неосновательно. Царь Иоанн оказался перед этой попыткой Рима на высоте православного монарха. Вот как описывает сам Поссевин в своих записках подробности этого события:
«Я нашёл царя в глубоком унынии. Сей двор пышный казался тогда смиренной обителью иноков, чёрным цветом одежды изъявляя мрачность души Иоанновой. Но судьбы Всевышнего неисповедимы – сама печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения».
Изобразив важность оказанной им услуги государству российскому доставлением ему счастливого мира, Антоний прежде всего старался уверить Иоанна в искренности дружбы Стефана Батория и повторил ему слова последнего:
– Скажи государю Московскому, что вражда угасла в моём сердце, что не имею никакой тайной мысли о будущих завоеваниях, желаю его истинного братства и счастья Россия. Во всех наших владениях пути и пристани должны быть открыты для купцов и путешественников той или другой земли к их обоюдной пользе: да ездят к нему свободно и немцы и римляне через Польшу и Ливонию! Тишина христианам, месть разбойникам крымским! Пойду на них: да идёт и царь! Уймём вероломных злодеев, алчных на злато и кровь наших подданных. Условимся, когда и где действовать. Не изменю, не ослабею в усилениях, пусть Иоанн даст мне свидетелей из своих бояр и воевод! Я не лях, не литвин, а пришелец на троне, хочу заслужить в свете доброе имя навеки.
Но царь Иоанн Васильевич, выразив признательность за дружественное расположение Стефана Батория, заявил, что он уже не в войне с крымским ханом. Посол наш, князь Михайло Масальский, живя несколько лет в Тавриде, наконец, заключил перемирие с ханом. Это было вызвано тем, что Махмет-Гирей имел нужду в отдыхе, будучи изнурён долголетнею персидскою войною, в которой он помогал туркам и которая спасла Россию от его опасных нашествий в течение пяти лет.
Далее Антоний приступил к главному делу: требовал особой беседы с царём о соединении вер.
– Мы готовы беседовать с тобою, – сказал Иоанн, – но только в присутствии наших ближних людей и без споров, если возможно, ибо всякий человек хвалит свою веру и не любит противоречия. Спор ведёт к ссоре, а я желаю тишины и любви.
В назначенный день Антоний с тремя иезуитами был призван в тронную палату, где застал царя, окружённого боярами, дворянами и служивыми людьми.
Ответив на приветствие посла, царь Иоанн Васильевич сказал:
– Антоний, мне уже пятьдесят один год от рождения и недолго жить на свете: воспитанный в правилах нашей христианской церкви, издавна несогласной с латинскою, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда небесного близок: он и явит, чья вера, ваша ли, наша ли, истинная и святая. Но говори, если хочешь.
Антоний с жаром начал свою речь:
– Государь светлейший! Из всех милостей, мне оказанных, самая величайшая есть сие дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения душ христианских. Не мысли, о государь, чтобы святой отец нудил тебя оставить веру греческую: нет, он желает единственно, чтобы ты, имея деяние первых соборов и всё истинное, всё древнее извеки утвердил в своём царстве, как закон неизменяемый. Тогда исчезнет различие между восточной и римскою церковью, тогда все мы будем единым телом Иисуса Христа, и радости единого истинного, Богом установленного пастыря церкви. Государь! Моля святого отца доставить тишину Европе и соединить всех венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли ты сам главного уважения к апостольской римской вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по его святым обрядам, – ты, царь великий, никем не водимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею Царя Царей, без коей и лист древесный не падает с ветви? Сей желанный тобою общий мир и союз венценосцев может ли иметь твёрдое основание без единства веры? Ты знаешь, что оно утверждено собором форрентинским, императором, духовенством греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Кендором, читай представленное тебе деяние сего восьмого вселённого собора, и если где усомнишься, то повели мне изъяснить тёмное. Истина очевидна: приняв её в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой ты достигнешь славы, какого величия? Государь, ты возьмёшь не только Киев, древнюю собственность России, но всю империю Византийскую, отнятую у греков за их раскол и неповиновение Христу Создателю.
Антоний умолял и глядел в очи царя, ожидая ответа.
– Мы никогда не писали папе о вере, – спокойно ответил Иоанн. – Я и с тобою не хотел бы говорить о ней: во-первых, опасаясь уязвить твоё сердце каким-нибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты поп и для того ты приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие, мы верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких новых государств в сём земном свете, желаю только милости Божией в будущем.
Антоний заговорил снова, утверждая, что русские новички в христианстве, что Рим есть древняя его столица.
Царь начал досадовать.
– Ты хвалишься православием, – сказал он, – а стрижёшь бороду. Ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие. Какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! Какое унижение святыни!
– Нет унижения, – возразил Антоний, – а достойное воздаяние достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов, сопрестольник апостола Петра, Христова сопристольника… Мы величаем и тебя, государь, как наследника Маномахова, а святой отец…
– У христиан, – прервал его царь Иоанн Васильевич, – один отец на небесах. Нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу, ученики же апостольские да смиренно мудрствуют. Нам честь царства, а папам и патриархам святительские. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения, но он ходит по земле и не возносится выше царей гордостью. Были папы действительно учениками апостольскими: Климент, Селиверст, Агафон, Лев, Григорий, но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище, как бы на облаке, как бы ангелом, кто живёт не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь…
– Если уж папа волк, то мне говорить нечего! – с негодованием воскликнул Антоний.
– Вот для чего не хотел я с тобою беседовать о вере! Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим…
Государь ласково положил руку на плечо Антония.
Народ не входил в подробности – его соблазняло необыкновенное царское уважение, проявляемое к римскому послу. Страхи его, однако, оказались напрасными.
Да простят мне дорогие читатели то небольшое историческое отступление от нити рассказа, необходимое для того, чтобы определить настроение русского царя и народа после несчастного окончания войны и невыгодного мира с Польшею, заключённого с потерею многих областей. Взамен этих областей, к понятной радости царя и народа, явилось целое Царство сибирское, завоёванное Ермаком Тимофеевичем, подвигнутым на это славное дело ожиданием царского прощения и любовью к Ксении Яковлевне Строгановой!
Одно вытекало из другого и обуславливало его.








