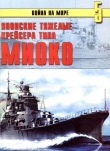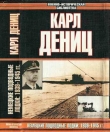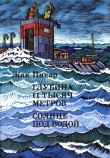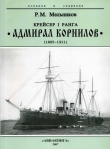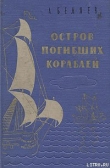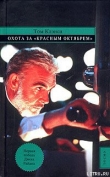Текст книги "Повседневная жизнь российских подводников"
Автор книги: Николай Черкашин
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
ТОРПЕДНОЕ МЯСО
Такого не было нигде и никогда: с затонувшей атомарины всплыли сквозь 45-метровую океанскую толщу свыше ста человек. Они все остались живы, кроме тех, кто погиб в первые же минуты аварии. Они погибли бы все, если бы не их командир – капитан 1 ранга Николай Суворов. Однако суд скорый и неправый приговорил его к десяти годам исправительных работ…
Приглашение в преисподнюю
До меня, как и до многих моряков, та не столь давняя трагедия дошла в виде мрачного анекдота: при погружении командир атомного подводного ракетносца забыл задраить верхний рубочный люк, и лодка ухнула на грунт Авачинской бухты. Потом состоялся самый массовый за всю историю подводного плавания исход с затопленной субмарины: сто с лишним человек выходили из торпедных аппаратов и всплывали на поверхность кто как мог. Запомнилась громкая фамилия злосчастного командира – Суворов, которая никак не вязалась с ее знаменитым родоначальником. И еще редкостный номер подлодки, состоявший из тридцати трех «чертовых дюжин»: К-429.
Счастливый случай свел меня в Петербурге с уволенным в запас капитаном 1 ранга Николаем Михайловичем Суворовым, и все подробности той невероятной истории я узнал, что называется, из первых уст.
Мичманы, в гидрокомбинезонах благополучно всплыли посреди бухты. Однако в точке погружения К-429 их никто не встретил. Силуэт торпедолова со спящим адмиралом на борту, маячил так далеко, что и не различался в запотевших стеклах маски. По великой случайности гонцов с затонувшей атомарины заметил выходивший в дозор пограничный корабль. Пограничники, как известно, народ очень бдительный, и потому сразу же решили, что имеют дело с иностранными подводными диверсантами, которые орудуют на подступах к базе атомных подводных лодок. Им и в голову не могло придти, что это – с в о и. Подойдя к барахтающимся подводникам поближе, они стали совещаться, как лучше брать «диверсантов». Пограничников можно понять: они никогда не видели подводников в их аварийных доспехах. А что как «боевые пловцы» откроют огонь при задержании? Отвечай потом за погибших матросов… Не лучше ли дать очередь из пулемета, а потом извлечь раненых врагов из воды?
Слава Богу, до превентивной стрельбы дело не дошло. Но даже когда мичманов подняли на палубу сторожевика, сняли с них легководолазное снаряжение, пограничники долго не хотели верить их взволнованным докладам о затонувшей лодке, ведь неизвестные лица были извлечены из воды без документов. Мало ли что могли насочинять?! В конце концов, командир корабля связался со своим начальством. Начальство запросило командование Камчатской флотилии – тонули ли у вас подводные лодки в заливе? Стали выяснять… А время шло.
Как не печально это констатировать, но о затонувшей атомарине Флотилия узнала не от руководителя стрельб контр-адмирала Ерофеева, а от пограничников. Только тогда начались шевеления.
Прошло мучительно долгих шесть часов после выхода мичманов, прежде чем подводники услышали над головой шум винтов спасательного судна.
Только в полдень мы поняли, что нас ищут. – Рассказывает Суворов. – Единственное в базе аварийно-спасательное судно находилось в межпоходовом ремонте. Команда по случаю воскресного дня была отпущена в город… В общем, закон подлости срабатывал во всей своей полноте.
Все-таки они вышли, но дальше началась классическая бестолковщина. Шланги для подачи воздуха оказались гнилыми, то и дело лопались. Водолазы не знали системы подключения и врубили нам такое давление, что от их помощи пришлось защищаться, как от еще одного бедствия. Единственное, что они смогли сделать, это обозначить наше место и установить звукоподводную связь. Правда, она была односторонней: нас запрашивали голосом через гидрофон, а мы отвечали ударами кувалды по корпусу. Лодка была обесточена.
Мы сообщили, что будем выходить через торпедный аппарат. Я велел проверить индивидуальные дыхательные аппараты, и тут выяснилось, что выходить в них нельзя: из ста комплектов только десять содержали в баллончиках кислород! Некоторые маски были рваные… Сказывалось то, что лодка после пятимесячного похода не прошла положенного ремонта и переоснащения.
Попросили водолазов передать нам баллончики через торпедный аппарат. Через какое-то время они сумели это сделать.
Только под вечер я начал выпуск людей. Всплывали по три человека – ровно столько умещались в трубе аппарата. Из кормовой – отрезанной от нас – части корабля подводники выходили через аварийно-спасательный люк Десятого отсека. Там у них вскоре случилась беда: молодой матрос за два метра до поверхности запутался ногой в буйрепе – тросе, по которому выходили моряки из кормы. Парень погиб от переохлаждения. Он был из штатного экипажа. Мои люди вышли все. Сказались былые – фактические – тренировки. Ведь те же легководолазные тренировки можно было быстро и без хлопот пройти за бутыль «шила» (спирта). Поставили всем в журнале зачет и свободны, как танки. Я же своих гонял через башню. Они всплывали у меня как миленькие. И вот – пригодилось…
Суворов в точности выполнял завет своего великого однофамильца: тяжело в ученье, легко в бою. Для всех ста двух подводников, сумевших преодолеть огонь, стальные трубы и воды сорокапятиметровой толщи, это испытание было самым настоящим боем.
Так уж у нас повелось: была бы авария, а герои найдутся. Кроме мичмана Лящука, героем надо назвать и мичмана Баева.
Баеву выпало покидать кормовой отсек последним. Проще всего было затопить отсек и выходить через шлюзовую трубу аварийного люка. Но тогда подъем лодки с грунта значительно бы затруднился. И Главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков, прилетевший из Москвы в район бедствия, попросил мичмана Баева так, как только он умел просить:
Сынок, если сможешь выйти, не затапливая отсек, – выходи. В награду получишь машину.
Сложность поставленной Баеву задачи можно представить по такой аналогии: человек балансирует на карнизе сорокового этажа небоскреба, он пытается влезть в окно, но его просят не разбивать стекло, а изловчиться и дотянуться до шпингалета, что открыть его с минимальными издержками. Как это удалось сделать Баеву – рассказ особый. На нижнем люке аварийного тубуса не было защелки. Суворов посоветовал по телефону снять защелку с переборочной двери. Мичман снял и прикрутил ее к крышке нижнего люка, потом изо всех сил тянул эту стокилограммовую крышку на себя, чтобы загерметизироваться в тубусе. Сравнял давление с забортным и благополучно вышел, не затопив отсека. Главком обнял его на палубе спасателя.
Обещанную автомашину Баев так и не получил, как не получил даже самой скромненькой медали. «Аварийщиков» в те годы награждать не любили.
По старой морской традиции последним покидает гибнущий корабль – командир. Это правило распространяется и на подводников с их весьма специфичными законами. Когда в носовом отсеке обезлюдевшей К-429 осталось двое, возник спор: кто должен выходить последним – капитан 1 ранга Суворов или старший на борту капитан 1 ранга Гусев? Это было и делом чести, и фактом будущего разбирательства. Потом, и Суворов это чувствовал куда как ясно, в вину ему будет поставлено все, за что только можно уцепиться. За двадцать лет службы он хорошо постиг нравы своего начальства… Главком приказал последним выходить Гусеву.
– Когда я вылез из трубы и оглянулся, – рассказывает Николай Михайлович, – увидел освещенную подводными светильниками рубку атомохода. Это было фантастическое, какое-то инопланетное зрелище. Оно и сейчас стоит перед глазами… Честно говоря, даже не хотелось возвращаться в наш замороченный злой мир.
Как только на палубе спасателя разжгутовали мой гидрокомбинезон, ко мне подскочил комдив Алкаев с журналом готовности к выходу в море. «Подпиши! – Умолял он. – Ведь оперативного подставишь. Он ни в чем не виноват!». Я был в шоковом состоянии. Подписал…
Спасая оперативного дежурного и свое перепуганное начальство, Суворов фактически подписал и свой приговор, поставил крест на флотской карьере, судьбе моряка… Тогда он еще и предположить этого не мог. Ведь был прав по всем статьям.
– Домой меня, разумеется, не отпустили. На плавбазе вовсю работали следственные комиссии: от прокуратуры Тихоокеанского флота, от особого отдела, от Главной военной прокуратуры. Меня передавали из рук в руки. Больше всех вокруг меня суетился Алкаев: «Михалыч, не говори им про это, не рассказывай про то… А уж мы тебя выручим!». Я поверил. К тому же сработало чувство, как это называют политработники, «ложного морского братства». И потом, у меня не было никакого чувства вины. Ведь вся ответственность за авантюрный выход в море лежала на тех, кто мне приказал это сделать – на Алкаеве и Ерофееве. Но последний ухитрился оказаться вне сферы внимания следственных органов. Как будто не он планировал этот выход, не он им командовал… Поначалу все было хорошо. Через неделю меня отпустили повидаться на часок с женой. Уж она пока мы лежали на грунте, чего только не пережила… Потом через два месяца лодку подняли. Водолазы закрыли наружные захлопки, продули цистерны, она сама и всплыла. Я же ставил ее в док. Надо было извлекать трупы из четвертого отсека. Корабельный врач идти туда убоялся. Пришлось мне лезть самому, опознавать, раскладывать бирки с номерами. Врагу не пожелаю такого занятия…
Смерть застала подводников на боевых постах. Каждый выполнял свой долг до конца… Местоположение тел свидетельствовало о том, что мы погружались по боевой тревоге, хотя некоторые следователи брали этот факт под сомнение.
Я облазил корабль сверху до низу, пытаясь найти причину аварии. Нашел. Для этого, правда, понадобилось поднять ремонтные ведомости, которые были составлены инженер-механиком перед постановкой К-429 в судоремонтный завод. Выяснилось, что виной аварийного затопления Четвертого отсека была неисправность блока логики в системе дистанционного управления клапанами вентиляции. На самом простом примере это можно пояснить так: вы открываете кран на кухне, а в это время срабатывает душ в ванной. Или включаете телевизор, а у вас вдруг начинает греться электроплита. У приборов ведь тоже крыша иногда едет. Так вот для штатного механика К-429 такой дефект новостью не был. Он на боевой службе во время погружения ставил в Четвертый отсек матроса-наблюдателя, который не давал сработать «зацикленной» команде. Однако моего механика Маркман об этом не предупредил. Более того, его рукой блок логики из ремонтной ведомости был вычеркнут. Почему? Отладить его могли только специалисты из Киева. Но лететь на Качатку в разгар сезона отпусков им не хотелось. И чтобы закрыть невыгодную заводу позицию, Маркман и вычеркнул злополучный блок, объяснив, что лодочный мичман-умелец «подогнул рычажок» и прибор заработал как надо. Этот «рычажок» и стоил жизни шестнадцати подводникам.
Орденоносный зэк
Спустя три месяца после аварии в Авачинском заливе, пришел приказ министра обороны: командира К-429-ой отдать под суд. Подобные приказы во времена Андропова были равносильны приговору. Снова началось следствие. Велось оно весьма целенаправленно: прежние следственные тома расшивались и сшивались заново, но уже без «неугодных» документов, которые вдруг «терялись». Допросы матросов и мичманов велись в таком тоне и с таким нажимом, что прокурор флота трижды был вынужден был одергивать ретивого следователя.
Суд скорый и неправый вынес приговор: десять лет исправительных работ в спецпоселении. При этом – уникальный казус в советском праве! – капитан 2 ранга Суворов не был лишен ни своего офицерского звания, ни ордена с медалями. Так и поехал орденоносный зэк в столыпинском вагоне через всю Россию: с берегов Тихого океана под Новгород, в Старую Руссу.
Николай Суворов: – Если бы я знал, что меня будут судить, я не стал бы покидать лодку…
Спецпоезд тащился к месту назначения почти два месяца.
Тем временем, Зина, жена, обивала пороги больших чиновных домов в Москве и Ленинграде: перебегала из приемной в приемную. Дошла до главного военного прокурора. Тот честно вник в суть морской трагедии, но с горечью признался, что это дело находится под контролем неподвластных ему государственных лиц.
Зато контр-адмирал Ерофеев отделался легким испугом. Его не пригласили в суд даже в качестве свидетеля. «Стрелочник» Суворов прикрыл всех…
«Я ОСТАНУСЬ В МОРЕ»
… Раскаленная корма подводной лодки быстро уходила в пучину. Все, кто остался в живых, попрыгали в ледяную воду, стремясь к надувному плоту. Лишь в ограждении рубки, уткнувшись в рукав кителя, плакал корабельный кок-инструктор, великолепный кондитер, старший мичман Михаил Еленик. В свои сорок шесть он не умел плавать. Как и все, он искренне верил в непотопляемость своего чудо-корабля, как и все, он верил в нескончаемость своей жизни… Плакал, скорее от обиды, чем от страха перед смертью, отсроченной всего лишь на три минуты. Рядом с ним метался старший матрос Стасис Шинкунас. Он тоже не умел плавать… Так и ушли они под воду вместе с кораблем…
Из всех эпизодов гибели К-278, «Комсомольца» почему-то именно этот больнее всего впечатался мне в душу. И еще подвиг капитана 3 ранга Анатолия Испенкова. Подменяя у дизель-генератора свалившегося матроса, офицер не покинул свой пост даже тогда, когда остался в прочном корпусе совершенно один. К нему бросился мичман-посыльный:
– Срочно на выход!
Испенков посмотрел на него с чисто белорусской невозмутимостью, надел поплотнее наушники-шумофоны и вернулся к грохотавшему дизелю. Погибавшему кораблю нужна была энергия, нужен был свет, чтобы все, кто застрял еще в его недрах, успели выбраться наверх. Испенков и сейчас лежит там, на нижней палубе затопленного третьего отсека. Десять лет длится его бессменная вахта. И командир «Комсомольца» капитан 1 ранга Евгений Ванин, как и капитан ставшего притчей во языцех «Титаника», как и многие командиры цусимских броненосцев, верный старинной морской традиции, разделил участь своего корабля…
Теперь по происшествии стольких лет стало ясно, что гибель атомной подводной лодки К-278 («Комсомолец») носила эсхатологический характер. Она была таким же предвестником крушения советского государства, как гибель дредноута «Императрица Мария» в 1916 году предзнаменовала крах российской империи. Ни «корабль ХХI века», как справедливо величали титановую сверхглубоководную атомарину, ни создавший ее Советский Союз в двадцать первый век не вошли.
Для Военно-Морского Флота СССР (да и нынешней России тоже) та апрельская катастрофа в Норвежском море означала не просто потерю одного корабля и сорока двух моряков, но и пресечение перспективнейшего научно-технического направления. Был поставлен крест на программе создания качественно нового подводного флота страны – глубоководного. Программе, обеспеченной уже многими мировыми приоритетами.
Мы сидим в тесной комнатушке, где размещена одна из самых влиятельных организаций Санкт-Петербурга – Клуб моряков-подводников. Его президент бывший командир атомной подводной лодки капитан 1 ранга Игорь Курдин взял на себя труд достойно отметить печальную годовщину: заказать панихиду в Морском соборе, собрать на поминальный ужин остатки экипажа К-278. Девизом Клуба стали слова: «Подводный флот – это не работа и не служба, это судьба и религия.»
– Игорь Кириллович, за десять лет следствия по делу гибели «Комсомольца» так и не всплыли имена прямых виновников гибели уникального корабля…
– Их нет да и быть в этом случае не может. Вина, как расплесканная кровь, забрызгала ВСЕХ, кто хоть как-то причастен к созданию и эксплуатации этого небывалого корабля. Ведь «Комсомолец» в конечном счете погубила бедность той страны, которая сумела сотворить титановый корпус, но не смогла содержать людей в этом корпусе.
Это аксиома: у такого корабля, как сверхглубоководный крейсер типа «Плавник» да и у любого подводного крейсера стратегического назначения должны были быть два экипажа – боевой и технический. Один управляет им в море, другой обслуживает его в базе. Более того – оба этих экипажей должны были состоять из профессионалов-контрактников, а не из матросов срочной службы, которые за два года, проведенных в прочном корпусе и близ него только-только войдут в курс дела и которых постоянно отрывают от тренировок и учений на всевозможные хозяйственные дела. Но как раз именно на этом-то и решили сэкономить. Хотя стоимость содержания технического экипажа составляла лишь долю процента от стоимости самого корабля. Известно чем оборачивается экономия на спичках…
– Но ведь были же созданы атомные подводные лодки 705 проекта класса «Альфа», где весь экипаж состоит из офицеров и мичманов…
– Да, это, так называемые, лодки-автоматы. Конечно же, уровень подготовки такого экипажа стоит несравнимо выше, чем у матросов срочной службы. Флот не потерял ни одной «Альфы» по вине личного состава, хотя в том же Норвежском море и опять же в апреле только семью годами раньше на АПЛ К-123 произошел выброс жидкометаллического теплоносителя по причине межконтурной неплотности парогенератора – заводской причине. Тем не менее облученные моряки-профессионалы сумели спасти корабль и вернуть его в базу.
К сожалению, идеологи подводного судостроения ушли от курса на строительство «малонаселенных» лодок-автоматов, хотя это направление опережало по всем показателям на 10-20 лет все строившиеся и проектируемые в то время подводные лодки.
Вторая аксиома состоит в том, что ни на каком корабле, аварийная ситуация не должна развиваться так, как развивалась она на злосчастном «Комсомольце» – лавинообразно – с отказом и возгораниями многих систем и агрегатов.
За минувшие годы о трагедии «Комсомольца» написан добрый десяток книг и монографий. Свой взгляд на подводную катастрофу века высказывали и моряки, инженеры, и журналисты, и врачи. Одна из книг принадлежит перу заместителя главного конструктора атомной подводной лодки «Комсомолец» Д.А. Романову. Ее главный тезис: трагедия близ острова Медвежий произошла из-за катастрофического разрыва между уровнем технической оснащенности современных подводных лодок и уровнем профессиональной подготовки подводников. В книге часто поминается и мое имя, как представителя иной точки зрения на причины гибели К-278.
Глубокоуважаемый Дмитрий Андреевич! Несмотря на все сарказмы, которые вы отпускаете по моему адресу, я все же преклоняюсь перед вашим конструкторским талантом и инженерным даром Ваших коллег, создавших уникальнейшие и во многом непревзойденные в мире подводные корабли. С вами невозможно спорить, когда вы разбираете ту или иную систему «Комсомольца». Но вы не убедили меня в безгрешности наших проектантов и особенно судостроительной промышленности перед флотом. Не понаслышке знаю, какими «минами замедленного действия» оборачиваются для моряков и отдельные просчеты конструкторов, и заводской брак строителей. Техническое совершенство наших атомных кораблей рассчитано на абсолютное моральное совершенство тех, кто сидит за их пультами. Сверхсложная машинерия требует сверхстрогой жизни своих служителей. Они не длжны быть подвержены никаким человеческим слабостям, их не должно ничто не волновать на покинутом берегу, эти сверхаскеты должны жить четко по распорядку и столь же четко выполнять все сто двадцать пять пунктов эксплуатационных инструкций, обладая при этом непогрешимой памятью, стопроцентными знаниями и неутомимостью биороботов. Такова жесткая конструкторская заданность к системе «Человек – АПЛ». Но система, в которой ошибка одного человека не может быть устранена усилиями десятка специалистов – ненадежная система.
Не очень-то патриотично обращаться ныне к мнениям американских профессионалов, но ведь как не было так и нет пророков в собственном отечестве. Вот, что заявил девять лет назад Конгрессу США руководитель программы ВМС по ядерным двигателям адмирал Брус де Марс: «У советских абсолютно другая философия, при которой – в особенности на кораблях более ранних классов – не придается никакого значения человеческим жизням или окружающей среде. Это отношение ужасно. У нас в стране нашу организацию давно бы упразднили – и правильно бы сделали. Мне кажется, что теперь эти проблемы понемногу проникают в советскую прессу и профессиональные военно-морские журналы.» Да, проникают, и не только в журналы, но и в сознание флотоводцев и флотостроителей. Во всяком случае в это очень хочется верить.
За минувшие десять лет решилась и весьма острая экологическая проблема: поднимать со дна морского затонувшую атомарину или не поднимать.
– Анализ видеозаписей, фотографий, измерений, – утверждает ведущий специалист института океаонографии РАН доктор технических наук Анатолий Сагалевич, – показал, что поднимать «Комсомолец» нецелесообразно. Атомный реактор надежно заглушен, и, как показали результаты измерений, опасности выхода радиоактивных веществ из него не существует. В то же время две ядерные боеголовки торпед, находящиеся в носовом отсеке лодки в агрессивной морской среде, подвергаются коррозии, что может привести к утечке плутония. Чтобы предотвратить или снизить до минимума выход плутония в окружающую среду, в 1994 и 1995 годах усилиями нескольких экспедиций на исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» был частично герметизирован торпедный отсек затонувший лодки.
Игорь Курдин вставляет в видеомагнитофон кассету и на экране возникает сумрачный силуэт расколотого ударом о грунт и взрывом одной из неядерных торпед носовой части «Комсомольца». Это съемка с борта глубоководного обитаемого аппарата «Мир».
«Проходим палубу от носа до кормы, – комментирует Анатолий Сагалевич, инициатор и ветеран многочисленных погружений к затонувшему на полуторакилометровой глубине исполину. – Приближаемся к рубке, поднимаемся вверх, огибаем ее слева и доходим до проема, где размещалась всплывающая спасательная капсула. Внизу виден люк, через который покидали лодку последние ее обитатели во главе с командиром. Они вошли в капсулу, надеясь, что она вынесет их на поверхность, однако недобрая судьба распорядилась иначе…
Кормовая часть лодки сверкает в лучах светильников аппарата «Мир-1» как новенькая. Даже не верится, что она покоится на дне. А вот и седьмой отсек, где возник пожар, с которого, собственно, и началась трагедия…»
Запись давно кончилась, экран белесо рябит… А Курдин сидит, уронив голову на руки и вслушивается в странные свистящие подвывающие звуки. Их записали под водой океонологи в точке гибели «Комсомольца».
Здесь птицы не поют… Здесь стрекочет, урчит, скрипит, кудахчет, цокает, зудит всевозможная морская живность. Это эфир другой планеты. Это сам Океан поет реквием по затонувшему кораблю. О, как могуч, страстен и невыразим его голос! Из клубка напряженных мяукающе-ревущих звуков вдруг прорвется нечто почти осмысленное, виолончельно-грудное… Наш общий пращур, чью соль мы носим в своей крови, отчаянно пытается нам что-то сказать, вразумить нас, предостеречь… Тщетно. Мы забыли древний язык океана и назвали его биоакустическими помехами… Не потому ли плакал мичман Еленик в рубке гибнущего корабля?
Человеку не дано знать своей судьбы, но некоторые из нас ее предчувствуют особенно остро. Предчувствовал её и командир атомной подводной лодки К-278 ("Комсомолец") капитан 1 ранга Евгений Ванин.
– Он всегда говорил, – рассказывает его вдова, – "я погибну в море", "я останусь в море"… Я ругалась, сердилась на него за эти мысли, но он оказался прав… При всем при этом Женя был очень веселым, жизнерадостным человеком. Но вот иногда под настроение у него это прорывалось – "я останусь в море".
В тот последний – роковой – поход они все уходили очень спокойными, уверенные в себе и в своем "непотопляемом" корабле. Ведь это была единственная в мире подводная лодка, которая могла погружаться на глубину в один километр. Я тоже особенно не переживала, уехала в Киев. в Дарницу, к свекрови…
В тот день, когда все это случилось – 7 апреля 1989 года – я ехала с дочерью в трамвае… Я даже место это могу сказать – на мосту Патона через Днепр. Вдруг щеки вспыхнули, лицо загорелось. Как-будто кто вспоминает… И завела я с дочерью разговор ни к селу, ни к городу, какие странные смерти бывают на свете. Оля – мне: "Мам. ты что?!» А я остановиться не могу. И только потом, дома, узнала новость – наши в Норвежском море горели…
ПОЖАР на сверхглубоководной атомной подводной лодке К-278 («Комсомолец») начался на глубине 457 метров в 11 часов утра. После ожесточенной безуспешной борьбы за живучесть корабля капитан 1 ранга Ванин приказал покинуть отсеки и всем собраться в ограждении боевой рубки. К этому времени атомарина давно уже всплыла, но положение ее с каждой минутой становилось все более опасным: кормовая оконечность на глазах уходила в воду, а нос вздымался все выше и выше. Командир спустился в лодку, чтобы поторопить оставшихся в отсеках.
Тут нужно сказать вот что. Войти в подводную лодку или выйти через нее можно было только через ВСК – всплывающую спасательную камеру. Это довольно обширная стальная капсула, выдерживающая давление предельной глубины погружения, была рассчитана на спасение всего экипажа. Если бы лодка затонула и легла на грунт, то все шестьдесят девять человек сумели бы разместиться в камере, усевшись по кругу в два яруса, тесно прижавшись к друг другу. После чего механики отдали бы крепление, и камера, словно огромный воздушный шар, взмыла бы сквозь морскую толщу на поверхность. Но все произошло иначе…
Ванин проскользнул по многометровому вертикальному трапу в центральный пост. В покинутых экипажем отсеках оставались еще пятеро: капитан 3 ранга Испенков, запускавший дизель-генератор, капитан 3 ранга Юдин, мичманы Слюсаренко, Черников, и Краснобаев.
И тут подводная лодка начала тонуть. Сначала она встала вертикально, превратившись на несколько секунд в Пизанскую башню. Все, кто оказался в этот момент на трапе, посыпались вниз – в камеру. В следующие секунды атомарина пошла вниз, под воду, с открытым верхним рубочным люком. Тут бы им всем был конец, если бы не замешкавшийся в ограждении рубки мичман Копейка (вот уж взаправду «судьба – индейка, а жизнь – копейка») не успел толкнуть крышку верхнего входного люка. Надо было еще крутануть маховик кремальерного запора, чтобы задраить люк наверняка, но лодка камнем пошла вниз, и мичман едва успел выбраться из ограждения мостика. Не камнем – сухим листом – уходил "Комсомолец" в бездну. Отваленные рули глубины под напором набегающего потока выводили вверх то нос, то корму. На этих дьявольских качелях неслись в полуторакилометровую глубину шесть живых пока еще душ…
Мичман Слюсаренко влез в камеру последним. Точнее, его туда втащили подмышки. Сквозь дымку нерассеявшейся еще гари он с трудом различил лица Ванина и Краснобаева – оба сидели на верхнем ярусе у глубиномера. Внизу командир дивизиона живучести Юдин и мичман Черников тащили изо всех сил линь, подвязанный к крышке люка, пытаясь подтянуть ее, тяжеленную – в четверть тонны – как можно плотнее. Сквозь все еще незакрытую щель в камеру с силой шел воздух, выгоняемый водой из отсеков, он надувал титановую капсулу, будто мощный компрессор. С каждой сотней метров давление росло, так что все вокруг заволокло холодным паром, а голоса у всех стали писклявыми. Все-таки крышку подтянули и люк задраили.
Но тут камеру сильно встряхнуло еще раз. И еще…
– Лопаются переборки. – Мрачно констатировал Юдин.
Море ворвалось, наконец, в отсеки, круша и давя все, что заключало в себе хоть глоток воздуха. Лишь капсула спасательной камеры продолжала еще свой гибельный спуск в бездну.
Безлюдная, лишь с трупами на борту, с затопленными отсеками атомная подводная лодка завершала свое последнее погружение.
И все же чудо случилось: камера вдруг оторвалась и полетела вверх, пронзая чудовищную водную толщу. Она неслась ввысь, как сорвавшийся с привязи аэростат…
– Что было дальше, помню с трудом, – продолжал свой рассказ Слюсаренко. – Когда выбросило на поверхность, давление внутри камеры так скакануло, что вырвало верхний люк. Ведь он был только на защелке… Я увидел,как мелькнули ноги Черникова – потоком воздуха его вышвырнуло из камеры. Следом выбросило меня, но по пояс. Сорвало об обрез люка баллоны, воздушный мешок, шланги…
Черникову пришлось хуже – о закраину люка ему снесло полчерепа. Слюсаренко спасло то, что он неправильно надел свой аппарат и потому держал свой дыхательный мешок в руках. С ним, послужившим ему спасательным кругом, его и подняли из воды рыбаки. Слюсаренко стал единственным в мире человеком, которому удалось спастись с километровой глубины… Камера же продержалась на плаву секунд пять-семь. Распахнутый люк захлестнуло волнами, и титановое яйцо навсегда ушло в глубины Норвежского моря.
* * *
Вольно или невольно капитан 1 ранга Ванин продолжил старую морскую традицию – командир не расстается со своим кораблем даже тогда, когда тот уходит в пучину. Что бы потом не говорили и не писали о его просчетах в борьбе за живучесть К-278, все свои ошибки и просчеты он искупил самой дорогой ценой – собственной жизнью.
Вдова Ванина – Валентина Васильевна – вместе с дочерью и сыном уехала из флотского гарнизона в Санкт-Петербург. Ей дали квартиру на Васильевском острове. Из окон, как с корабельного мостика, видно только море: белое во льдах и снегах – зимой, синевато-серое – летом.
После всего пережитого и она, и дочь обратились душой к Богу. Недалеко от дома – на Смоленском кладбище – часовня Ксении Петербуржской, прославившейся в народе верностью памяти погибшего мужа, русского офицера. И судьбой, и обликом, и душевной статью вдова командира К-278 весьма близка к этой святой женщине. Хотя сама она, конечно же, так не считает. Очень тревожится за сына Олега. Матрос Ванин служил на все том же Северном флоте, что и сгинувший в море отец.
Валентина Васильевна растит внука. Назвать его Евгением, в честь деда, не рискнули, дабы не испытывать судьбу.
На серванте – портрет мужа с черной ленточкой на уголке. Поодаль на стеклянной полочке – хрустальный колокольчик – подарок Евгения, Жени. Думал ли он, по кому будет звонить этот хрусталь?
Вдруг узнала, что камеру с телом мужа подняло исследовательское судно "Академик Келдыш". Бросилась в порт узнавать, что и как… Увы, тревога оказалась напрасной, сердце рвала зря… Трос при подъеме оборвался и стальная капсула-гробница снова ушла на дно морское. Не судьба…
– Как вы думаете, – с затаенным ужасом спрашивает она, – он еще там?
Я стараюсь уверить ее, что он там, то есть покоится в своем подводном саркофаге в целости и сохранности. Крабы до него не добрались. На такой глубине они не водятся. Муж ее остался в море и стал морем. А оно почти у самых стен: значит и он всегда рядом.