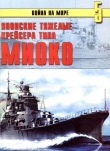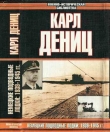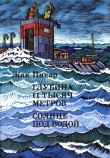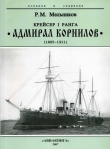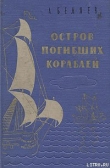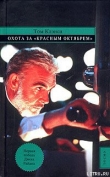Текст книги "Повседневная жизнь российских подводников"
Автор книги: Николай Черкашин
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
23 октября. 15.00. Борт С-178.
Стали готовить отсек к затоплению. Все надели гидрокомбинезоны. Отсек начал заполняться водой. Это были самые тягостные и самые мучительные часы. И без того плотный воздух сжимался все больше. Дышать стало очень трудно. Вредные газы, наполнявшие в преизбытке отсечный воздух, стали еще токсичнее, еще вреднее. Темнело в глазах, кружилась голова. А вода, обжимая ноги, живот, грудь, медленно подступала к подбородку.
Зыбин подплыл к Кубынину
– Ну что, Серега, давай открывать крышку
За рукоять «розмаха», открывающего переднюю крышку взялся сам старпом, потом его сменил Кириченко, затем Лукьяненко. Надо было сделать 42 оборота, но каждый проворот ключа стоил невероятных сил: градом катил холодный пот, чернело в глазах. Сказывалось отравление углекислотой**. С облегчением убедились, что воздух, сдавленный в отсеке, никуда не травится. Открыли заднюю крышку Теперь отсек сообщался с морем напрямую – через трубу торпедного аппарата № 3.
– Ну пошли, мужики! – скомандовал старпом.
Пошли, как стояли на стеллажной торпеде: Шарыпов, Тунер…
Едва Тунер, окунувшись с головой в воду вполз в торпедную трубу как в маску ему уткнулись ступни Шарыпова. Матрос пятился. Он вылезал обратно. Тунер вынырнул, а вслед за ним в воздушной подушке появилась и голова Шарыпова. Шарыпов переключил аппарат на «атмосферу» и отрывисто выкрикнул:
– Аппарат… завален… «идашками»…
Так вот почему водолазы упорствовали: они сделали третью кладку! Теперь выход в море забит тяжелыми «идашками».
Матрос Киреев не вынес этого известия и потерял сознание. Его не стали разжгутовывать – бесполезно. Вода стоит выше груди. Ему поддули из баллончика гидрокостюм, и Петя Киреев лежал на воде, как резиновый матрас. Старпом подгреб к механику:
– Валера, попробуй стащить «идашки» сюда или вытолкнуть за борт.
Зыбин нырнул в трубу пополз вперед. Из-за положительной плавучести его все время прижимало к своду аппарата. На тренажерах такого не было. Там труба заполнялась чуть выше половины и ползти было куда легче. Подергал первую суму с «идашкой» – ни туда, ни сюда. Неужели все? Конец? Так глупо…
Зыбин уперся ногами, подтянулся за направляющую для торпед и головой – молясь и матерясь – выпихнул все три сумы за борт. В глазах вспыхнули огненные искры. Подумал: «Теряю сознание», но, присмотревшись, догадался – искрит планктон. Возвращаться в отсек не было смысла: воздух в баллончиках на пределе.
Зыбин дал три удара – «выход свободен» и вылез из трубы в нишу торпедного аппарата.
…Услышав три зыбинских удара, в отсеке возликовали и едва не закричали: «Ура!» Путь к жизни свободен! Один за другим подводники приседали и ныряли в трубу Самым последним, как и подобает командиру корабля, покидал отсек старпом. Кубынин посветил фонарем – все ли вышли? Все. Лишь плавал, поддерживаемый надувным костюмом, Петя Киреев. Кубынин попробовал притопить его и впихнуть в аппарат. Матрос не приходил в сознание, а проталкивать бездвижное тело целых шесть метров по затопленной трубе Сергей не решился. Он и без того чувствовал себя на пределе сил. Отравленная кровь гудела в висках и ушах, ныло в груди лопнувшее легкое. С трудом прополз по трубе. Выбрался на надстройку, огляделся: никого нет. (У водолазов как раз была пересменка). Решил добраться до рубки и на ее верхотуре выждать декомпрессионное время, а затем всплыть на поверхность. Потом потерял сознание. Его чудом заметили с катера…
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – лежал в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония…
По-настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Ребята, не боясь строгих медицинских генералов, пробились-таки к барокамере…
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; жали руку благодарили за стойкость, за выдержку за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату где лежал Кубынин, прозвали в госпитале «цитрусовой»… Сергея огорчало только одно: комбриг изъял у него корабельную печать, особисты-чекисты забрали вахтенный журнал, а с кителя кто-то отцепил жетон «За дальний поход» и отвинтил командирскую «лодочку»…
Через несколько дней после того, как С-178 обезлюдела под водой, во втором отсеке вода медленно подобралась к кабельным трассам батарейного автомата и тот снова вспыхнул. Глубоко под водой в отсеке погибшей подводной лодки полыхал поминальный костер…
КОМАНДИР УХОДИТ ПОСЛЕДНИМ…
Такого еще не было… Тонул атомный подводный ракетоносец. Тонул медленно и мучительно. На его борту было четыре трупа и один живой человек. Трупы лежали в отсеках. Живой – стоял на мостике и смотрел как неотвратимо уходит под воду широкий и округлый нос атомарины. Это был командир.
Ни одному кораблю в мире не пришлось столкнуться с тем, что выпало на долю атомной подводной лодке К-219, ибо в мире не было более опасного корабля, чем тот, которым командовал капитан 2 ранга Игорь Британов. Это был престранный гибрид ракетодрома и подводной лодки, (как впрочем и все другие корабли подобного проекта) начиненный торпедами и ракетами, ядерными реакторами и атомными боеголовками. Помимо нескольких центнеров прессованного тротила и оружейного плутония, а также урановых стержней, то есть веществ взрывающихся и радиирующих, он нес в себе тонны серной и азотной кислот, тонны жутчайшего по своей едкой силе окислителя ракетного топлива – гептила. Все, что было создано человеческой цивилизацией для устройства конца света, все это было плотно втиснуто, вбито в отсеки и закачано в баки, перевито трубопроводами высокого давления, кабелями мощных электротоков, магистралями перегретого пара да еще помещено с доброй сотней людей под многотонный пресс океана.
Корабль назывался подводным крейсером стратегического назначения К-219. Стратегическое назначение его состояло в том, чтобы в первые минуты весьма возможной войны выпустить по Вашингтону, Сан-Франциско, Детройту шестнадцать баллистических ракет с наименьшим подлетным временем. Примерно такие же ракеты только американские были нацелены на Москву, Киев, Севастополь из Турции, Германии и Великобритании.. Собственно, из-за этого ракетоносцу Британова и пришлось крейсировать в Саргассовом море. Это был ответный ход в дьявольских шахматах Холодной войны. «Размещение ядерных ракет ближнего радиуса действия в Европе поставило советских стратегов в трудное положение, – свидетельствует американский аналитик. – Впервые Кремль оказался в пределах досягаемости ядерного оружия, когда ракета могла достичь своей цели прежде, чем советские лидеры узнали бы о ее запуске. Чтобы компенсировать эту угрозу, Советский Союз послал свои подводные лодки с ядерными ракетами на борту курсировать в непосредственной близости от побережья Америки… Советские лидеры полагали, что если обе столицы подвергнутся одинаковой угрозе уничтожения, то равновесие будет восстановлено».
На таком вот стратегическом фоне и разыгралась эта небывалая морская трагедия.
Сообщение ТАСС, как всегда в таких случаях было обтекаемо и подловато:
«Сегодня утром, 3 октября, на советской атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту в районе примерно тысяча километров северо-восточнее Бермудских островов в одном из отсеков произошел пожар… На борту подводной лодки есть пострадавшие. Три человека погибли».
Можно было подумать, что имена этих трех составляют государственную тайну.
Не составляло никакой государственной тайны и то, что на подводном крейсере взорвалась ракетная шахта. О причинах взрыва спорят и по сей день. Но тогда командиру корабля было не до дебатов. Оранжевый смертельный дым расползался по ракетному отсеку, похожему на колоннаду древнеегипетского храма. А гептил, по сути дела концентрированная азотная кислота, пожирал абсолютно все на своем пути – медь, пластмассу, металл и самое главное – сталь других ракетных шахт и прочного корпуса со скоростью миллиметр в час.
Никто не знал, как бороться с такой напастью. Инструкции, составленные, казалось, на все случаи жизни, совершенно не предусматривали такой поворот событий. Взрыв топливного бака ракеты? Абсурд! Вероятность близкая к нулю. Но ведь не зря говорят: и не заряженное ружье раз в год стреляет. Вот оно и пальнуло. С распространением смертельных паров стали бороться так же, как и с объемным пожаром, тем паче, что в ракетном отсеке вскоре вспыхнуло пламя. Оба ракетных отсека загерметизировали, заглушили оба атомных реактора, за что пришлось заплатить жизнью матроса Сергея Преминина. И чтобы не рисковать больше остальными людьми, Британов приказал экипажу перейти на подошедший советский сухогруз «Красногвардейск», оставив на подводном крейсере только аварийную партию, да и то на светлое время суток.
Чтобы решиться на такой шаг требовалось уже не воинское, а гражданское мужество, так как Британов вольно или невольно ставил себя под удар вполне возможного обвинения – «не принял все меры по борьбе за живучесть корабля». Ведь именно этого боялся командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, когда держал до последнего момента на гибнущем линкоре «Новороссийск» почти полутратысячный экипаж.
Тем не менее, Британов сделал все возможное, чтобы спасти атомный подводный крейсер. Даже американские специалисты-подводники, не испытывая к своему бывшему противнику особых симпатий, признали, что капитан 2 ранга Британов в аварийной ситуации действовал наилучшим образом. А уж им-то вторая версия катастрофы – срыв крышки ракетной шахты днищем атомарины «Аугусты» – была более, чем известна.
Британова приняли в Америке как настоящего героя.
«Но не надо и идеализировать американцев, – напишут потом соавторы-американцы в триллере «Враждебные воды». – В данном случае их намерения более напоминали пиратство», чем спасательную операцию. Такая откровенность делает честь бывшему военно-морскому атташе США в Москве Петеру Хухтхаузену и его коллеге Роберту Алан-Уайту. Они честно поведали о том, как опасно маневрировала под водой вокруг К-219 американская атомная подлодка “Аугуста” и как она намеренно оборвала своим перископом буксирный трос, переброшенный с носа советской атомарины на корму “Красногвардейска”. Они же признались и в том, что командир буксира ВМС США «Паутхэтэн» имел задачу – добиться согласия русских подводников на буксировку и оттащить тяжело раненную атомарину в ближайшую американскую базу. Не получив от Британова «добро», буксир стал дожидаться, когда моряки оставят свой обреченный корабль. Тогда К-219 превратится в бесхозное имущество и подлодку можно будет увести без особых международных проблем. Но пока на подводном крейсере оставался хоть человек, «Паутхэтэн» не имел права высаживать буксирную команду на чужой корабль. Один человек на нем и оставался – по ночам, когда аварийно-спасательную партию забирали с К-219 на «Красногвардейск», чтобы не подвергать людей излишнему риску. Человеком этим был капитан 2 ранга Игорь Британов. Засунув пистолет в карман меховой «канадки», он до утра торчал на мостике, ловя на себе взгляды американских биноклей и перископов. Он охранял 15-ракетный атомный крейсер стратегического назначения с той же внешней невозмутимостью, с какой стерегут сторожа яблоневые сады от мальчишеских набегов. Разве что сады не угрожают жизни своим хозяевам, а здесь «охраняемый объект» мог взорваться и затонуть в любую минуту.
Ночь, да не одну – наедине с тлеющей пороховой бочкой, с выгорающими изнутри ракетными отсеками – это круто. Но Игорь Британов выполнял свой командирский долг так, как это предписывали все воинские уставы, все рыцарские кодексы чести всех времен и народов. Это и о нем можно спеть, не кривя душой: «комбат, ты сердце не прятал за спины солдат». Его матросы были в безопасности на «Красногвардейске». На чаше весов Фортуны была лишь одна жизнь – командира. И если строгие судьи найдут толику вины Британова в роковом финале похода, то она, эта умозрительная вина, с лихвой искуплена теми его воистину боевыми дежурствами на мостике агонизирующего ядерного монстра.
Он покинул (а мог и вовсе не покинуть) свой корабль лишь тогда, когда подводная лодка ушла под воду по самые «уши» – под рули глубины на боевой рубке. Едва Британов перебрался на надувной плотик, как через три минуты полузатопленный крейсер с бушующим внутри окислителем, навсегда ушел в бездну. Это случилось в 23 часа 03 минуты по московскому времени 6 октября 1986 года посреди Саргассова моря.
Момент был траги-исторический: впервые за всю эпоху мореплавания уходил в пучину атомный ракетный крейсер. По старой морской традиции полагалось провожать тонущий корабль криками «Ура!». Но экипаж К-219 «ура» не кричал…
Как только воздетая корма атомарины, взблеснув под луной огромными бронзовыми винтами, скрылась под волнами, все суда, дрейфовавшие поблизости, поспешили прочь от опасного места. Никто не мог сказать, что произойдет в следующую минуту – вырвется ли из толщи океана ядерный гриб или шарахнет в борт мощный гидродинамический удар.
Британов греб на своем плотике вслед уходящим спасателям. Его подобрала шлюпка, спущенная с «Красногвардейска».
Спасенные подводники были доставлены на Кубу, а затем – спецавиарейсом – в Москву. На командира-«аварийщика» и его командира БЧ-5 (старшего механика) Красильникова, как водилось до той поры, немедленно завели уголовное дело. От суда скорого и предвзятого – обоим «преступникам» светило по восемь лет лагерей – их спасли разве что общая оттепель перестройки да грандиозный скандал в связи с посадкой немецкого пилота Матиаса Руста на Красной площади. Только что назначенный после смещенного предшественника министр обороны СССР генерал армии Дмитрий Язов посчитал, что скандалов и без того хватает, а также взяв во внимание и ходатайство тогдашнего Главкома ВМФ Адмирала Флота В. Чернавина, повелел уголовное дело на командира К-219 и его инженер-механика закрыть. Но на флотской судьбе кавторанга Британова вопреки народной мудрости «за одного битого двух небитых дают» был поставлен беспощадный кадровый крест. Бывалого подводника, не по своей вине приобревшего уникальный опыт действий в небывалой аварии, отправили на «гражданку». Выживай как знаешь… И он снова ощутил себя на зыбком плотике посреди валов житейского моря. Все надо было начинать заново. Исключенный из рядов КПСС, прогнанный с флота, ославленный самой злой молвой кавторанг Британов не сломался, не спился, не затерялся в уральской глубинке, куда занесла его новая судьба. Напротив, сделал карьеру в Екатеринбурге на общественном поприще, стал заметным человеком в столице Урала.
Некоторые старые адмиралы-подводники, немало порисковавшие на своем веку, считают Британова виновным в гибели корабля. И я понимаю их: все они играли в одну и ту же воистину русскую «рулетку» – крутили барабан с одним патроном, подносили к виску и, (пронеси Господи!) нажимали на спуск. Если не так фигурально, то каждый из них выходил в моря примерно с тем же грузом проблем и неисправностей, что и Британов. Каждый из них так или иначе согласился с жестокими правилами той игры, которую им навязали: командир отвечает за все. Его первым награждают, но и первым же наказывают за все, что случится с его кораблем, с его людьми. Так то оно так, но сколько же береговых чиновников под прикрытием этой державной максимы перекладывали долю своей ответственности за подготовку корабля к океанскому плаванию на плечи командира? И когда с кораблем что-то случается, нет с них, проектировщиков, строителей, снабженцев, ремонтников, содержателей оружия, кадровиков, сурового спроса, потому что спрашивать можно лишь по результатам технической экспертизы, а объект для экспертизы недоступен, поскольку покоится на многокилометровой глубине. В прямом смысле – концы в воду. Вот и отвечает командир за всех и за всё.
Ах, ты не хочешь отвечать за чужие грехи? Не хочешь выходить в море на недоделанном корабле с экипажем наспех собранном с бору по сосенке? Ну, и не выходи, принципиальный ты наш, другой выйдет. Только ты уже никогда не поднимешься на мостик командиром да и в партии тебе делать нечего, да и шел бы ты с флота подальше!
А вот мы ходили и виноватых на стороне не искали. Сами за все отвечали. Все так служили. И ничего – проносило. Тебе не повезло, вот и отвечай за всех. Все за одного, один за всех. Или ты особенный?
Когда К-8 в Бискайском заливе после пожара затонула, ее командир капитан 2 ранга Бессонов навсегда в море остался. И командир погибшего «Комсомольца» капитан 1 ранга Ванин тоже на дне морском лежит в ВСК – всплывающей спасательной камере. Орден Красного Знамени – его вдове. И командиру безвестно сгинувшей К-129 капитану 2 ранга Кобзарю вечный почет и орден посмертно. Командир же затонувшего атомохода К-429 капитан 1 ранга Суворов сумел выбраться из прочного корпуса – под суд его. Так что, товарищ Британов, радуйтесь, что ваше уголовное дело в архив сдали.
Такой вот приговор от отцов-командиров. И попробуй им скажи, что Британов и его коллеги – заложники порочной системы. Впрочем, согласятся, что система подготовки кораблей и комплектации экипажей – авральна и аварийна. Ее надо в корне менять. Но где взять другую, которая потребует немалые средства на содержание технических экипажей, быстрый и качественный ремонт, сносные условия службы для контрактников и прочие «роскошества»? В лучшие времена такого не было, а про нынешние и говорить нечего.
Все это Британов сознавал столь же хорошо, как и его нынешние критики. И все-таки в море вышел. Нельзя было не выходить. Другого бы послали, менее опытного, менее знающего экипаж и особенности корабля.
Я задал ему весьма жестокий вопрос: почему он не последовал старой морской традиции – не покидать мостик тонущего корабля и до конца делить с ним горькую участь?
– Была такая мысль… Но ведь потом бы во всем обвинили экипаж. Надо было доказать, что в нашей беде мы не виноваты.
И это не просто слова. Британов этого добился, как добился командир злосчастной Б-37, на которой рванули в одночасье все торпеды носового отсека. Тогда, отданный под трибунал министром обороны СССР, капитан 2 ранга Бегеба сумел доказать на суде невиновность во взрыве экипажа своей подводной лодки.
Я познакомился с Игорем Британовым у решетки французского посольства в Москве. Мы вместе летели в Париж, а потом в Брест на 36-й международный конгресс моряков-подводников. На обратном пути один из участников российской делегации попал в весьма сложный переплет, перепутав авиабилеты. Я видел, как на помощь пришел Британов. В считанные минуты он принял нестандартное решение и выручил коллегу. Командир, он и в Париже командир! А еще я видел с каким почтением подходили к нему подводники-проффи из Англии, Германии, Италии, Франции. Одни пожимали ему руку, другие просили подписать книгу о К-219, в герои которой он вышел творческой волей трех соавторов. Годом раньше Британов побывал в США – в столице американских ВМС Аннаполисе. Офицерский клуб Военно-морской академии был полон. Когда в зал вошел капитан 2 ранга запаса Игорь Британов, его встретили овацией. Далее слова очевидцев: «Американцы встали! Встали все! А это были те, кто всю жизнь считал своими врагами именно русских, те, кто командовал авианосцами и фрегатами, подлодками-охотниками, противолодочными самолетами, защищая свою страну от советской угрозы, и в первую очередь из глубины. Но сейчас они отдавали дань мужеству своего достойного противника, человека, который своей волей спас их побережье от ядерной катастрофы.»
Встанут ли перед Британовым наши адмиралы? Не знаю. Не уверен. Если встанут, то не все. Уж так у нас повелось: тень любого обвинения – праведного или неправедного – сопровождает человека до конца дней. Но дело не во внешних почестях. Вот на днях министр обороны РФ подписал приказ о присвоении Игорю Британову звания капитана 1 ранга запаса. Не прошло и пятнадцати лет, как справедливость восторжествовала. Она, эта справедливость, у нас редко торопится. Если учесть, что герои линкора «Новороссийск» получили свои награды с опозданием в сорок четыре года, если учесть, что некоторые офицеры с К-219 уже получили кресты ордена Мужества, а матрос Сергей Преминин посмертную звезду Героя России, то можно надеяться, что однажды наши чиновники, глубокие ценители воинского мужества, вспомнят и о командире подводного крейсера К-219, как и об остальных членах его экипажа.