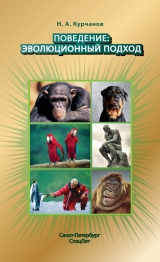
Текст книги "Поведение: эволюционный подход"
Автор книги: Николай Курчанов
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3.4. Социобиология
В настоящее время социобиологию часто рассматривают как одно из направлений этологии, а то и просто как ее синоним. Но следует помнить, что хотя и этология, и социобиология изначально ставили своей целью выяснение эволюционных механизмов поведения, они возникли на несколько разных методологических принципах.
Социобиология ведет свое «летоисчисление» с 1975 г., когда вышла книга американского зоолога Э. Уилсона «Социобиология: новый синтез» (Wilson E., 1975). Книга имела шумный успех и быстро стала бестселлером. Основной акцент в книге сделан на эволюцию социального поведения. Все основополагающие идеи при этом были получены на основе исследования такой специфичной группы, как социальные перепончатокрылые насекомые. Эти же идеи затем были перенесены на другие группы, в том числе и на человека. Разделы, посвященные филогенетическим корням социального поведения человека (морали, агрессивности, сексуальности и т. п.), встретили яростную критику гуманитариев, которые были явно не готовы к восприятию подобной информации.
Основным расхождением социобиологии с классической этологией был ее своеобразный «генетический редукционизм». В социобиологических построениях изучение действия естественного отбора переносится с организма на отдельные гены, определяющие адаптивное поведение. Такой подход во многом разрушал этологические представления о генотипе как интегрированной системе. Крайний «редукционистский» вариант представлен в работах Р. Докинза. Тем не менее его книга «Эгоистичный ген», изданная в 1976 г., благодаря яркому языку и доступному изложению стала не просто бестселлером, но и одной из самых популярных книг по биологии в истории (Dawkins R., 1976).
Другой особенностью социобиологии в отличие от этологии (скорее методической, а не методологической) была широкая «математизация» теоретических построений. Их целью ставилось объяснение математическим языком вклада в генофонд следующих поколений, степени генетического родства потомков, эволюционных выгод определенных моделей поведения. Сравнительные исследования поведения разных филогенетических групп в социобиологии используются крайне мало. В первых социобиологических исследованиях математика явно вытеснила филогению.
И, наконец, третьим важным отличием явился постулат социобиологии о бесспорной прогрессивности социальности. Все типы социальных отношений рассматривались в социобиологии как производные от одиночного образа жизни. Такая предвзятая схема «от простого к сложному» противоречит целому ряду сравнительно-филогенетических исследований. В этологии не принимается принцип вторичности социальности по отношению к одиночному образу жизни. Социальность возникает на самых разных уровнях эволюционной лестницы. Нельзя однозначно утверждать, что социальность увеличивает приспособленность. У птиц мы можем наблюдать интересную картину, когда наиболее сложные репродуктивные системы часто наблюдаются у филогенетически более древних групп.
Таким образом, в социобиологии первоначально явно переоценивалась роль одних эволюционных факторов и недооценивалась роль других. Однако в ней были сделаны весьма интересные теоретические разработки, сыгравшие определенную роль в понимании механизмов эволюции поведения. В настоящее время можно констатировать стирание различий между этологией и социобиологией, их взаимовлияние и взаимообогащение.
Поскольку становление социобиологии проходило на основе синтеза идей ученых-эволюционистов В. Гамильтона (1936–2000), Дж. Мэйнард Смита (1920–2004), Р. Триверса, то базовые понятия их концепций и заняли в новой науке доминирующее положение. Рассмотрим эти понятия.
Альтруизм – поведение, направленное на благополучие других сородичей. Это понятие было предложено В. Гамильтоном (Hamilton W., 1964).
Альтруистическое поведение – давняя загадка для биологов-эволюционистов. Самая сложная проблема для них – кажущаяся выгодность мошенничества. Как в природных сообществах удается распознать мошенников? В ходе решения проблемы были выдвинуты разнообразные теории: группового отбора, отбора сородичей, реципрокного альтруизма (Hamilton W., 1964; Trivers R., 1971; Grafen A., 1984). С эволюционной точки зрения забота о потомстве также является одной из форм альтруизма. К проблеме альтруизма мы еще раз вернемся в главе, посвященной социальному поведению.
Совокупная приспособленность определяется количеством генов, переданных в генофонд следующего поколения. Это понятие также было предложено В. Гамильтоном в его теории К-отбора (К – от «kin» – родственник) – отбора, направленного на закрепление альтруистических тенденций в отношении сородичей (Hamilton W., 1964). Работы социобиологов показали, что стремление к альтруизму возрастает с увеличением степени родства, что и у людей, возможно, есть врожденная способность отличать индивидов, генетически близких к ним (Trivers R., 1985).
В этом плане особый интерес приобретает понимание механизмов распознавания родственников. В англоязычной литературе для этого явления даже закрепился особый термин – kin recognition. У разных животных этот механизм функционирует по каналам разной модальности. Весьма интересна высокая способность шимпанзе к визуальной идентификации (Parr L., de Wall F., 1999). Однако визуальный контроль далеко не единственный в природе. Широко распространены механизмы опознания посредством обоняния и осязания. Невизуальный контроль обычно полностью обезличен, и животные, лишенные клановой метки, часто уничтожаются своими сородичами как «чужие».
Эволюционно стабильная стратегия (ЭСС) – стратегия (т. е. совокупность поведенческих реакций), которая является оптимальной для данной популяции. Этот термин предложил Дж. Мэйнард Смит (Maynard Smith J., 1982). Он стал наиболее известным в этой группе теорий, а его применение оказалось весьма распространенным.
Особую популярность приобрела модель «ястребы» – «голуби», используемая в анализе агрессивных взаимоотношений в группе, выгодности агрессивной и миролюбивой стратегий поведения. Расчеты показали, что наиболее выгодным для популяции является определенный баланс «ястребов» и «голубей» в ней, а не прямолинейная агрессивная или миролюбивая стратегия. Другая популярная модель демонстрирует выгодность стратегий «трудолюбия» и «воровства» на примере роющей осы (Sphex ichneumoneus).
Разработка моделей ЭСС показала, что выбор стратегии агрессивности зависит не столько от «вооруженности» вида и пропорциональных ей «блокировочных» механизмов, что так часто декларируется в этологии, сколько исходя из отношения ценности жизни и вероятности размножения. Для видов с коротким периодом жизни ценность размножения часто превышает ценность жизни, поэтому механизмы блокировки убийства сородича обычно не действуют. Так, самцы осы-алаониды могут легко перекусить сородича, что и происходит у них в борьбе за самку. В специальных наблюдениях на одном растении было найдено двенадцать самок, десять живых самцов и сорок трупов (Хайнд R., 1975).
Особенно много работ, касающихся ЭСС, посвящено половому поведению (Maynard Smith J., 1989). Многие животные (от насекомых до позвоночных) в брачный период издают громкие звуки, которые привлекают половых партнеров. Чем громче звук, тем выше вероятность спаривания, но тем выше и шанс попасть в лапы хищнику. Как рассчитать ЭСС для «крикуна»?
В других исследованиях получены не менее интересные результаты: 90 % птиц – моногамы и только 10 % моногамов среди млекопитающих, что находит свое объяснение в биологии воспроизводства потомства.
Но исследования ЭСС оставили много загадок. Иногда встречается прямо парадоксальная ситуация, когда доминант, поглощенный борьбой за лидерство, уступает в репродуктивном успехе нижестоящим по рангу особям. Поведение этих особей получило название клепто-репродуктивной стратегии. Так, молодые самцы благородного оленя (Cervus elaphus) успешно спариваются с самками, в то время когда вожак стаи отстаивает свое лидерство (Зорина З. А. [и др.], 2002). Подобные случаи нередко наблюдаются и среди ластоногих. Биологический механизм этого явления не ясен.
Разработка рассмотренных понятий (несмотря на некоторую их абсолютизацию) – несомненная заслуга социобиологии. Как это часто бывает, преувеличенное внимание к какой-либо проблеме способствует прогрессу в деле ее разрешения. Особенно наглядно мы это можем наблюдать, анализируя бурные дискуссии вокруг проблемы группового отбора, рассмотренного ранее. В социобиологии отвергается групповой отбор, как не получивший убедительных подтверждений. Действительно, групповой отбор остается «кабинетной теорией». Хотя доводы его сторонников звучат весьма убедительно, споры вокруг группового отбора не стихают до сих пор. Но привлечение внимания к этой теме оказалось весьма плодотворным в теоретическом плане. А ярлык «кабинетной теории» в эволюционной биологии оппоненты часто раздают друг другу.
В социобиологии были предприняты попытки филогенетического обоснования многих человеческих качеств: дружбы, любви, ненависти, ксенофобии, заботы, политических симпатий и многих других. Но в общественном сознании с давних пор укоренилась убежденность в незначительной роли наследственных факторов в поведении человека. За свои взгляды профессор Э. Уилсон подвергся настоящей травле в «самой свободной» стране. Даже в интервью 1994 г. он с сожалением констатировал продолжающееся нежелание американского общества видеть роль генов в поведении человека (Хорган Дж., 2001). Однако к 25-летнему юбилею социобиологии ее сторонники уверенно заявили о триумфе социобиологических идей (Alcock J., 2000).
Практически одновременно с социобиологией рождается другая наука, которая также взбудоражила общественное сознание, – этология человека.
3.5. Этология человека
Становление этологии человека проходило в русле идей общей этологии. Сразу отметим, что концепция инстинктивного поведения не встретила понимания общества первой половины XX в. Не только теоретические разногласия породили конфронтацию с этологией. Была и более глубокая причина поразительной бескомпромиссности споров и фактического запрета этологии в СССР. За всеми теоретическими диспутами незримо стоял вопрос о приложимости этологических выводов к человеку. Декларирование биологических истоков агрессивности, иерархии, ксенофобии у человека никак не вязалось с образом «светлого будущего», провозглашаемого как коммунистической, так и либерально-демократической идеологией. Все социальные системы того времени верили в возможность построения «идеального» общества при его «правильной» организации.
Можно вспомнить, что поиски «правильной» организации общества заполняют всю историю человечества. Менялись социальные системы и идеологии, проходили войны, революции, перевороты, постоянно провозглашались новые пути к «всеобщему счастью», но «идеальное общество» никак не удавалось построить. Объяснение этому можно было усмотреть в неразрывности человека и природы. На эту истину указывали наиболее проницательные мыслители прошлого. Трезвые мысли мы находим и в трудах классиков марксизма, которые считались высшим авторитетом в СССР. Ф. Энгельс (1820–1895) писал: «Уже самый факт происхождения человека из животного царства обусловливает собой то, что человек никогда не освободится от свойств, присущих животному».
Антропоцентрическая традиция культуры породила живучее заблуждение о качественном различии поведения человека и животных. Как сказал К. Лоренц: «Человеку слишком хочется видеть себя центром мироздания » (Лоренц К., 1998). Это и явилось причиной предвзятого отношения человека к своему природному наследству, невосприимчивости гуманитариев к очевидным фактам, отрицания генетических основ поведения, общности человека и животных. Недаром французский специалист по поведению Р. Шовен назвал человека «наименее изученным животным» (Шовен Р., 2009). Железная стена антропоцентризма отгородила человека от природы. Ее и пришлось «пробивать» этологии по ходу своего становления.
В 1963 г. выходит книга К. Лоренца «Так называемое зло» (Lorenz K., 1963). Этой книге (больше известной по названию английского издания – «Агрессия») было суждено сыграть судьбоносную роль – именно с нее можно начать отсчет этологического дискурса по природе человека. Касаясь столь острой темы, книга К. Лоренца вызвала бурные дискуссии, восторг одних и негодование других (последних было значительно больше). В дальнейшем становлении этологии человека ведущую роль сыграл ученик К. Лоренца, немецкий этолог И. Эйбл-Эйбесфельдт (Eibl-Eibesfeldt J., 1970).
В 1970 г. в ФРГ была образована научная группа, а в 1975 г. – Институт этологии человека, что можно считать условной датой формирования этологии человека как самостоятельной науки. В 1978 г. организуется Международное общество этологии человека. С тех пор регулярно проводятся международные конференции, выходят специализированные журналы, читаются учебные курсы в университетах. В 1989 г. вышел первый учебник (Eibl-Eibesfeldt J., 1989).
В то же время, становление молодой науки постоянно сопровождалось острой критикой и нападками со стороны ее противников. Обвинения в «ложной экстраполяции», как уже неоднократно говорилось, обычно исходили от гуманитариев, не знакомых ни с общей этологией, ни с закономерностями генетики и теории эволюции, но, тем не менее, страстно обличающих этологический подход. Показательна в этом плане судьба этологических «бестселлеров».
В конце 1960-х гг. выходят книги английского этолога Д. Морриса «Голая обезьяна» и «Людской зверинец», адресованные широким кругам читателей (Моррис Д., 2001; 2004). В нашей стране большое значение для привлечения массового внимания к этологии человека имели статьи В. Р. Дольника 1970–1980-х гг., написанные в обстановке жесткого идеологического контроля. В постсоветское время они были собраны в книгу «Непослушное дитя биосферы», имевшую огромный успех у читателей. Большое место в книге уделено вопросам агрессивности, полового поведения, будущего человечества (Дольник В. Р., 2003). Все эти работы, как в нашей стране, так и за рубежом, «удостоились» своей доли «опровергающей» критики, исходящей от гуманитариев.
На мой взгляд, популярные книги сыграли важную и благотворную роль, завладев умами многих людей, вызвав острые дискуссии, резко повысив интерес к этологии в широких массах. Возможно, именно острота дискуссий и послужила причиной быстрого роста интереса к этологии человека. Ее историческое значение очень хорошо выражено в одном из обзоров по истории этологии: «…В этологии человека затрагивается самый нерв современной культуры» (Гороховская Е. А., 2001).
Интересно, что в настоящее время, когда эпигенетика на новом уровне показала роль влияния среды (особенно влияние матери) на генетический аппарат, вновь обострился «ключевой вопрос» поведенческих наук, но уже «с другого конца». Теперь, наоборот, граждане «общества потребления» стараются отрицать значение образа жизни родителей для развития потомства, чтобы снять с себя «чувство ответственности» перед ним. Эту ответственность очень «удобно» переложить на гены…
Исследовательские работы в этологии человека касались, в основном, поиска поведенческих универсалий у взрослых и детей, в норме и при психопатологиях. Другими излюбленными темами являются биологические основы эстетического восприятия, выбора полового партнера, ритуалов (Эйбл-Эйбесфельдт И., 1995; Бутовская М. Л., 2004).
Критерии привлекательности противоположного пола у человека имеют свою биологическую основу, несмотря на то что среди гуманитариев превалирует точка зрения о решающем влиянии культурных традиций на формирование предпочтений. Из биологических факторов отмечаются сигналы строгости симметрии, пропорции талии и бедер.
И такое явление как любовь также имеет свои филогенетические корни. Хотя в гуманитарной традиции принято противопоставлять любовь и секс, с точки зрения эволюции это две стороны полового поведения человека. Влюбленность возникает в процессе антропогенеза как фактор, усиливающий прочность образования пар при возросшем периоде воспитания потомков. Состояние влюбленности похоже на действие наркотиков. При этом идеализируется восприятие любимого человека, что резко выделяет влюбленного среди потенциальных брачных партнеров.
Возникновение этих отношений требует строгих моногамных пар, что является филогенетическим наследием вида. Пора снять ореол исключительности с воспетой поэтами человеческой любви. Животный мир знает примеры поразительной привязанности и верности своему брачному партнеру, но никто не пишет по этому поводу поэм и романов. Человеку особенно нечем гордиться на фоне некоторых наших «меньших братьев». Так, представители отряда Scandentia (тупайи) являются мелкими животными с примитивными признаками. Возможно, тупайи родственны предкам приматов. Их «верность на всю жизнь» нисколько не связана с уровнем развития мозга. Тупайи могут не пережить «горя», вызванного смертью «супруга», но спокойно загрызут собственных детей, если их будет «слишком много». Для эволюционистов скорее интересны филогенетические истоки столь строгой моногамии, поскольку она представляется невыгодной стратегией. Однако тупайи не являются исключением в животном мире.
Долгое детство и беспомощность человека явились причинами многих радикальных изменений в его анатомии, физиологии и поведении. Филогенетические истоки полового поведения человека интенсивно разрабатываются в эволюционной психологии, с которой мы познакомимся далее.
Весьма интересен описанный К. Лоренцем феномен индоктринации (Лоренц K., 1998). Индоктринация – это массовое внушение определенной точки зрения. Она возникла в эволюции человека вследствие преимуществ согласованного принятия групповых решений. В теоретической разработке этого явления большая заслуга также принадлежит другому выдающемуся этологу И. Эйбл-Эйбесфельдту (Eibl-Eibesfeldt J., 1989). Хотя, в строгом смысле слова, индоктринация специфична для человека, она имеет глубокие филогенетические корни.
К. Лоренц описал закономерность, характерную для восприятия как животных, так и наших предков: «если ты не способен разобраться в причинно-следственных связях, воспринимай значимое событие как целое» (Лоренц К., 1998). В этом случае фиксируются мелкие второстепенные детали, не имеющие принципиального значения для данного события. И. Эйбл-Эйбесфельдт полагал, что индоктринация и импринтинг (который мы рассмотрим ниже) имеют одинаковые нейрофизиологические и нейрохимические механизмы. Эти механизмы лежат в основе многочисленных ритуалов, которыми насквозь пронизана жизнь современного общества. Все правила «хорошего» поведения, народные традиции, религиозные церемонии – все это ритуалы.
По критерию подверженности чужой точке зрения, как и по другим признакам, люди образуют вариационный ряд. В социальной психологии готовность принятия мнения группы обозначают термином «конформизм». В основе конформизма лежит феномен внушаемости (который мы также рассмотрим в дальнейшем). Хотя механизм внушаемости до сих пор не раскрыт, несомненно, что она имеет глубокие эволюционные корни, поскольку является одним из основных факторов нашего социального поведения.
Модели поведения человека, сформированные за долгую историю естественным отбором для совершенно других условий, где они были адаптивны, оказались нашим тяжелым наследием в век машин, компьютеров, телевидения и универсамов. Это наследство во многом определяет будущее человека. В этом плане наибольшее внимание в этологии человека привлекала тема агрессивности, поскольку она касалась явления, ставящего под угрозу само существование цивилизации. Где эволюционные корни современной «цивилизованной» агрессивности человека? Этот вопрос вызывал (и вызывает) бурные споры, явился причиной самых глубоких разногласий между этологами и гуманитариями.
3.6. Агрессивность
Агрессивность – неотъемлемый атрибут взаимоотношений живых существ. Ведущими факторами формирования этого явления в природе считаются защита территории (и ее пищевых ресурсов) и борьба за брачного партнера. У социальных видов особо острый характер принимает борьба за лидерство и место в иерархии.
Бесчисленные дискуссии на протяжении веков не прояснили вопроса о механизмах агрессивности. С трудом поддается определению и само понятие агрессии. Внутривидовая и межвидовая агрессивность, вероятно, определяется разными механизмами.
Одной из самых дискуссионных в науке стала проблема спонтанности агрессии, выделенная еще К. Лоренцем (Lorenz K., 1963). Вопрос был поставлен так: является ли агрессивность реакцией на какой-либо фактор, или животные сами активно ищут ситуации для агрессии (рис. 3.3)? Понимание всех деталей этого механизма приобрело глобальное значение в проблеме агрессивности человека, поскольку в нем видели ключ к решению проблемы. Если агрессивность является заложенной потребностью, которая неизбежно найдет пути реализации, то единственной возможностью является «переориентация» ее в относительно приемлемое русло (наиболее часто в пример приводился спорт). Если агрессивность вызывается исключительно каким-либо внешним фактором, то следует постараться свести к минимуму действие этого фактора в онтогенезе. Эти два варианта виделись как две альтернативы. В психологии, часто ориентированной на более «оптимистичный» вариант, упорно отстаивалась версия реакции на фрустрацию.

Рис. 3.3. Является ли агрессивность реакцией на какой-либо фактор, или животные сами активно ищут ситуации для агрессии?
Фрустрация – это состояние, возникающее в ситуации неосуществления какой-либо значимой для организма потребности.
Теоретические разработки феномена фрустрации занимают огромное место в психологии человека. У животных к аналогичному состоянию может привести отсутствие сенсорной обратной связи, подтверждающей ожидаемое.
Является ли фрустрация фактором, просто усиливающим агрессивность, или она и есть ее первопричина? Многие авторы, особенно бихевиорального направления, рассматривают фрустрацию как первопричину агрессии. Проявление фрустрации, действительно, весьма наглядно. В наблюдениях за крысами наибольший уровень агрессивности был в случае, когда голодные крысы видели корм, но он был им недоступен.
Но исчезает ли агрессивность, если убрать фрустрационные факторы, если мы пофантазируем и представим организм в «идеальных» условиях существования? Можно не сомневаться – не исчезнет.
Активное функционирование филогенетических поведенческих программ – важнейшая потребность. Вспомним птиц, строящих несуществующее гнездо и ловящих несуществующих мух. Пожалуй, наибольшее впечатление оставляет пример, приведенный И. Эйбл-Эйбесфельдтом. Он демонстрирует поведение дятловых вьюрков (Castospiza pallida). Птицы, содержащиеся в неволе, кормились личинками насекомых и не знали забот о пропитании. Тем не менее они сами создавали ситуацию для реализации своего поведения в природе, рассовывая личинок по вольере, чтобы потом доставать их палочкой (Эйбл-Эйбесфельдт И., 1971).
Даже если нет инстинктов без стимулов (ключевой стимул может быть четко не выражен), это не значит, что инстинкт не будет запускаться в их отсутствие. Долгое бездействие инстинктивной программы – это тоже драйв. Этот факт заставляет вернуться к теме спонтанности инстинкта. Любая инстинктивная реакция требует своей реализации, а нереализованная реакция будет аналогична нереализованной потребности. «Котел» модели К. Лоренца рано или поздно переполняется и запускает слишком долго не функционирующую инстинктивную программу. Более того, в этологии с самого начала говорится, что аппетентное поведение – это не ожидание, а активный поиск релизеров.
Похожие взгляды высказывает В. Р. Дольник: «Ограждая агрессивную личность от раздражителей, запускающих агрессивные реакции, мы не снижаем ее агрессивность, а только накапливаем. Полностью устранить агрессивность невозможно, поскольку она является одним из сильнейших инстинктов человека» (Дольник В. Р., 2003).
Исходя из сказанного, странно, что проблема спонтанности агрессии сфокусировалась на вопросе: является ли агрессивность потребностью или инстинктивной реакцией на стимул? Если агрессивность – это инстинктивная реакция на стимул, то это не значит, что отсутствие этих стимулов (той же фрустрации) решит проблему агрессии в человеческом обществе. Под спонтанностью следует понимать неотвратимость при устранении любых факторов. В этом плане можно привести слова К. Лоренца, что «…мало какой аспект поведения столь ярко демонстрирует свою спонтанность, как явление агрессивности» (Лоренц К., 1998). Например, колюшка изредка атакует модели и без красного пятна, которому традиционно предназначается роль релизера.
Реакция на фрустрацию ни в коей мере не опровергает спонтанность агрессии, поскольку спонтанно накопившаяся агрессия может разряжаться в виде инструментальных реакций вследствие снижения их порогов чувствительности. Эмоциональная модель мотивации В. Вилюнаса, которую мы рассмотрим ниже, дает свое объяснение этому положению. А. И. Шаталкин, даже отмечая переворот во взглядах на наследственность, благодаря исследованию эпигенетических механизмов, тем не менее, рассматривает агрессивность как одну из наиболее «канализированных» поведенческих программ (Шаталкин А. И., 2009).
Многочисленные исследования посвящены выяснению взаимосвязи изоляции, как инструмента фрустрации, и агрессивности. Удивительно, что животные, выращенные в изоляции, а затем помещенные к сородичам, вначале проявляют повышенную боязливость, которая сменяется затем необычной агрессивностью. Это наблюдение подтверждалось на цыплятах, крысах, собаках, приматах. Возможно, изоляция в раннем возрасте нарушает интеграцию процессов избегания и агрессии, формируя аномальную модель поведения, часто с необратимыми последствиями. Особенно четко это явление наблюдается у птиц. Неоднозначность результатов наблюдений, возможно, является следствием того, что изоляция влияет на развитие многих процессов и конечный результат определяется тем, какие из этих процессов преобладают.
Аналогичное воздействие оказывает неестественная обстановка. В живой природе такую ситуацию трудно представить, поскольку каждый вид живет строго в своей экологической нише. Но такие ситуации постоянно создает человек, помещая животных в неволю. Точно такой эксперимент поставил человек сам над собой, поместив себя в неестественную урбанизированную среду, что и явилось причиной не только роста агрессивности, но и ее патологизации.
Рост агрессивности отмечен в эволюции человека и до наступления эры цивилизации. Сомнительно, что дальние предки человека (дриопитеки, австралопитеки) отличались особой агрессивностью, но она явно демонстрирует тенденцию возрастания в ходе последующего антропогенеза. Можно отметить странный феномен каннибализма в эволюции рода Homo. Разные авторы обращают внимание на различные факторы, способствующие росту агрессивности в антропогенезе.
Л. Тайгер и Р. Фокс рассматривают взаимосвязь развития альтруизма внутри «своей» группы с усилением агрессивности на «чужую» группу. Эти авторы подчеркивают, что интеграция территориальных групп в ходе культурной эволюции человека проходила путем принадлежности к определенному символу. В настоящее время эти символы уже сами создают межгрупповые и межнациональные конфликты (Tiger L., Fox R., 1971).
Р. Ардри видит основной фактор роста агрессивности у человека в стимуляции филогенетической программы защиты собственной территории. Причиной этого является прогрессирующее разделение первобытного общества на обособленные территории (Ardrey R., 1966).
Один из ведущих этологов современности Д. Моррис особое значение в формировании агрессивного поведения придает половому отбору (Моррис Д., 2001). Согласно его взглядам, изменение образа жизни наших предков в ходе антропогенеза повышало ценность агрессивности. Более агрессивные самцы стали рассматриваться как надежные защитники в межгрупповых конфликтах. Кроме того, все большую роль в жизни наших предков стала играть охота.
Ян Линдблад считает, что «первотолчок» к росту агрессивности у человека дала растущая способность метко разбивать ракушки моллюсков у «болотной обезьяны», которая одновременно совершенствовала взаимодействие глаз и руки (Линдблад Я., 1991).
Однако глобальной проблемой агрессивность стала именно в условиях цивилизации. Для понимания работы природных механизмов в нашем урбанизированном «зазеркалье» необходимо вначале рассмотреть общие закономерности социального поведения.








