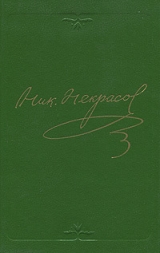
Текст книги "Том 10. Мертвое озеро"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 55 страниц)
Тайна
Ни отец, ни дочь не ложились в ту ночь. Настя с трепетом слушала историю, которую передал ей отец.
«Я часто говорил тебе, Настя, о Наполеоне, о великой войне, которая прославила нашу матушку Россию; часто рассказывал наше житье-бытье с Алексеем Алексеичем – дай бог ему вечную память, – наши походы, сражения, в которых мы участвовали. Но я никогда не говорил тебе о первом нашем походе за границу и о первом моем благодетеле, Александре Фомиче… упокой господи его душу в числе праведников! Александр Фомич, а по прозванию Гарин, был наш ротный; Алексей Алексеич был у него поручиком, а я – унтер-офицером. Господи! И что за добрая душа была у Александра Фомича! И молодец же был! таких красавцев нынче не видно. Не забыть его орлиного глаза, соколиного посвиста, молодецкой удали! Как, бывало, сядет на коня да крикнет: «За мной, ребята!», так каждый готов душу свою положить, хоть в огонь, хоть в воду! И делал же он чудеса с своей ротой, – бывало, что ни есть горячее дело, мы там, и он всегда впереди! Храбрости был редкостной, но только рьян через меру и себя не берег. Дело было в самых первых годах теперешнего столетия. Стояли мы в малом немецком городке. Постояли и ушли. Я ничего и не знал, а потом уж мне вечной памяти Алексей Алексеич рассказал: полюбил он тут одну девушку и жениться хотел… Честный был человек и, будь жив, непременно слово свое исполнил бы! Да как время было военное – сегодня тут, а завтра там, а где послезавтра, одному богу известно, – так и положили они свадьбу на время отложить. Вот и ушли мы из городка, и тут скоро последовало сражение, и в том сражении скончал жизнь свою Александр Фомич. Никто, как бог, его святая воля! Пуля так ловко угодила, что сердечный не жил больше пяти минут, и те употребил, чтоб душу свою господу поручить да о невесте подумать, – а то и показывает, что он ее любил, человек был честнейший, и кабы не смерть, так честь бы ее сохранил свято! По счастью, случился при его кончине Алексей Алексеич, ближе и дороже которого не было во всем свете ему человека. Он и рассказал, как рана и бедственное положение его позволило, тайну свою Алексею Алексеичу. Девушка была бедная: так просил оберегать ее, и как она родит, то сына или дочку блюсти… и тут он вынул пакет (вот я его покажу сейчас) и сказал, чтоб ей отдать, а если ее не будет, так ребенку. И клятву взял с Алексея Алексеича, что исполнит, да тут же и умер, царство ему небесное!
А в том пакете были три билета ломбардные и письмо. Алексей Алексеич только и думал, как бы волю покойника соблюсти, да известно: наше дело военное; полк пошел дальше, как отлучиться? А потом другим трактом в Россию пошли. Тут дело пошло жаркое: француз вступил в наши владения; некогда было и думать о постороннем, надо было безотлучно при полку находиться, отечество защищать. Не оставить же было фронта в такое время, когда и невоенные люди, и старики, и малые ребята готовы были грудь свою под пулю неприятельскую подставить. Вот так и случилось, что только лет, я думаю, будет через девять покойный благодетель мой Алексей Алексеич мог подумать о завещании покойника. Да как было его исполнить? Кто она, мы не знали; было в пакете с билетами письмо: женская рука да подписано только – Каролина. Какая же Каролина? Алексей Алексеич мараковал немного по-немецки, достали еще словарь, долго разбирали; всё поняли и перевели, а всё ничего необходимого не узнали. Пришел четырнадцатый год. Алексей Алексеич уж как хлопотал, чтоб прикомандироваться к полкам, которые в Париж шли. Попал! И уж через силу (у него, сердечного, ты знаешь, сколько ран было) пошел. Хоть и не совсем по пути было, однако ж удалось ему побывать в том городке. Ходил, присматривался, спрашивал – ничего не добился! Иные говорят умерла, иные – в Россию уехала, а иные так просто уверяли, что никакой такой Каролины у них и не было! Мы и подумали, что она точно в Россию уехала, и как воротился Алексей Алексеич – прямо в Петербург, и долго жил там, и разыскивал: ничего не оказалось! Ездили мы потом и вместе, раз и другой, да всё то же: ничего! И положили мы, что, видно, погибла несчастная, и стали думать, что надо, значит, теперь сына или дочь искать. Алексей Алексеич, покойник, всё, бывало, уверял, что, верно, сынком она разрешилась. Я же полагал, что, быть может, и дочерью. Но он всею душою прилепился к мысли, что после друга его и сослуживца остался сын, и такая мысль с летами в нем всё укреплялась. Он только и думал о том, как найдет его, как будет любить, учить уму-разуму, сделает из него храброго солдата и верного слугу государю. Он так часто говорил о нем, что даже дал ему имя, какое пришло и понравилось покойнику… он любил всё называть по-своему, и, бывало, как сгрустнется ему, чуть не плачет и говорит: «Софроныч, голубчик! найди мне Ваню моего, Ваню! Я боюсь, что и умру, не увидавши его!» Вот и ездили мы в Петербург, и искали опять, и всё в газетах смотрели, не попадется ли прозвание: Гарин. И каких нашли Гариных, всех обошли и объездили и всё спрашивали: не приходила ли к ним женщина именем Каролина, с ребенком, и не спрашивала ли покойника. Думали: ведь знала же она его фамилию и, коли приехала в Россию, так должна же была, искавши его, спрашивать у родных и однофамильцев. Однако ничего не узнали и везде получали один ответ: такой женщины не было. И опять мы уехали. И жили мы в Овинищах, и всё горевали, что бог не приводит исполнить завет покойника, и берегли деньги его как зеницу ока. Бывало, покойник, не в укор будь сказано его высокоблагородию, скажет: «Не отделить ли частицу, потом пополним, Софроныч»; но мысль, что вот явится Ваня (он и до конца жизни так называл его), удерживала его руку, и я, грешный человек, хвалил и укреплял твердость его высокоблагородия. И так билеты Александра Фомича и со всеми процентами оставались неприкосновенными до самой смерти благодетеля моего Алексея Алексеича, вечная память праведнику! Иван Софроныч умолк и повесил голову.
– Со смерти его, – продолжал он, подавляя слезы, которыми наполнились глаза его, – билеты перешли ко мне. Я должен был исполнить священную волю Александра Фомича; я дал клятву Алексею Алексеичу, что исполню ее, если только будет малейшая возможность. И вот теперь настал час исполнить ее!
Старик опять помолчал.
– Молодой человек, которого ты видела третьего дня… сам бог привел его ко мне, – сказал, возвысив голос, старик, – …этот молодой человек – сын той женщины, которой приказано вручить деньги, сын Александра Фомича!
– Но точно ли вы уверены? – спросила пораженная Настя. – Через столько лет…
– Ничего не может быть яснее доказательств, которые я имею. Мать его звали Каролиной. Она выехала из Германии в 18** году, когда мальчику еще не было года, а в 18** мы были там с полком. Он хранит письма, которые остались по смерти его матери; они писаны Александром Фомичом, под ними подпись: Гарин. И писаны к ней, – утвердительно прибавил старик, – молодой человек перевел мне их, и в содержании одного я узнал ответ на письмо, которое храню вместе с билетами! Сам бог, говорю, вступился в дело сироты; время, которого я так нетерпеливо ждал, наступило… Но оно наступило поздно… поздно! – повторил он угрюмым и скорбным голосом. – Так поздно, что лучше, если б я умер ранее!
– Но отчего же, батюшка, вы не отдадите ему сколько можете… Или был только один билет? – спросила Настя, начиная догадываться, каким билетом были уплачены деньги господину Переваленко-Зацепе.
– Их было три, – отвечал старик, – один в четыре тысячи, другой в шесть и третий в пять, всего было положено пятнадцать тысяч, но с процентами, накопившимися в течение с лишком четверти столетия, они составляли довольно значительную сумму, именно столько или несколько более того, что теперь нужно молодому человеку, – с глубоким вздохом прибавил старик. – Первым билетом я уплатил по взысканию нового управляющего…
– Знаю, – перебила Настя. – Несчастный, ужасный день! с него начались все наши несчастия. О, зачем я не знала тогда, какую жертву вы приносите, я не была бы так малодушна. Простите, простите, батюшка, я была невольною причиною…
– Никто не виноват, – перебил старик плачущую дочь свою. – Бог знал мои силы: испытание было выше их и я не вынес его! Учись, Настя! перед тобою страшный пример: в жизни человека нет ничего выше и священнее долга и горе нарушителю его!
Старик печально поник головой.
– Но я думаю, батюшка, – сказала Настя, – что если вы отдадите ему остальные билеты, то дело может уладиться.
– У меня нет их, нет ничего! – отвечал старик.
– Но где же другие два билета?
– Я их проиграл.
– Как, вы играли?
– Ему нужно сорок тысяч. Почти четвертой части суммы недоставало, когда я узнал в нем сына моего благодетеля. Несколько времени тому назад я играл в первый раз в жизни – ты знаешь, по какому случаю, – и с таким счастьем, что одно воспоминание о нем внушило мне безумную мысль, которая погубила нас! Но тогда я выиграл страшную сумму, а теперь мне нужно было только десять тысяч… всего десять тысяч! – тоскливым голосом повторил старик. – И я думал, что если счастье благоприятствовало мне, когда нужно было поправить ошибку ветреника, который завтра же мог повторить ее, то неужели оно откажет мне в своем покровительстве, когда нужно спасти честь и будущность человека! Вот какая мысль была в моей голове. Люди, с которыми я тогда играл, обошлись со мной как с равным; они ласкали меня и приглашали приходить впредь. И я вздумал воспользоваться их благосклонностию. Я пошел к господину Брусилову, который казался мне добрее и благороднее других, хотя все они люди достойные, ничего не могу сказать против них. И действительно: Брусилов принял меня с удовольствием, и не было в его ласке ничего фальшивого или обидного. У него в тот вечер было только двое друзей, и, когда мы посидели и поговорили, он сказал мне: «Если вы хотите играть, почтеннейший Иван Софроныч, – я ведь знаю, вы большой мастер играть, – прибавил он с улыбкой, но такой доброй, что ничего в ней не было обидного, – то приходите послезавтра: у меня будет много народу… Впрочем, если хотите, то и сегодня можем немного поиграть». Нетерпение мое было так сильно, что не знаю, как я тотчас же обнаружил его, и мы стали играть. Игра продолжалась долго; я не был в проигрыше, но и не выигрывал; уже стало светать; я поставил несколько больших кушей – и проиграл около десяти тысяч. Когда мы расходились, один из гостей Брусилова сказал мне: «Если вам угодно, приходите завтра ко мне: будем играть, и вы, верно, отыграетесь». Я взял адрес и обещал прийти. И я пришел, и когда возвратился домой, то недосчитался еще в кармане моем нескольких тысяч. Были тут люди, которые проиграли больше моего: они проклинали свое счастье, громко негодовали и чуть не плакали; я молчал; но если б они знали, что происходило в моем сердце! У меня оставался один билет и один вечер… и этот билет и этот вечер должны были решить мою судьбу! я знал, что несколько минут счастья – и всё будет поправлено, и еще не терял надежды. Я помнил, как в течение получаса выиграл несколько миллионов, а теперь мне нужно было только тридцать тысяч! С теми, которые я еще имел, они составили бы ровно ту сумму, которая была необходима. Пять или шесть часов тому назад я пошел к Брусилову, – и через два часа последний билет перешел в руки счастливого соперника! Видно, я был очень смущен своим проигрышем, – окружающие заботливо спрашивали, что со мной; добрый хозяин предлагал продолжать игру, обещаясь подождать, если я проиграю. Но я ничего не сказал и ушел; видно, в то время уже начинался припадок безумия, в котором ты нашла своего отца…»
Окончив свой рассказ, старик долго не возобновлял разговора. Настя также погрузилась в глубокую думу. Она предлагала много ребяческих и несбыточных средств достать деньги, при которых Иван Софроныч только грустно улыбался и качал головой; но наконец любовь и сострадание к отцу внушили ей счастливую мысль: она упомянула о Тавровском.
– Да, я пойду к нему! – сказал Иван Софроныч. – Я подавлю ложный стыд и ложную гордость, когда дело идет о спасении чести человека… двух человек, – поправился старик. – Я думаю, я имею право, – с гордостию прибавил он, – просить у него заимообразно сорок тысяч: я отыграл ему имение и отдал ему назад на одну карту всё его состояние, когда оно уже было моим!
Дождавшись одиннадцати часов, Иван Софроныч отправился к Тавровскому. Его встретил черный слуга, которого Иван Софроныч робко спросил: дома ли Петр Прохорыч?
– Пожалуйте! – отвечал грум, отворяя дверь во внутренние покои.
Старик нерешительно шел и, думая, не ошибся ли мальчик, выразительнее повторил вопрос.
– Пожалуйте, пожалуйте! – отвечал черный путеводитель, развязно отворяя дверь в кабинет Тавровского.
– Да мне не самого барина, а камердинера; нельзя же без доклада к барину? – заметил Иван Софроныч, желавший сначала посоветоваться с опытным камердинером.
– Да я к нему и веду вас, – отвечал мальчик.
«Что такое? Уж не сделался ли Петр сам барином?» – подумал Иван Софроныч.
Пройдя кабинет, черный путеводитель откинул драпри и вошел с Иваном Софронычем в великолепную уборную.
В ней, перед уборным столиком, величественно сидел Петр. Он решительно разыгрывал роль своего барина, и, вероятно, чтоб довершить сходство, мазался его помадой, прыскался его духами, чесался его щетками и, наконец, с ног до головы оделся в платье Тавровского. Таким образом, Иван Софроныч второй раз присутствовал при его туалете, перебрасываясь с ним словами. Тут же находился другой гость – человек в потертом сюртуке, с фиолетовым носом и красными ушами. Петр попивал с ним кофе и курил дорогие сигары.
– Вот, Иван Софроныч! – сказал, между прочим, камердинер. – Матушка еще писала, не приеду ли я с вами в Софоново, а выходит, что и сами вы туда не попали… Эх, охота вам было!
Но Иван Софроныч не был в духе продолжать беседу и скоро простился, огорченный неудачею своего посещения: оказалось, что Тавровского нет дома и не будет с неделю. С целой компанией он отправился в маленькое путешествие по Финляндии.
Провожая Понизовкина, камердинер спросил:
– Где вы живете нынче, Иван Софроныч… или всё там же?
– Там же, – отвечал старик.
– Я всё собираюсь к вам зайти.
– Заходи, заходи, голубчик… Да хорошо, знаешь, Петруша, кабы ты повестил тотчас, как воротится барин: мне очень нужно его видеть.
– Повещу, повещу, – отвечал камердинер, – Сам приду…
В отсутствие Ивана Софроныча явился Генрих Кнаббе, которому старик назначил в тот день свидание. Настя предложила ему подождать. С невыразимою нежностью и грустью встретил его старик.
– Я еще не могу сегодня исполнить своего обещания, – сказал он ему, – но, если бог поможет, я непременно исполню его. Сколько дней вы можете еще ждать?
– До пятницы следующей недели (тогда была суббота), – отвечал Генрих. – Хозяин мой писал, чтоб я непременно возвратился к пятнадцатому числу. Если в пятницу я не явлюсь к нему и он не получит письма о причинах замедления, он будет беспокоиться. Даже, вероятно, пошлет туда кого-нибудь и напишет кому-нибудь, чтоб разведали, и тогда всё может открыться…
– Семь дней, – медленно сосчитал по пальцам Иван Софроныч. – Наведайтесь и раньше…
– Что сказал вам Тавровский? – спросила Настя, когда Генрих ушел.
Старик сообщил ей результат своего посещения. Они оба пригорюнились и с полчаса молча думали.
– Осталась еще надежда, – сказала Настя. – Батюшка! позвольте мне сходить… одной, – прибавила она, ласкаясь к отцу. – Я прохожу не более часа.
– Куда?
– Не спрашивайте! – отвечала она, продолжая ласкаться к нему.
– Дитя мое! – сказал старик, целуя ее. – Ты боишься признаться; ты лучше своего отца помнишь обещания! но мы теперь в таком положении, что если б кто решился спасти нас, тот – кто бы он ни был– получит вечное право назваться нашим другом!
– Вы не шутя говорите, батюшка? – тихо спросила Настя, вспыхнув.
– Да, я так думаю, – отвечал старик. – Но едва ли найдется такой человек.
– О, я уверена! – проговорила Настя и поцеловала отца.
Потом она оделась, снова поцеловала его, просила успокоиться, уснуть и вышла…
Путь Насти лежал довольно далеко. После долгих странствований и расспросов она наконец пришла в Измайловский полк, отыскала Девятую роту, а в ней дом господина Ерофеева, и постучалась в двери ветхого деревянного флигеля. Ее впустила бедно одетая старушонка, и, войдя в довольно неопрятную комнату, Настя увидела еще несколько таких же старух и детей в лохмотьях; старухи попивали кофей, гадали на картах и тараторили.
– Здесь живет господин Грачев? – спросила Настя.
– Съехали, матушка, съехали, – отвечала одна из старух.
– Куда же? он оставил вам адрес?
– А как же, матушка. В Коломну, слышь, переехал, в Паточную улицу, в дом мещанки Афросимовой. Вот, извольте посмотреть.
Старуха подала ей лоскуток бумаги.
Настя очень удивилась, выслушав старуху и прочитав адрес: улица, куда переехал Грачев, была та самая, в которой жила она.
– А давно он съехал туда? – спросила Настя.
– Да уже давненько, голубушка… Да вот, помнится, вскорости после того, как Маремьяне Степановне счастье выпало: барин добрый такой на улице поднял ее полумертвую, домой привез и назначил ей пенсион. А потом он долго с жильцом говорил, а скоро потом жилец и съехал.
Настя не расспрашивала долее. Распростившись с старухами, она поспешно вышла и отправилась в обратный путь. Придя в Паточную улицу, она скоро нашла дом мещанки Афросимовой, который приходился почти против их собственной квартиры, и опять спросила, здесь ли живет Грачев и дома ли он.
– Дома, – отвечал ей небритый старик, в котором по ухваткам и бороде нетрудно было узнать отставного солдата, и, отворив дверь в соседнюю комнату, прибавил:– Пожалуйте!
Настя вошла, и в одно время произнесены были два восклицания:
– Настя!
– Гриша!
Гриша находился в отчаянном положении. Мучительная ревность терзала его. Вскоре после свидания с Настей Гриша переехал в Паточный переулок, чтоб быть ближе к ней. Целые дни проводил он у окна и счастлив был, когда удавалось ему хоть мельком увидеть Настю. Накануне настоящего дня, уже поздно вечером, он сидел, по обыкновению, у окна и смотрел в нижний этаж огромного дома, в котором жила Настя. Он видел, как около одиннадцати часов вышел из ворот Иван Софроныч и скорыми шагами прошел мимо его дома. Мы знаем, что спустя не более пяти минут вышла и Настя. Гриша долго не верил своим глазам; наконец мучительное чувство ревности охватило его. Он уже ничего не думал, не соображал; одна мысль, что Настя неверна ему, овладела его умом. Он поспешно оделся и выбежал на улицу. «Она едва дождалась, чтоб ушел отец, и сама ушла… куда?..» Гриша не сомневался, что она шла на свидание с счастливым его соперником. И он хотел подстеречь их… Строя в разгоряченной голове своей планы мщения, он тихонько крался по следам Насти, не замечая, что впереди, в расстоянии еще двадцати шагов, шло третье лицо, служившее в свою очередь предметом наблюдений Насти. Правда, было темно, но если б Иван Софроныч шел ближе, Гриша не заметил бы его: во всем мире он видел теперь одну Настю и мог помнить и думать только об одном, что Настя изменяет ему! Когда Настя притаилась у лесенки, он не сомневался, что она поджидает своего любезного, и также спрятался неподалеку, нетерпеливо выжидая его появления. Мы знаем уже, что спустя час Настя переменила намерение и решилась воротиться домой. Тут уже Гриша не мог ждать долее и, кинувшись к ней, встретил ее теми оскорбительными словами, которые так удивили и огорчили бедную девушку. Воротившись домой в сильном негодовании, Гриша не мог ни спать, ни спокойно обдумывать свое положение. Он метался на постели, рыдал и повторял, что всё потеряно и погибло. В таком положении провел он остаток ночи и часть утра до той самой минуты, когда перед ним неожиданно появилась Настя.
Как бы ни были озлоблены друг против друга влюбленные, стоит дать им полчаса времени, чтоб они непременно помирились. Точно так же случилось с Гришей и Настей. Сначала были слезы, отчаяние, взаимные упреки. Гордость не позволяла Насте оправдываться. Ревность не допускала Гришу отвергнуть свои подозрения, которые, казалось ему, были так несомненны, тогда как против них он не имел ничего, кроме холодного замечания Насти, что она невинна и что он глубоко оскорбил ее. Но когда Настя объявила причину своего посещения, коснувшись страшного положения отца и своего собственного, Гриша начал понимать истину. И скоро он лежал у ног своей возлюбленной, обливая их слезами, называя себя чудовищем и умоляя о прощении. Труднее было смягчить гордую Настю, в которой недавнее оскорбление было еще слишком свежо. Гриша должен был употребить много времени и красноречия, описывая чувство, овладевшее им, когда он увидел Настю одну, ночью, среди улицы! Но, видно, описание было удачно, – Настя всё простила ему!
Гриша клялся, что непременно достанет к пятнице деньги, нужные Ивану Софронычу, причем Настя не забыла сообщить ему слов своего отца: «Мы теперь в таком положении, что человек, который спасет нас, – кто бы он ни был, – получит вечное право называться нашим другом».
Они расстались, счастливые надеждой скоро свидеться при лучших обстоятельствах.







