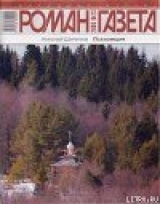
Текст книги "Псаломщик"
Автор книги: Николай Шипилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Эпилог
Мои друзья разбились на стосороковом километре от Убийска, взлетев в небо с трассы на скорости около двухсот километров в час. Зачем-то же я остался жить здесь, внизу?
2006 г.
РАССКАЗЫ
В монастыре
1Утро было чудно синим, как забытое льняное поле.
Пора бабьего раннего лета из самых недр России взывала о себе к иссыхающим людям. Если иметь живое еще сердце, то ее, эту пору, можно было принять за стареющую красавицу, которая решилась уйти в невесты Господни. Но по доброте сердечной она явилась проститься с мирянами в своей девической, никому не нужной красе…
Так усталая мать беспомощно грозит жестоким детям: «Вот погодите! Умру – попомните…»
Этим сентябрьским утром Батраков снова влюбился в осень, как влюбляются в детские фотографии привычной жены.
Батраков недосыпал – Коленька подрезал орлиные крылья суток до цыплячьего размаха, но, вопреки расхожим представлениям о времени, жизнь не понеслась вперед и вскачь, а плавно растеклась вширь. Так холодное коровье масло на красную Масленую солнечно, жёлто и радостно растекается по черным чугунным сковородкам.
Снов он, Батраков, не помнил, но пробуждался, бывало, с какой-то ускользающей светлой мыслью, а когда ловил мысль, то мог думать ее долго – она росла и ветвилась. И этим утром его разбудили слова кого-то из персонажей уже забытого сна:
«Жрецы никуда не исчезли из мира…»
– Папа, бъиця! – тут же приказал из своей зарешеченной кроватки Коленька. – В манастий – биби!
– «Вот те на! – не открывая глаз, уцепился он за кончик нитки из бытия в инобытие. – Какие жрецы? Что я знаю о жрецах?…»
– Да, Коленька, да… Я помню, знаю… Беня знает за облаву…
Без четверти семь малочисленное семейство стояло в устье проселка, впадающего в хайвэй. Да, в хайвэй, который некогда назывался «сошейкой». Но страна– сателлит переходила на язык оккупанта и, как всякое легко контуженное существо, ее слегка поташнивало. Но она влачилась, гонимая штабными, не ведая цвета знамени над головой.
Соскучившийся за ночь по сыну, Батраков взял его на руки.
Чисто вымытые Коленькины уши розово и морозно просвечивались востекающим солнцем.
Наташа и без грима выглядела красавицей. К ней, статной и весомой, не подходили стандарты подиумной красоты – она сама по себе. В монастырь она надела на голову легкий платок вишневого цвета, и так это было умно, что, казалось, цвет этот принадлежит лишь ей одной, что она сама его выдумала. Вяленым свежим сеном пахла светловолосая голова Коленьки. Батраков уткнулся в нее прокуренным носом. Знобящим, неописуемым чувством кровной близости и печалью вечной разлуки обратился в слабой душе Батракова запах этого сена…
Коленька притих, словно впал в утреннюю дрёму.
Когда точно в девять за ними подошел автомобиль, когда обменивались коротенькими приветствиями и когда приехавшая Екатерина Христофоровна потрепала малыша за щиколотку, говоря, сквозь страстно стиснутые зубы: «Ух, ти, банда!» Коленька только вяло лягнул ножкой – он словно сросся с отцом.
Чем сейчас было для него время, которое деньги? Что деньги для ангела? Пыль бьющихся черепков…
2В дороге Батраков коротко познакомился с мужем дородной Екатерины Христофоровны, который впервые решился переступить порог православного храма и начать воцерковление прямо с монастыря. Это был молодой еще, некурящий отставной полковник высокого роста, несколько затруднявшего ему водительскую свободу. Цыганские сливовые глаза отставного полковника были влажны и остры. Они сидели в припухших мешочках, как стрелки в наспех отрытых окопчиках на господствующей высоте, из которых бдительно простреливали недальнюю дорогу. Звали его Ярославом.
– Что происходит с генералом Трошевым, Ярослав? – спросил Батраков, слушая как жены их, начавши о погоде, помалу втянулись в разговоры о безбожных ценах. – От него ждали многого…
– Башню клинит… – объявил Ярослав и попытался повертеть красной шеей. Шея похрустывала и канцелярски шуршала. Взгляды их встретились в зеркальце заднего обзора и полковник переспросил:
– С Трошевым, вы говорите?.. А что с ним происходит? Вы лучше спросите: что с нами, полканами, происходит… Были беззаботными – стали безработными… Катя вот меня на довольствие поставила, а не она бы, родненькая, – так прямо хоть в петлю ныряй… Стреляться, брат ты мой, патронов нет. – И он снова похрустел шеей. – У вас какое звание, Михаил?
– Раб Божий… – усмехнулся Батраков, прижимая к себе осовевшего Коленьку. Тот открыл сонные глазки и подтвердил:
– Бози, Бози…
Полковник прочистил горло легким кашлем и, сочтя, наверное, невежливым свой уклончивый ответ, продолжил в иной аранжировке:
– Вы вот говорите: от него ждали… Я вас правильно понял, Михаил? – и, не дожидаясь ответа подвел черту: – Получают чаще от того, от кого не ждут. Согласитесь?..
Екатерина Христофоровна зримо обеспокоилась предполагаемой колкостью характера своего мужа и приказала ему прекратить политические дебаты в такое светлое утро. Она даже нахмурила милые белесые бровки. Но тот нимало не обеспокоился исполнением приказа, а, как опытный полемист, вернулся к точке отсчета:
– Башню клинит… Вы, Михаил, что же: думаете там… – скрипнул он шеей, – наверху, меньше знают, чем мы с вами? Отнюдь-с, сказала графиня!..
– Ты еще анекдот расскажи, Яроша… – с видом безнадежного отчаяния посоветовала жена полковнику. – В монастырь ведь едем, солнышко!
– Анекдот? – Полковник с улыбкой подмигнул Батракову в зеркальце. – Ну, слушай… Приезжает полковник с полигона…
– Ой, не надо, не надо! – засмеялась Екатерина Христофоровна и свернутым в трубочку журналом «Русский дом» легонько стукнула мужа по губам, ничем не рискуя, как ей казалось. – Вот тебе!
Наташа Батракова обеспокоилась:
– Катя! Ты же мешаешь ему рулить!
– Ему? Рулить? Да он танки водил! Брал за дуло – и дул по кочкам! Правда, Яроша?
– Всех водил. Тебя одну не проведешь… – И снова получил по губам. – За носик…
– Дай мне Коленьку! – Наташа подергала ребенка за рукав, показывая этим, что занервничала. – Когда ты купишь какой-нибудь пылесос? Ну, жизнь!
– Наташа, я ж не ездил столько лет. Тут ведь опыт нужен!
– А разве вы в киноинституте вождение не сдавали? – спросил полковник. – Кстати, о носиках: у нас в Таманской ваш Носик служил… В мотострелках…
– Сдавали, – ответил Батраков. – Но навсегда… В Таманской, вы сказали? Это в той, которая баррикадников в девяносто третьем расстреляла?.. В той, которая фамилию Романовых осквернила?
– Ми-и-иша!
– Яро-о-оша!
– Кто не без греха, – мрачно сказал полковник. Он скрипнул шеей так, что разбудил Коленьку. – А что касается династии ваших Романовых, так за ними крови не один мешок… Бог терпел и нам велел…
– Да уж поменьше, чем за вашим ФЭДом!..
– Аминь, – сказал проснувшийся на слове «Бог» Коленька. – Коленька Богом тянеть… будить…
За такое заявление он получил по губам от мамы и щелбана от папы.
– Сказано «аминь» – аминь! – Батраков поцеловал ребенка в покрасневший лобик и показал на луг за окном: – Смотри, Коленька – лошадка!..
– Неть! Аминь! – упрямо повторил мальчик, послюнявил палец и потер ушибленное место.
Все засмеялись и затихли на время. До нового женского монастыря, если верить устным лоциям, оставалось не более сорока минут езды.
3Как же чудно устроился деревянный монастырский посад!
На отрубе старого села, возле песчаной усновосприимной горки он встал в страшной неземной красоте, понимающий печальное небо, отвечающий ему деревянными куполами-сродниками. Из дьявольского плена обещающий этой лазурной синеве верность и послушание.
Как, на эхо каких дедовских молитовок отозвались бедные кошельки мирян? За семь лет встали здесь и два храма, и банька, и общежитие насельниц с белыми занавесками на оконцах, и хлев, и птичий дворик. Все это пахло свежим, умиренным, но не умершим деревом и фимиамом. Здесь все говорило, шептало, пело: «Мир!»
– Проходите! – остановилась одинокая монахиня с ведром, завидев паломников. Она переложила дужку ведра из правой в левую руку и указала на храм. – Там у нас летняя церковь… А зимняя – там, на погосте…
Говорила она негромко и ровно, но слова ложились на слух, как на пух.
– Спаси Господи, матушка! – отвечала бывалая паломница Наталья Батракова. Полковник громко кашлянул, покраснел наравне с шеей, поклонился и сказал что-то вроде:
– М-м… Славно здесь у вас…
– А служба начнется в девять? – спросил Батраков.
– Да, Литургия в девять. А сейчас сестры читают кафизму.
– А много ли народу у вас бывает, сестра? – спросила и Екатерина Христофоровна.
– Нет, – потупившись отвечала та. – Немного. Это монастырь новый.
– Тетя, – сказал Коленька. – Мамаська… – и прижался к ноге отца, не отрывая от юной монахини глубокого взгляда. Та отвела глаза и, поклонившись уже в развороте, на ходу, поспешила куда-то.
И паломники – всяк сам по себе, но одновременно – стали осматривать монастырскую усадьбу. Батраков с Коленькой поднялись в гору к птичьему двору. Коленька со всем соборным вниманием выспавшегося младенца рассматривал чернушек, пеструшек и черно-малинового, янтарноокого петуха с чешуйчатыми налитыми шпорами, который тут же возгласил.
– Это курочки, сынок… А это – петух. Слышишь, как он поет свой сигнал?
– Да… – серьезно и с благодарной готовностью отвечал мальчик.
– Мысли разные в голову лезут… – проговорил полковник за спиной Батракова.
Имеющий уже небольшенький молитвенный опыт, Батраков порекомендовал:
– Гоните их, эти мысли, Ярослав. И на святой земле бес не дремлет. Скорее, наоборот: здесь он искушает со всею своей ничтожной силой: гляди-ка, жеребец – монашка! Или…
– Да я не о монашках, Миша… – сказал полковник. – Я о смерти…
Не служивший в армии по причине плоскостопия, Батраков вечно чувствовал свою вину перед теми, кто нес воинскую службу. Даже не вину, а угрозу вины, ее мрачную мужскую тень. И сейчас, чувствуя, как его охватывает конфуз, и не желая подчиниться ему, Батраков заспешил с благоглупостями:
– Время придет – все там будем… Думай-не думай! но – ах! – как крепко он прижал к себе горячее тельце сына… – Туда, как говорится, не бывает опозданий…
– Это так, – согласился, вздохнув, полковник. Это не был тяжелый вздох. Батракову почудилось в нем облегчение, какое бывает у человека, одолевшего в привычно тяжелом бою. – Это так, Михаил. Только смотрю я на это кладбище… Вот бы, где думаю, я лег бы спокойно… Ах, как же хорошо-то и мирно!..
– Я вас понимаю, – глупо сказал неглупый человек Батраков.
– Мина… – сказал притихший в новом чувстве Коленька, по-детски безмысленно отозвавшись на слово «мир» антонимом…
4В храме малолюдно.
Батюшка служил один. Он – высок, тощ, молод и как-то по особенному чист, несмотря на созвездия и кружево конопушек по бледному лицу.
Горели, потрескивали свечи и ангельски пели монахини, вставшие не на крыльце-клиросе, а полукружьем, обративши лица к регентующей.
Служба длилась уже около трех часов.
Коленька, как выяснилось, был еще мал для такого послушания. Когда Батраков отпустил его на пол, то он потопал осмотреться. Он держал себя до поры как всякий послушный и в меру любопытный ребенок. Однако каким-то чудесным чутьем он распознал со спины утреннюю монахиню и решил выразить ей свои чувства. С криком «аминь!», который должен был сказать окружающим о том, что он, Коленька, тоже не лыком шит, маленький Батраков с разбега врезался в черные одежды той монахини. Она качнулась, едва не выронив молитвослова, но даже не повернула головы. Пение ее длилось ровно и благостно. Батраков схватил Коленьку на руки и выскочил во двор – он понял, что ребенку уже невмоготу, что ему надо двигаться.
Они стали бегать с горки, Коленька упал, заплакал, выплеснулся и притих.
Тогда Батраков шепнул ему на ухо, что это Бог наказал за шалость, и увидел стоящего на углу храмового придела полковника. Тот утирал обильные слезы.
«Какое же я ничтожество в сравнении с этим воякой… – подумал Михаил Трофимович. – Ведь и мне часто хочется заплакать во время богослужения, а я стесняюсь: люди подумают, что актер во мне плачет… Да мало ли что они думают?.. Перед сыном стыдно… Ах, как стыдно перед этим мудрым ангелочком…»
– Ох! – подошел полковник, все еще утирая слезы и выпрастывая нос в отглаженный белый платок. – Ох, ну и Коленька – век не забуду! Гер-р-рой! А? Вы видели? Разбежался и – на та… на та… на та-ра-а-ан! – Полковника снова разобрало, и они хохотали, обнявшись с Батраковым, как братья.
Смеялся и Коленька, показывая пальцем на огромного белого гусака, который тянул шею и махал тяжелыми крыльями, пугая свое вольное прошлое попыткой возврата – туда не знаю куда.
Никому и ни за что не было обидно.
Светило и играло солнце.
И никуда не хотелось уезжать из этого трудного, из этого алмазно-ясного мира…
В июне
1На все вопросы о том, что же приключилось на старом кладбище, Коленька не отвечал. И следа румянца не проступало на млечном лице ребенка. Батраков прижал его к себе – сын заплакал молча, как взрослый мужчина.
– Папка… – шептал он. – Папа…
– Я здесь, Коля… – Батраков, приткнул его лицо к своему плечу и стал поглаживать по затылку и косицам. – Давай споем: как на Колины именины…
– Они хотели меня унести… – Коленька повернулся к отцу, и глаза его были полны обиды, но не страха. – …за темные леса, за кр-р-рутые гор-р-ры… – Чтобы быть правильно понятым, он даже букву «эр» произнес старательней, чем всегда.
Не зная, что же все-таки приключилось, Батраков посоветовал Коленьке:
– Не бойся, сынок… Где наша не пропадала!
Он не спускал сына с рук до тех пор, пока тот не заснул и бледный румянец не заиграл на его лице.
Сам спустился на кухню, где Марианна Федоровна со всем тщанием осматривала голову Наташи. Не жалея, она лила из флакончика спирт прямо на эту неугомонную голову.
– Кто-нибудь что-нибудь покажет по делу? – Батраков увидел свежие ссадины среди непроходимых, как густой лес, волос Наташи. «Маньяк?..»
Едва Наташа открыла рот, как Марианна Федоровна сердито отозвалась Батракову:
– Наташа с Коленькой поперлись на кладбище! На них! напали! вороны!
– Отчего же вы на меня-то сердитесь, Марианна Федоровна? Я ведь не ворона…
– Да… Действительно. Вы у нас не ворона… Вы у нас орел! – съязвила теща, и тут же глаза ее обволоклись слезою. – Извините меня…
Как по команде «вольно», Наташа тоненько взвыла и спрятала в ладонях распухший от плача нос.
– Уколы от бешенства-а-а, до-о-чушка-а-а, ста-а-а-авить придё-ц-ца-а-а…
Ей вторила Наташа:
– Нет, мама-а-а… Молиться нада-а-а…
Они обнялись.
– Ребенка заикой сделаете… – Батраков бестолково искал валерьянку в посудном шкафу. Его бесило незнакомое еще пяток лет назад чувство своей вторичности и незначительности в семейной иерархии.
– Ребенок уснул, так вы давай выть… как пожарные машины! Вон как из вас вода-то хлещет, родные же вы мои!
– Это мне за храм… Это за храм мне такие искушения! – заговорила вдруг Наташа замороженным голосом медиума. – Как только мы начали строить наш храм – так хлынуло: золотую серьгу потеряла – раз, перчатки за сорок долларов лайка – два…
– Двадцать баксов перчатка!… – сочла теща.
– Садись: пять! – съязвила Наташа.
– Подумать только: профуговать одним только ротозейством, проворонить аж целых две пенсии ветерана войны и труда!… Где же эта ваша валерьянка-то черт-т-това?
Наташа вдруг сама успокоилась и приложилась поцелуем к щеке матери.
– Да, проворонила. И не надо никакой валерьянки, – высморкалась она в материнский фартук. – Он меня, гад, бил, мама, хватался когтями своими чешуйчатыми и грязными за мои волосы! Он, мамочка, гадил на меня сверху! даже стирать теперь проти-и-ив-но-о-о! О-о-о!
Наташу тошнило. Она, поднесла руку к животу, чтобы сдержать спазмы, легко оттолкнула с пути огромного мужа и промчалась в уединение.
– Кто, скажите мне, хватал ее и за какие волосы? – Батраков, не слыша объяснений, пытался понять причину семейной тревоги. – Ворона? Тогда почему мужского рода – «он»? Кто же это он? Кто этот «он», который на нее гадил – скажите, наконец, Марианна Федоровна?
– Кто да кто! Агрессивный Сатано – вот кто! На кладбище! Сатана кто: он или она? Мужского рода, но в виде кладбищенской вороны! – она ударила шеей, как воркующая голубка. – А вы уже взрослый дядька, Михаил Трофимович! И вы уже сами должны знать, что когда начинаешь богоугодное дело, то лукавый искушает с неистовой силою!
– Ну, хорошо, хорошо: с неистовой… – перевел дыханье Батраков и сел за стол. Он похрустел шеей, показывая, что обеспокоен одним этим слышимым хрустом не то мышц, не то позвонков и готов к разумной беседе.
– Господи! Хорошо, что я полуатеистка!
«Метиска, стало быть… Ну, почему никто не слышит в этом доме ни слов моих, ни мыслей! Я представляюсь им слишком незначительным…»
Так он считал, уязвленный наступающей старостью и безработицей.
– … Хорошо, что ногами на земле стою, а то бы и умом тронулась – страсти-то какие! А они тут сидят как ни в чем не бывало!
«Они» – это он, никчемный Батраков, который, не умея склочничать, тут же закипятился и оглупел:
– Он что: живет там этот «Сатано»? Я удивляюсь вам, Марианна Федоровна: вы умная, тонкая, образованная, но конфликтная… Да! Чего вам не хватает – у вас все есть, чтобы заплатить налоги и спать спокойно! Не пора ли… м-м-м… Один только ваш тон… способен…
«… Живу среди баб – сам таковой становлюсь…» – Он нервно умыл руки и прервал обличение.
– Ну, хорошо, Марианна Федоровна! – сказал он. – Предлагаю вечный, как водка, мир. А всю эту галиматью с кладбищем хотелось бы услышать с самого начала. Можно?
– А что вам мой тон?.. Это у меня юмор такой. Плюньте и разотрите. Я на работе всю жизнь командую, потому и тон… Все нервы уже на пережоге…
Как по отмашке дирижера, она сменила тон и рассказала, что на Старом кладбище Наташа и Коленька подверглись нападению ворон. Одна, пикируя, била телом и клювом Наташу, а еще три серые особи пытались за капюшон утащить Коленьку. У Наташи порвана мочка уха – ворона утащила серьгу.
– Знаете вы, Михаил Трофимович, какой максимальный размах крыльев у серой вороны? Не знаете? А метр не хотите! – теща крестом раскинула руки и тут же, стыдясь чувств, бросила их к лицу, закрыла его ладонями. – И шнобель – во! Какой ужас! Какая наглость! – Голос ее звучал как из бочки.
– Что она, наша Наташа, делала на Старом кладбище? Чего они с Коленькой туда, не при детях будет сказано, поперлись? – спросил Батраков в смятении чувств, не замечая того, как руки его ищут в карманах пачку сигарет.
Он уже знал свои действия наперед: «Возьму ружье…». Он уже думал о частностях своего плана. Уйдя в себя, он едва слышал тещу, которая язвительно отвечала:
– Это у вас там никого нет! А у нас там весь наш род по линии Перовых лежит – у нас-то в роду артистов не было! Все наши на кладбище полеживают, все! Все наши были православными!
– «… И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе…»3636
«Екклезиаст»
[Закрыть] – с нажимом произнес Батраков.
– Вот – вот! – Марианна Федоровна, похоже, испугалась мрачной велеречивости. – Это цитата, я надеюсь? Артист-то вы неплохо-о-ой! Уж этого у вас не отнимешь!
Батраков давно научился шутить сам для себя и во имя сохранения здравого рассудка.
– Я уже не артист… Я – суровый мститель, – сказал он и печальным белым клоуном пошел за ружьем.
2Давным-давно вечный «командировочный» тесть привез из Вьетнама американскую компрессионную винтовку «Кросман» сто второй модели. «Воздушка» мирно покоилась в одном из домашних чуланчиков. До той поры, когда Коленька подрастет, войдет в рассуждение и займется отстрелом воробьев в подсолнухах, винтовку не трогали без нужды. Била она почти бесшумно, а пульки были притягательно красивы оттого, что покрыты тонким слоем меди. Когда Батраков смотрел на медь, у него становилось солнечно на душе, и мысли обретали стройность. Рассудок его уже не вздымал донного ила ненависти: какая-то грязная безмозглая тварь напала на Коленьку и до крови рассадила милую Наташину голову! Тут сам вид оружия ублажал предчувствием черной мести.
Патронов было еще пачек десять – он взял в запас сорок штук, насыпал в карман камуфляжа и надел его. «Перестреляю всех, с-собаки!» Сказывалось недовольство своим нынешним положением странствующего актера, своей болезнью и вечным отсутствием в доме Наташи, которая, казалось, канула в бучило церковных дел. Бучило это всасывало и уже не отпускало Наташу. А она тянула за собой и его грешного, и безгрешного Коленьку, и Марианну Федоровну, и соседей. Она страшно уставала, в доме не смолкали телефоны, и уже никто не брал трубок, зная, что звонят Наталье. Батраков помогал ей чем мог, но был не настолько набожен, чтобы с утра до ночи биться лбом об пол в молитвенном радении.
– Мишка, не вздумай! – услышал он голос Наташи. Она стояла в дверном проеме чулана. Лица и глаз ее было не рассмотреть в «контровом» освещении, но в голосе еще звучало эхо плача. – Не вздумай, Миша – это мистика… Это выше нашего понимания…
– Курить хочу… – Батраков прицелился в треугольник распахнутого под самою крышей окна мансарды.
Она не слышала. Вся эта история его болезни и наступившая ломка курильщика табака не казалась ей чем-то значительным.
Она продолжала свое:
– Это, Мишка, искушение… Батюшка же нам говорил – помнишь? – «Кто храма не строил, тот не знал искушений!» Это, милый Миша, мистика!..
«Пофигистика… Бермудистика… – отзывалось в черепе Батракова. – Табака три листика…»
И он с занудством человека, бросившего курить, произнес такой монолог:
– Вороны, Натаха, заботятся о своем потомстве! Видно, вороненок выпал из гнезда… А крылья-то слабенькие! Значит, взлететь он не может. Но взрослые вороны охраняют их даже на земле! Понятно объясняю?
Наташа все еще отсутствовала: вот она – и нет ее. Но Батраков нудно продолжал, чтобы не думать о сигарете:
– Взрослые вороны этих падших ангелов кормят, а тут вы с Коленькой случайно идете мимо. И эти бдительные твари сочли вас обидчиками… В таких случаях они дружно обороняют своих птенцов! Почему я не должен перебить их, наглецов, с десяток из-за своего птенца? И я перебью!
– На все Божья воля! Неизвестно кто кого сильней…
Она редко возражала мужу, что обозначало христианскую покорность. Но упрямство ее было тихим и неистребимым упрямством рабы, которая и в рабстве строит свое царство, пусть оно небесное.
– Не силой оружия, – с глубокою верою сказала Наталья, – а лишь непрестанной молитвой можно победить эту нечисть!
– Обязательно помолюсь, когда они лягут кверху лапками…
Батраков мягко отодвинул жену плечом и сбежал по лестницам вниз, на кухню. Там он прямо в упаковке взял со стола и сунул в карман ветровки две ром-бабы.
«Приманка!»
Он вышел со двора.
Ярость и жажда мести пьянили и пошатывали. Винтовка плотно лежала в чехле. Казалось, что она легко и страстно дышит.
– Миханя! Остановись! – кричала Наталья вслед, со стуком распахнувши треугольное оконце под крышей.
«Тщетно, барышня…» – Батраков шел, не оборачиваясь, молодым резвым ходом.
– Успокойся, Натаха: он артист!.. – услышал он обращенные не столь к Наталье, сколь к нему, слова тещи.
«Да, блин, артист! Гоблин, блин! – отозвался внутренне Батраков и ускорил шаг, но скорость тут же отозвалась разлитой болью в ногах… – Куда же так рванул-то, дядя?»
– Егда при-идеши-и-и? – неслось ему вслед на церковно-славянском. Это Наташа так шутила. Так могла шутить только она, венчанная ему жена. Видно, прилетело ей из какого-то псалма. А раньше прилетало из пьес.
«Ну, и слава Богу!.. Она уже шутит…» И подумал вдруг: «А у Мишки-то Лебедева две жены к сектантам ушли…»
Он не знал, зачем бы ему жить без Коленьки и Наташи.








