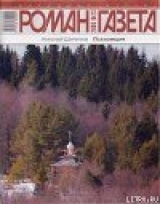
Текст книги "Псаломщик"
Автор книги: Николай Шипилов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
«… А баня та стояла в лощине у проезжей дамбы. Дамбу с будкой водозабора подпирал пруд. Вода в чаше пруда была мягкой и вечнозеленой. После того как с крыши будки нырнул и не вынырнул заика по кличке Гын-Гын, никто, кроме Гоши Чимбы, не решался повторить номер. Скорее из ужаса перед наглостью недавней гибели, чем от страха высоты. На берегу пруда отдельно от нас, черни, лежал этот Гоша Чимба – самый бесстрашный подросток поселка на то время.
Чимба – это его самоварная кличка. Он сам назвал себя так, выкладывая эту кличку галечником на тощей груди. Кожа под камешками не загорала, и все грамотное население могло прочесть, что этот мальчик имеет кличку Чимба. Кто знает, что такое Чимба, пусть не поленится написать мне по адресу: город Китаевск, Главпочтамт, до востребования. Чимба жил в домах, с которыми наши не дрались, обходя их, как прошлая война обходила Швейцарию. В тех домах жили урки. Большинство их детей и внуков тоже стали урками. Они, эти дети, вроде бы, и не были детьми. Они не играли в казаки-разбойники или в войну. Они не играли, а осваивали боевые ремесла, как самое жизнь. Их родители были отделены от государства и власти. Они верили лишь себе, удаче и крепкому кулаку. А кто не знает, что зэковские драки – самые подлые и отчаянные? Тюрьма слезам не верит. Они ни на кого не надеялись. А Господа Бога путали с дедом Морозом.
Так вот, Чимба жил среди них, а на нас плевать хотел, как на тангенса с котангенсом и на Бойля с Мариоттом. Своей второй жизнью он был обязан вору Шуре, и на утро следующего дня чисто одетый, коротко остриженный Чимба зашел в нашу дворовую гавань. Воры сбивались в кодло.
Чимба сел за столик во дворе. За этим столиком по вечерам мужики играли в «секу», а с утречка уходили на работу. Чимба достал из штанин финку с наборной ручкой, с усиками и кровотоками. Он взял ее в левую руку и стал вонзать ее жало в столешницу между растопыренными пальцами правой. Он был левшой.
Наша команда с утра на посту по охране. Слепая Света терпеливо учит ноты по азбуке Брайля.
– Чо это он делает-то? – спросил Юра, глядя на забавы хулигана.
– Иди, спроси сам, керя…
– Ara-а… А он ножичком – чики-брыки! Ты командир – ты и иди!
– Так зачем командиру идти? Ты и иди! Ты – подчиненный!
– Не… Я боюсь. Потому я и не командир…
Вот и задача с двумя известными. Один мистер Икс, второй – товарищ Игрек. С дрожью в коленках я спускался по чердачной лестнице на лужайку.
– И тут выходит Дон-Жуан, сын Дон-Кихота с Дульцинеей. Ты кто? – спросил Чимба, не поднимая на меня взгляда. – Ты поцен или карлик?
– Чо? Поцен, конечно! – отвечал я, не в силах отлепить взора от порханий, как крыло стрекозы, стали.
– А почему у тебя усы? – Чимба пырял финкой между растопыренных пальцев.
– Чо? А-а… Ежовику ел.
– Пионер?
– Чо? Да… это… Пионер… – отвечал я, обмирая от страха. – Юный… это… пи… это… пи…
Чимба перебил:
– Пи-пи. Ка-ка. Ням-ням. А умываться – кто будет? Пушкин? Тимур и его парчушки? – он, этот Чимба, глянул мне прямо в глаза. Взгляд этот меня успокоил. В круглых, как ягоды крыжовника, глазах ничего, кроме смеха, я не увидел. – Зубы чистишь порошком?
– Чо? Ну! А чо?
– Чокнешься скоро – вот чо. Ну, говори, поцен, наскороту: в каком сарайчике Шура чалится?
В двухэтажках ожидали дезинфекции. О том, что незаметно подкравшимся летом будут травить клопов, знали все, но никто не знал когда. Многие уже перебрались с пожитками в сарайчики и стали артельно класть летние печушки во дворе.
Я уже вознамерился показать Чимбе каморку Шуры, но, в восторге от земного счастья, с чердака высунулся рядовой Юра и не прокричал – пропел упоенно:
– Пожа-а-а-ар! Пож-ж-а-ар! Ярошенки гор-р-ря-а-а-ат!
Вот так же орал просадивший в чайной очередной аванс татарин дядя Чуфаров. Когда свалится, а мы снимем с него штаны и – ну настегивать крапивой, он тоже выл:
– Горю-у-у-у!
– Курили на чердаке, шкодники… – сказал Чимба, все так же, ни на что и ни на кого не глядя, а только на свой красивый ножичек. – Теперь вервий…
Не вервие. Вервий – это по-ихнему веревка, петля, приговор к вышке. Но об этом я узнал позже, когда занялся плетением словес. Плетение словес – это по-нашему литература. А пока я вижу, как Юра осаживает Свету и слышу:
– Не ходи со мной, я бегом побегу! Ого! Дядь Сема на каланчу полез! Щас колокол – дэ-дэ-э-энь! Дэ-дэ-э-энь! Не ходи, Светка, со мно-о-ой! Тебе мамка сказала, когда на работу уходила, – что? Чтоб ты сидела дом караулила! Чтоб цыганы перину не скрали-и-и! Дэ-дэ-э-энь!
Мать Светы, тетя Аня, работала грохотисткой в дробильном цехе и имела три почетных грамоты от трех, проходящих по ее согбенной спине на повышение начальников щебнезавода: Маневича, Штерна и Бэри, которого звали за глаза Берией. Как после грохотов она играла на полухромке «Подгорну», уже не узнать. Ее перина пред дезинфекцией проветривалась на бельевой веревке, обвисшей между двумя тополями.
– Я же слепая, я – сле-па-я! – объясняла Света. – Я все равно их не увижу – цыган! Я их не увижу!
– А чо ж тебе тогда на пожар гляде-э-э-эть!
По деревянной чердачной лестнице Юра рванулся на ромашковую поляну и – далее. Света, не хуже зрячей, не отставала. И я побежал с ними на пожар.
А когда все дружно вернулись с пепелища, то перину кто-то украл…»
9– Вот так, Алеша: пока народ по телевизору глазел на кавказскую войну, глядь – а страну-то сбондили!
– Кто это?
– Воры – вот «кто это».
– Значит, мы лохи?
– Не всякий лох плох, – говорю. – Мы лохи, но мы – лохи высокого ранга, Алеша. Нищий лох, Алеша, нравственно выше, чем, например, лох-президент. Все, например, президенты в мире – лохи. Они попрошайничают. Они берут в долг, а отдают эти их займы невинные, следующие поколения. Ты же, детка, в отличие от них берешь, если дают. И бежишь, если бьют. А возвратить не обещаешь…
Идем тихо, коротаем в разговорах предрассветное время.
– Вы толковый, дядя Петро! А скажите: лохи – они были всегда, например? Или как с горы на лыжах: бац! – прибыли!
– Я тебе поясню. Лох узколистный и серебристый был всегда. Это полезное эфирно-масличное растение. Лохом называли и тощего после нереста лосося, Алеша.
– Лося?
– Нет, лось – это сохатый. Лосось же – это рыба. Нерест – это икромет. Икромет – это время, когда рыба мечет икру. Икра – это деликатес. Деликатес – это нечто, обладающее тонким вкусом… Вкус – это…
Алеша сделал вид, что хочет вырвать свою ладонь из моей.
– Про лоха излагайте! Грамотно чтобы. А икру я ел…
При такой жадности к знаниям да при оранжевом ранце скитается мальчишечка-сирота по пыльным шляхам побирушничества. В моем детстве мы об этом только в страшных книгах о царизме читывали.
– А я про что? Я про лохов говорю. Могу грамотно. Слушай внимательно: по-немецки «лох» означает сразу и лунку, и углубление, и отверстие, и просто дырку. По-русски же слово «лох» имеет совсем другое значение: дурак, простофиля, профан. А ну, не шмыгай в себя, возьми платок – и высморкайся!
Он так и поступает. Я бдительно продолжаю:
– Очевидно, что слово «лох» в этом значении пришло из идиша. Идиш возник как кодированный немецкий. А «лох», что значит «дырка», издавна говорили евреи о простаке, пропустившем свой шанс по глупости. «Лох» – сокращенное от знаменитой еврейской идиомы «лох ин дер коп» – дырка в голове. Der Kopf – деркоп – дерко – дырка… Лох в нынешнем русском языке, Алеша, – это любой человек, которого вынудили к непривычной, но привлекательной и якобы мигом обогащающей деятельности… Вот тебе примеры: обыватель и казино – это лохотрон, дурачок и деньги – это форекс, владелец квартиры и риэлтера – шулера, маменькин сынок и богатое наследство, президенты и президентство…
– Вы такой умный дядя Петя, но тоже лох. Так оно получается… – мотает на ус Алеша. – Горе от ума!
– Я не умный, а эрудированный. А эрудиция – это пустое, к уму она отношение имеет са-а-мое отдаленное. А горе, Алеша, – это в аду гореть. У нас – чем не жизнь? Воля! А у них что?
– Нет, воля, дядя Петр, – это деньги!
– Не скажи! Денег должно быть ровно столько, чтобы их хватало не попрошайничать и оставалось, чтоб поделиться с товарищем…
– Мне бы такого, как ты, папку… – говорит хитренький Алеша. – А вы на Украине-то бывали?
– Бывал. Чуден Днепр при тихой погоде – это действительно так, удостоверяю.
– Нет, вы скажите серьезно: у нас… у них в Алма-тах бывали?
Он думает, что у меня с его мамой могло случиться дитя. Могло, Алеша. Могло, лисёнок, но не случилось. Не я твой отец. Ты говорил, что у того, кто дал тебе жизнь и погубил твою маму, была татуировка на предплечье. И, как я понял, дембельская. Он много моложе меня. Я не стану врать, что я твой отец. Я своих детей не вырастил, деревьев повалил вагон и маленькую тележку. И дома не построил. Хочу вот построить храм на земляничном лугу. Вот куда идут мои деньги, сынок… И жизнь моя исполнится смысла и спокойствия. Даст Бог, мы сделаем это с тобой вместе. А пока – молчок, старичок. И послушай бывалого бродягу. Нам осталось пройти метров четыреста.
– Россия, – упражняюсь я в риторике, – она, матушка, сейчас уподобилась царственному осетру, которого потрошат: икру берут, а все остальное бросают гнить, – говорю я. – Однажды я сказал этим борцам с народным благосостоянием, Алеша: отдайте мне, паразиты, то, что отняли с кровью у моих мертвых. Реституируйте, паразиты! Нет, говорят мне, такого закона. Отдайте, говорю, хотя бы землю: на ней еще пять лет назад стоял дом моего прадеда! И тополь рос, который пращур посадил! Я вырою себе могилу на этой земле. Я не хочу лежать на городской свалке, которую вы называете кладбищем. Тополь, мне говорят, пожалуйста, берите. Так и быть. Все равно от него один пенек остался. А земля – это, извините, объект сельхозоборота! Это у них-то сельхозоборот! Как бы не так! И получается, как говорил Антон Иванович Деникин, что у белых с красными земельный вопрос решается просто: кто первый в землю ляжет – того и земля… Вот так, Алеша… Но нас семью оглоблями на одном мете не ушибешь! Кто они мне, все эти греки?
«… Раньше, когда вся эта демократическая шарманка завелась, я, доктор филологии, ездил по городам с гитарой и давал концерты авторской песни для небольшого количества людей. Чем я отличался от нищего шарманщика? Потом я разъезжал с лекциями о Серебряном веке: чем я отличался от уличного факира или нищего? Кому он нынче нужен, Серебряный век? Пришла пора взрослых разочарований. А теперь, парень, у меня есть вера… Малая, но есть. Но тому, кто захочет лишить меня веры, сделать это не удастся – мимо тазика, как говорят парашютисты. Наверное, мы и до номенклатурного переворота жили как нищие, если смотреть на это глазами богатых людей. Но тогда мы верили в будущее…»
– С кем из животных можно нас сравнить? Мы кто – овцы?
– Мы – Божьи овцы, Алеша!
Он отмахнулся, сердясь:
– Сами будьте овцой! Я – не овца! Я хочу отомстить за маму!
И по щеке его скатилась за воротник сладкая слеза мстителя, увидевшего в мечтах плоды своей мести. Его мама умерла от передозировки наркотиков. Она работала в краевом центре Горнауле на «мамку»1717
Сутенерша.
[Закрыть].
– Кому ты хочешь отомстить за маму, Алеша?
– Всем… – вот так, ни много ни мало. – Кроме вас. Вы смешной. С вами весело. Вы прожили интересную жизнь!
– Во-первых, я ее еще не прожил. Во-вторых, Алеша, ничего необычного, наверное, в моей жизни не было. Все вокруг лишь казалось мне необычайным: живая тварь, железо, вода, камни… Тот же завод. Ты. Вот отвлекись от соплей и послушай финал моей поэмы «Завод». Слушаешь?
– Да, дядя Петр!
– Ну, так слушай, пока я добрый:
… Белая собака чешется о прясло… Выйдет на дорогу, тявкнет – и замрет. В хмуром песьем взоре яркое угасло: снегу нет, без снега стынет огород. Небеса китаевские снегом оскудели… Встал ноябрь, как телка, – и ни бе ни ме… Не прядут метели снежные кудели – белая собака не в своем уме.
Родилась собака при Советской власти,
Выпало ей счастье при других харчах.
Поведет ноздрею, щелкнет ярой пастью:
Не усторожила, стало быть, очаг.
Вспомнит: камышами мечутся подранки…
Утро… козье стадо… цоканье кнута…
Белая собака, призрак эмигрантки —
Конура на месте, да еда – не та…
Вот и снег задержан паном на таможне,
И свинью хозяин в мае заколол;
«Беларусь» споткнулся на пожженной пожне
И уткнулся в пожню, как пьянчуга в стол.
В лагерной фуфайке – вата легче пуха —
Пугало пустое ловит белых мух.
Хлеба нет, собака. Снега нет, старуха.
А не то – пошла бы нынче ж на треух.
Ух, как ознобило! В банный день субботный
Вывалил хозяин на собачий лай.
С виду беззаботный, стыдно безработный
токарь-фрезеровщик, он же – Николай.
Словно бы очнувшись от хандры постельной,
Он стоит и смотрит на трубу котельной.
Замер, сделал стойку, как хороший сеттер, отлетая думой во вчерашний век, где швырял он деньги с девками на ветер, но на производство шел как человек. Вспомнил Николаша, как был крут и молод, как из деревеньки уходил пешком. Мог бы серп он выбрать, только выбрал – молот. Мог квартиру выбрать, но построил дом. Вспомнил Николаша, как любил подраться, девушкам стихи он мог читать в бою… «Я ли вам не свойский…» Где ж вы нынче, братцы? Может, вспомним вкратце молодость свою?
Белая собака, бедная дворняга
Доплелась до школы – окна не горят…
На ветру обрывки выцветшего флага
Как-то неохотно с небом говорят.
На нее с помойки глянет Менделеев:
Жил в химкабинете, а теперь – ничей…
Сколько было славы, спичей, юбилеев!
Сколько было громких сказано речей!
Дмитрий свет Иваныч! Не в песок и глину
Улеглась собака – да, ой, на твой портрет…
Не серчай на псину, почеши ей спину!
Ах, да у тебя же ручек-ножек нет…
Рядом Ломоносов в парике, в камзоле….
Вынут из багета – что ему багет!
Вон парик порепан сонмищами моли…
Отзовись, Отчизна! Но ответа нет.
Дневники и двойки,
Бойл да Мариотт,
Все с одной помойки
смотрят в небосвод.
Ленин с дамской плойкой,
Карла с розой треф,
на солдатской койке,
задницы пригрев,
рассуждают бойко
про политмомент,
и какой тут нужен
будет инструмент.
«Чтобы сконтгапупить звезды из губина,
Подошла б, Каглуша, гусская дубина!»
Вот прошел учитель в секонд-хэнд одетый… Ишь, переживает, бедный, демократ, что обуться нету, что одеться нету – тут и голодовка в самый аккурат. Шуганул собаку. Осмотрел ученых. Крякнул, словно грузчик, восходя на трап. Вспомнил слово «деньги». Не имея оных сплюнул ва след узорчатый от собачьих лап. Пусто, страшно, дико под бесснежной высью… Что случилось в русской искренней судьбе?
Белая собака,
бедная собака
потрусила рысью
К заводской трубе…
ЭПИЛОГ. ТРУБА
На заводской трубе написано цинковыми белилами:
«Все удобно, что съедобно!»
«В детстве у Вити был калейдоскоп, а у Коли его, калейдоскопа, не было. Чтобы поглядеть в тубус, Коля отдавал Вите кусочки комкового сахара, и пока тот грыз сахар, Коля смотрел на чарующее чередование цветных черепков в зеркалах тубуса. Кругом цвели поля, пели утренние птицы, играло солнце на небеси. Коле было чихать на все это – он смотрел в трубку. Он был голоден, но счастлив. И он умер от голода, но с улыбкой счастья на лице и с картонной трубкой в кулаке. Витя долго разжимал кулак Коли, чтобы забрать игрушку у мертвеца, который так и не стал взрослым. Разжал – и к ногам его упал цветной телевизор. Аминь».
– … Это вы сами написали? – Алеша давно стоит, и я стою. Он смотрит на меня зачарованно, не хуже, чем тот рыбоглазый вор из вчерашнего боевика.
Я расшаркиваюсь и развожу руками.
– Вы – этот… поэт?
– Нетушки! Я прозаик, иногда пишущий стихи. Чтобы не потерять чувства ритма. А поэт – это такая самозаводящаяся игрушка. Накрутит сам себе пружину – и давай за девками, как ты вот, гоняться! И жужжит: я пишу для себя, я пишу не для славы! Так вот и жужжал бы для себя!
– Эх, зачем вы, дядя Петя, возитесь с покойниками? Зачем? Как вы потом исть-то садитесь? – Он, похоже, ненавидит меня сейчас. – Эх! Если бы я мог так написать! Разве я ходил бы с этим… – он срывает оранжевый ранец со своих узеньких плеч. – Зачем вы-то… так, а? Я… я… Мне надо питаться, расти… А вы… Нате! – бросает он к моим ногам свою котомку.
Это не произвело на меня сильного впечатления.
– Стоять! – властно сказал я и указал на ранец цвета будущей украинской революции. – Подними! – Отвлек таким заявлением его внимание, схватил его за плечи и прижал к себе, потому что проясняется утро, и хайвэй полнится скоростными, летящими, как пьянь на ларек, иномарками.
Алеша глушит плач будущими мужскими стонами. Вот она, достоевская слеза ребенка, падает на бетонку, где ничто не прорастает, но всё умирает. Я и сам-то едва не плачу.
– Будешь жить при мне, аккатоне. Тетя Аня нравится тебе заочно, да, я знаю. Но она меня, я считаю, бросила. Она – религиозный фанатик. Она будет молиться до тех пор, пока я не расшибу себе лоб.
– Нет, вы глупый… Глупый, хоть и лекции кругом читаете. Она вас, вас любит!
Он плачет еще сильней и трясется, как вибромолот. Нам тревожно сигналят из машин. Я отмахиваюсь свободной рукой. Мы стоим посреди оживающего хайвэя, как рассекатели.
– Не бросай ее… – тоненько, с хрипотцой, как обесточенный, говорит он.
– Ты думаешь, я умный? Как бы не так! Хоть и знал в твоем возрасте, где находится озеро Баскунчак.
– Это не озеро – это фамилия такая, – с большой уверенностью ответил Алеша. И мы двинулись дальше в щель автомобильного потока.
«У нас с Аней сын, Иван Петрович Шацких. Куда же я его брошу? Самого скорее бросят. Ванюшка останется с ней. А я вряд ли переживу это одиночество, не старые, чай, времена – времена молодости».
10Мог ли я объяснить ему, что со мной произошло то, чего не просчитаешь ни на одном компьютере. Аня возомнила себя самой грешной из женщин на земле, забывая, что я-то, горемыка, полюбил ее со всеми теми грехами, что в девичьей юности на кривой козе не объедешь, когда страшно сказать правду и сказать ее некому. Сто лет назад можно было бы сказать, что я полюбил ее за родство душ. Мы были, как мне казалось, одной душой и одной плотью. Я мог бы сказать Алеше:
«Мы, Алеша, уже пять лет как венчаны. Я не говорил тебе об этом, чтобы не ранить своим благополучием, чтобы не повис между нами грузный и грустный вопрос: почему бы тебе ни пожить у нас? Это не мой дом, Алешка. А сейчас мне неизвестно и то, кто я сам в этом доме.
С венчания мы ехали на велосипедах. Сухо потрескивала в небе еще невидимая гроза. С лица Анны не сходила задумчивая мягкость.
– Смотри на дорогу, Нюся! – тревожно говорил я. Но нет – она смотрела на меня.
Потом мы сидели у раскрытого окна ее учительского домика, но она опять на меня смотрела.
– Ты – мой герой, Петр… – говорила мне она. – Если с тобой что-нибудь случится, то я уйду в монастырь.
Ах, милый ты мой Алешка, друг ты мой, надёжа! Кого не тронули бы такие слова! Ты знаешь Анну по моим рассказам и знаешь, как она надежна и что цена ее слов – очень высока. Она из тех редких женщин, которые, сами того не сознавая, видят в мужчине его суть, которая не выражается ни благолепием лиц, ни рельефом мышц – она человек небесный.
– Давай с тобой построим храм! – продолжала говорить она. – И ребенка, которого я рожу, будем причащать в нашем храме!
Я не мог не согласиться – всё, что она говорила, звучало здраво. Мы и родили ребенка. А с началом возведения храма моя жизнь, которую я полюбил с новою силой, выходила на высокий душевный круг, откуда можно лететь выше и выше.
Как-нибудь я расскажу тебе о том, по каким кругам административного ада она прошла, прежде чем получила землю под строительство, как она выходила болезнь суставов своих красивых ног в хождениях по нищим деревням с ящичком для пожертвований. Люди в окрестных деревнях знали и чтили Анну, отрывали от себя крохи, они клали их на алтарь новостроя. Привычный мир пылал в адовом огне, они строили свой ковчежец. Дело шло.
Когда-нибудь, даст Бог, я напишу об этом роман. Но она, моя заповедная Анна, мой деревенский ангел, она отдалилась от меня и живет теперь где-то высоко-высоко среди лун, иных светил и птиц небесных. Так стало мне казаться. То есть я могу потрогать ее рукой, как твой глухонемой мальчик свою Жирную Хромосому, но ее нет со мной. Говорят, что тот, кто не строил храма, не знал искушений. Она ушла из выморочной школы, где уже больше года не платили даже мизерного жалованья. Все свое время отдавала занятиям с детьми на дому, хлопотам о храме да молодому вдовцу о.Христодулу – своему духовнику, которого назначили сюда вместо старенького отца Глеба. Она с диковинным для моего понимания постоянством исповедовалась ему, а это значит, что она не оставляла мне ничего, кроме усталого тела. Не терплю я усталых женских тел. Мне не кажется благим делом любовное истязание усталого тела. И не выдержал я, и воспринял Анну не как дар Божий, а, похоже, как реванш за бессмысленную жизнь до нее. Увы – реваншизм ведет к зеро. Это я нынче просветился, а полгода тому я закатил Анне страстный монолог. Навязал лыка, похожего на бред ревности. Заболел старостью.
– Ты ревнуешь, но он же священник! – сказала она с большим терпением. – Может быть, у тебя жар?
О, погоня за уходящим поездом жизни! О, Хасбулат на обезножевшем скакуне! А он, бес-то, меня и давай крутить. И давай пускать серный дым на святые иконы. Во мне помутилось, померкло выстраданное: вне веры православной не может быть ничего, кроме пустоты. Там – черный, как в угольном штреке, тупик. То есть во мне нарушилось обретенное в тяжелой дороге соотношение вечной борьбы двух начал человеческой природы: духовного, данного людям Богом, и телесного, данного дьяволом. Вся чернота, вся муть изверглась из меня, но не иссякала.
– То, что он священник, отнюдь не значит, что он не мужчина и не жеребец! – кричал я, презренный. Но ведь так оно и есть? Он ведь не монах, да и монахов бывает отчитывают.
Она с отчуждением смотрела на меня и не искала слов:
– Он вдовец, он схоронил молодую жену! Ты не знаешь разве, что священнику не положено жениться дважды и что жениться он может только на девственнице?
– Мало ли что людям нельзя делать, но делают же! Делают, да еще как! И что: для этого обязательно жениться надо? – высказывал я свои прямые, как дышло, доводы.
– Какой бред! – помолчав, выразительно сказала Анна. – Так ты мне Бог знает что внушить можешь! Тебе не стыдно? Я не знала тебя таким…
– Так знай же! Знай! – ревел я, и будь у меня под рукой ружье, я бы, грешный, застрелился. – Я тоже не знал тебя такой! И я хотел бы, чтобы ты чаще бывала дома! – Будь у меня под рукой штык – вспорол бы все брачные перины, а пух развеял бы по степному ветру. А надо было говорить: прости, милая – так гнет меня предчувствие телесного краха…
Ни ружья, ни штыка не было. Тогда, приравняв к штыку перо, я написал гневное письмо ее духовнику о. Христодулу.








