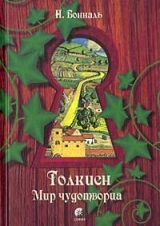
Текст книги "Толкиен. Мир чудотворца"
Автор книги: Никола Бональ
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Помимо всего прочего, Бомбадил еще и певец. И тут небезынтересно вспомнить Нерваля:
«Юные девы водили на лужайке хоровод и пели старинные песни, которые переняли от своих матушек… Я был единственным юношей в их хороводе… И тут приметил я среди них высокую светловолосую красавицу – звали ее Адрианной. С того самого мгновения мною овладел тайный трепет… Адрианна пела одну из своих песен, исполненных печали и любви; то была песнь о разнесчастной принцессе, заключенной в замковую башню по воле отца в наказание за то, что смела полюбить».
Песни – это духовные узы, связывающие нас с прошлым. Старинные песни у Нерваля служат путеводными нитями нашей памяти, протянувшимися в поднебесье времен, давно минувших, где, по выражению Бодлера, расцвела красота.
У Толкиена, коротко говоря, песни подразделяются на три вида: эльфийские баллады – печально–ностальгические, воспевающие стародавние времена и канувших в Лету героев; удалые, жизнерадостные хоббитские песенки, в которых воздается хвала добрым напиткам и знатным яствам и славится развеселая жизнь дружного народца; и, наконец, песня Бомбадилова, воспевающая природу t и таящая в себе некие тайны. Вот, к примеру, какой песенке учит хоббитов Бомбадил, дабы в случае нужды они могли его кликнуть на помощь:
«Песня звонкая, лети к Тому Бомбадилу, Отыщи его в пути, где бы ни бродил он! Догони и приведи из далекой дали! Помоги нам, Бомбадил, мы в беду попали!»
Первое появление Тома Бомбадила тоже сопровождается песней и пляской:
«Поспешайте, малыши! Подступает вечер! Том отправится вперед и засветит свечи».
Песня эта предостерегательно–поучительная:
«Не пугайтесь черных вязов и змеистых веток – Поспешайте без боязни вы за мною следом!»
Разумеется, кому–то песни и стихи Толкиена могут не понравиться. Но не стоит забывать, что большинство из нас читает их в переводе, да и потом английские критики изрядно постарались, чтобы выставить песенно–поэтическую часть творчества Толкиена не в самом выгодном свете. Сам же Толкиен любил напевать разные песенки, к тому же речь у него была довольно скорая, и под конец жизни он многое наговаривал на диктофон. Да, он любил и музыку, и песни, будто следуя пословице: «Всяк поющий творит молитву дважды».
Что же до Бомбадила, то каким бы древним он ни был, ему совсем не одиноко: ведь в своем «медвежьем углу» живет он с красавицей Золотинкой:
«О тростинка стройная! Дочь реки пречистой! Камышинка в озере! Трель струи речистой! О весна, весна и лето, и сестрица света! О капель под звонким ветром и улыбка лета!»
Чуть погодя хоббиты услышат чарующее пение самой Золотинки, и Толкиен говорит о нем уже без всяких загадок:
«И сквозь мерный шум дождя откуда–то сверху – наверно, с ближнего холма – послышался голос Золотинки, чистый и переливчатый. Слова уплывали от слуха, но понятно было, что песня ее полнится осенним половодьем, как певучая повесть реки, звенящая всепобеждающей жизнью от горных истоков до морского далекого устья. Подойдя к окну, Фродо очарованно внимал струистому пению и радовался дождливому дню, нежданной задержке. Надо было идти дальше, надо было спешить – но не сегодня».
Золотинка с Бомбадилом живут в истинно сказочном мире, где речь льется звонкой песней, как было в далекую–далекую Предначальную Эпоху, когда звучала великая музыка, которую играли Айнур с Эру. И хоббиты вдруг представили себе это совершенно отчетливо:
«Их испуганный слух отворила совсем иная повесть – о временах незапамятных и непонятных, когда мир был просторнее и море плескалось у западных берегов, будто совсем рядом; а Том все брел и брел в прошлое, под древними звездами звучал его напев – были тогда эльфы, а больше никого не было».
Теперь–то понятны слова Гэндальфа, которые он произносит почти в самом конце книги:
«Словом, я вас вот–вот покину. Я хочу толком поговорить с Бомбадилом, а то за две тысячи лет как–то не удосужился. Говорят, кому на месте не сидится, тот добра не наживет. Я на месте не сидел, отдыха не знал, а он жил себе и жил в своих лесных угодьях. Вот и посмотрим, сравним: нам есть что рассказать друг другу».
Тот же Гэндальф сказал Элронду, когда тот пожалел было, что не позвал к себе на Совет Бомбадила, «древнего, как море, Безотчего Отца Заповедных Земель»:
«…над ним не властно Кольцо Врага. Йарвен [так эльфы звали Бомбадила] сам себе хозяин и властелин… Он замкнулся в своем Заповедном Крае, очертив зримые лишь ему границы…»
Бомбадил – живое воплощение аристотелева счастья: он принадлежит к числу самодовлеющих личностей. Этот лесной дикарь и его жена–нимфа будто создали себе отдельный сказочный мир в огромном и без того изумительном мире Толкиена. Оттого образ Тома Бомбадила поражает, быть может, даже больше, чем другие, не менее замечательные герои, – и этим он от них, собственно, и отличается.
Наша галерея посвященных была бы не полной, обойди мы вниманием еще одного героя – вернее, героиню. Женские образы тем более восхитительны и во «Властелине Колец», и в «Сильмариллионе», что они редки. В предыдущих главах мы уже упоминали про Лучиэнь, Варду и Йаванну – героинь на редкость сильных. Но во «Властелине Колец» перед нами предстает прекрасная бессмертная эльфийская Владычица Галадриэль, близкая по духу Гэндальфу. Она, подобно Мелиан в Дориате, читает будущее в своих владениях – Лориэне.
Галадриэль прежде всего ясновидящая; высокая, статная златокудркая красавица, она чем–то походила на своего величественного супруга:
«Возраст по лицам Владык не угадывался, и только глаза, глубокие, словно море, но острые, как лучи Вечерней Звезды, говорили об их глубочайшей памяти и опыте древнейших мудрецов Средиземья».
Галадриэль, которую гном Гимли полюбит всем сердцем, едва ли не как истая ревнительница платонизма (62)62
Платонизм – направление позднеантичной философии I в. до н. э.; важный его элемент – противопоставление чувственного мира миру идей.
[Закрыть], поправляет даже своего царственного супруга Келеборна, когда тот позволяет себе назвать Гэндальфа глупцом, ибо он увлек своих друзей в зловещие недра Мории:
«Гэндальф Серый никогда не совершал безумных поступков, а тем, кого он вел через Морию, были неизвестны все его замыслы».
Галадриэль, оказывается, связывают с Гэндальфом особо доверительные узы, как и с орлом Гваигиром, которого она отправляет на выручку попавшему в беду Гэндальфу. Она же внимательно приглядывается ко всем братьям по Кольцу, и особенно к Фродо:
«Потом, словно связывая хранителей воедино, Владычица медленно обвела их взглядом – они не могли пошевелиться, пока она сама не опустила глаза».
Много позднее Галадриэль признается Гэндальфу, что самым слабым звеном в связке, объединившей братьев, был вспыльчивый Боромир, который из–за своей горячности едва не погубил все дело, да и самого Фродо.
Прогуливаясь по дивному Лориэнскому лесу, очарованный Сэм рассказывает Фродо о странных ощущениях, которые он испытал, ступив в сей благодатнейший эльфийский край и сравнив здешних эльфов с тамошними – раздел ьскими:
«Здешние привязаны к своей Благословении вроде как мы с вами к нашей Хоббитании. Они ли переделали по себе свою землю, или она их к себе приспособила, этого я вам сказать не могу, а только их край как раз им под стать. Они ведь не хотят никаких перемен, а тут и захочешь, так ничего не изменишь. У них даже завтра никогда не бывает: просыпаешься утром – опять сегодня… И магии ихней я ни разу не видел…»
Затем Галадриэль подвергает обоих хоббитов испытанию своим магическим зеркалом, словно предвидя, что на их–то плечи и ляжет самое тяжкое бремя, которое не сравнить с тяготами остальных братьев по Кольцу:
«Перед вами Зеркало Владычицы Лориэна. Я привела вас к нему для того, чтобы вы, если у вас достанет решимости, заглянули за грань обыденного зримого».
И что же они в нем увидят? Сэм – грядущие беды для Хоббитании в образе содрогающихся под ударами топора вековых деревьев… Ну а глазам Фродо явилось куда более тревожное видение:
«Но зеркальная чаша вдруг опять почернела – словно черная дыра в бесконечную пустоту, – и, всплыв из тьмы на поверхность зеркала, к Фродо медленно приблизился Глаз… Фродо с ужасом смотрел на Глаз, не в силах вскрикнуть или пошевелиться… Стеклянисто–глянцевое яблоко Глаза… ворочалось в тесной глазнице зеркала, и Фродо, скованный леденящим ужасом, понимал, что Глаз, обшаривая мир, силится разглядеть и Хранителя Кольца… Кольцо, ставшее неимоверно тяжелым, туго натягивало тонкую цепочку, и шея хоббита клонилась вниз… Глаз, постепенно тускнея, утонул, а в зеркале отразились вечерние звезды».
Наконец, Галадриэль сбрасывает маску:
«Не надо пугаться. Но знай – не песни и лютни менестрелей и даже не стрелы эльфийских воинов ограждают Лориэн от Черного Властелина. Ибо, когда он думает об эльфах, мне открываются все его замыслы, и я могу их вовремя обезвредить, а ему в мои мысли проникнуть не удается».
Могущество царственной Галадриэли и правда столь велико, что с помощью бриллиантового эльфийского Кольца Нэньи она может с легкостью отвратить вездесущее Око Врага. Знает она и о том, что дни ее сочтены:
«И от твоей [Фродо] удачи – или неудачи – зависит судьба Благословенного Края. Ибо, если ты погибнешь в пути, магия Средиземья падет перед лиходейством, а если сумеешь исполнить свой долг, мир подчинится всевластному Времени, а мы уйдем из Благословенного Края или станем, как и вы, смертными, добровольно сдавшись новому властелину, от которого не спасешь даже память о прошлом».
И тут Галадриэль преображается, становясь похожей, как чудится Фродо, на истую Валие:
«Она подняла к небу левую руку, и Кольцо Нэнья вдруг ярко вспыхнуло, и Фродо испуганно отступил назад, ибо увидел ту самую Властительницу, о которой только что говорила Галадриэль, – ослепительно прекрасную и устрашающе грозную».
А уже через мгновение–другое она вновь представляется хоббиту «неизменно юной и вечно прекрасной жительницей давно ушедшего прошлого». Она поняла, что настал и ее черед:
«Я прошла испытание. Я уйду за море и останусь Галадриэлью…»
На прощание Галадриэль делает братьям по Кольцу разные подарки. Сэму, дабы тот не чувствовал себя обделенным, она дарит шкатулку с землей, «благословленной на щедрое плодородие в любых краях Средиземного мира»; и это – помимо личного благословения, которое она дает всем и каждому из братьев. Фродо она преподносит фиал, дабы тот озарял путь его в глухих сумрачных краях, через которые ему суждено пройти. Как провозвестница мира и счастья, прекрасная Галадриэль оделяет истинно рыцарским даром Гимли, а перед тем гном под действием ее чар теряет свойственную ему надменность и, став вдруг на диво кротким и учтивым, обращается к ней с такими словами:
«Я ничего не прошу, Владычица… Если же говорить о несбыточных желаниях… то я пожелал бы получить в подарок прядь волос Владычицы Лориэна. Гномы умеют ценить драгоценности, а в сравнении с твоими волосами, Владычица, золото кажется ржавым железом! Не гневайся – я ведь ни о чем не прошу…»
Просьба гнома кажется Галадриэли дерзкой и вместе с тем возвышенной, в самом что ни на есть средневековом понимании этого слова, и она отрезает от своих золотых волос локон и передает гному «в память о дружбе с эльфами Лориэна».
И вот путники покидают Лориэн.
«Гимли плакал, ничуть не таясь».
Ибо такое понятие, как память, гном воспринимает совсем иначе, нежели эльфы. Память для него – совсем не то, чего желает сердце:
«Для эльфов прошлое вечно продолжается, и память у них – как живая жизнь; а мы вспоминаем о том, что ушло, и наша память подернута холодком…».
Гном делает важное замечание: по его разумению, для эльфов память что вторая жизнь – та же платоновская возможность возрождаться в воспоминаниях, тогда как для гномов память – то, что кануло безвозвратно. Да и сам Толкиен вслед за тем прибавляет, что ни одному из братьев по Кольцу никогда не будет суждено снова увидеть Лориэн, куда из соображений безопасности их ввели с завязанными глазами.
«Весны и лета давно миновали для нас, – молвит Галадриэль, – и если кому и будет суждено вновь увидеть их на земле, то лишь в воспоминаниях».
Как много позже Гимли скажет Эомеру, плененному красотою Арвен, дочери Элронда и супруги Арагорна, «ты выбрал закатную прелесть, меня же пленила утренняя. И сердце мое говорит, что утро – не наша участь, что мы видим утро в последний раз».
Утро для гнома подобно Востоку – Первородному Краю, о котором ему остается только мечтать, ибо он уже никогда не возродится таким, каким был в благословенные времена, на заре мира.
Последний посвященный, о котором мы поговорим в этой главе, – Арагорн, нуменорский королевич, потомок великого рода. Арагорн тот самый герой, чей титул вынесен в название 3–го тома «Властелина Колец», и не случайно. Арагорн больше чем воитель: он – посвященный кшатрия, государь–чудотворец, человек, презревший смерть и дерзнувший пройти все круги ада, дабы с честью исполнить предначертанное ему судьбой.
Однако сперва Арагорн предстает перед нами отнюдь не в блистательном ореоле, а в обличье Бродяжника, – именно так прозвали его хоббиты–пригоряне. Высокий и смуглый – этого, по словам Толкиена, уже довольно, чтобы вызывать подозрения у всех и каждого. Да и его видавший виды плащ не внушает доверия хоббитам, особенно Сэму, который то и дело пытается, пусть и неловко, удержать своего хозяина от общения с больно уж странным, мрачным чужеземцем (кстати, точно так же оплошает он и при встрече с Фарамиром, усомнившись в его добрых намерениях). И только Гэндальф считает его величайшим охотником и Следопытом всех времен. Арагорн, однако, почти всегда выглядит изнуренным и усталым; да он и не скрывает, что стар, хотя с виду и молод По средиземским меркам в то время, о котором идет речь в книге, ему восемьдесят семь лет.
Впрочем, довольно скоро хоббиты узнают все его достоинства. Он на редкость целеустремленный и знает почти все уголки Средиземья как свои пять пальцев. Арагорн спасает жизнь Фродо, залечивая его смертельную рану, ибо он, ко всему прочему, еще и великий целитель. Он один из немногих, кому ведомы живительные свойства растений, в особенности целемы:
«Здесь у нас, на севере, мало кто слышал о целеме – разве что Следопыты. Они ее ищут и находят возле древних стойбищ».
Злоключения, постигшие братьев по Кольцу в начале 2–го тома, в частности после исчезновения Гэндальфа, а также годы и усталость ложатся на плечи Арагорна, казалось бы, непомерным бременем. Но, когда надо, ему достает сил отогнать прочь невзгоды и горести – и преобразиться. Так, принимая прощальный дар от Галадриэли, Арагорн вдруг обретает величие у всех на глазах:
«Он сбросил с плеч, как почудилось Фродо, тяжелый груз многолетних скитаний по самым гибельным Глухоманным землям».
Или вот еще:
«Фродо оглянулся и увидел Бродяжника – однако не сразу его узнал. Ибо перед ним стоял не Бродяжник – усталый скиталец дикого Глухоманья, – а прекрасный, молодой и могучий витязь. Непоколебимо и гордо, с поднятой головою и небрежно откинутым назад капюшоном возвышался он на корме лориэнской лодки… – государь, возвращающийся в свои владения».
Ну а когда на голову ему надевают королевскую корону, его и вовсе трудно узнать:
«Когда же Арагорн поднялся с колен, все замерли, словно впервые узрели его. Он возвышался как древний нуменорский властитель из тех, что приплыли по Морю; казалось, за плечами его несчетные годы, и все же он был во цвете лет; мудростью сияло его чело, могучи были его целительные длани, и свет снизошел на него свыше».
Время Арагорна приходит в 3–м томе книги. Он глядит на ортханский Палантир, оброненный Гнилоустом, и понимает: с ним ему не страшен и сам Черный Властелин.
«Я… сумел подчинить Камень своей воле… Да… Враг видел меня, но не в том обличье, в каком ты видишь меня сейчас… Он был, по–моему, страшно поражен тем, что я объявился среди живых, ибо доныне он обо мне не знал… И вот как раз когда начинают сбываться его черные замыслы, вдруг он воочию видит наследника Исилдура и тот самый меч: я обнажил перед ним заново откованный клинок».
Арагорн намекает на Андрил – тот самый, что сродни Экскалибуру из легенд об Артуре. Меч этот перековали эльфы Элронда, и носитель его обретает истинно царское величие. Арагорн же как раз и воплощает образ «явившегося властителя», о котором говорится во всех величайших европейских традициях: именно такими властителями были Фридрих Барбаросса (63)63
Фридрих I Барбаросса(ок. 1123-1190) – император Священной Римской империи.
[Закрыть]и Людовик Святой (64)64
Людовик Святой —французский король Людовик IХ (1214–1270).
[Закрыть].
В обстановке смутного времени Арагорн у Толкиена предстает как restitutor orbis terrarum (65)65
Restitutor orbis terrarum (лат.) —«Спаситель круга земель», то есть всей земли, всего известного мира.
[Закрыть], которому предначертано свыше покончить с вековым хаосом и Царством Тьмы. В этом и есть его главное предназначение. Арагорн проходит через Сумрачные Врата, и,
«вдохновленные его могучей волей, следовали за ним дунаданцы, а кони их так любили своих хозяев, что не убоялись даже замогильного ужаса, ибо надежны были сердца людей, которые их вели».
Затем все происходит, как в шестой песни «Энеиды» Вергилия:
«Мертвые следуют за нами, – сказал Леголас. – Я вижу тени всадников, тусклые стяги, как клочья тумана, копья, точно заиндевелый кустарник. Они следуют за нами».
Обращаясь к проклятым призракам, Арагорн вопрошает:
«Клятвопреступники, зачем вы пришли? – Чтобы исполнить клятву и обрести покой».
Спустившись в недра мироздания, Арагорн исполнил одно из самых главных своих предначертаний. Однако, чтобы стать властителем, как ему было предсказано, в нем должны были признать и чудотворца. Склонившись над умирающим Фарамиром, старая знахарка Иорета причитает:
«Ах, если бы Государь воротился к нам в Гондор – были же когда–то у нас Государи! Есть ведь старинное речение: «В руках Государя целебная сила». Так и распознается истинный Государь», – в точности как и французский король «распознавался» по тому, что излечивал от золотухи.
Позднее Арагорн признается своим друзьям:
«По–древнему я зовусь Элессар, Эльфийский Берилл, и еще Энвинъятар, Обновитель».
Арагорн подобен владетелю Грааля, чаши из животворно–целительного камня. Он снимает с груди зеленый самоцвет, подарок Галадриэли, подносит его к Фарамиру, дабы исцелить того от ран. Впрочем, врачует он и с помощью чудодейственных листьев целемы. И вот «у всех посветлело на душе: пахнуло росистым утром в том лазурном краю, о котором даже сияние зеленой весны – лишь бледное напоминание».
Таким образом Арагорн исцеляет трех раненых – Фарамира, Эовин (тайно влюбленную в него) и Мерри. Фарамир и Эовин получили ранения не только от врага, но и от самой судьбы, – и только любовь и преданность вернет обоих к жизни.
Вот тогда–то Арагорна действительно признают Государем:
«У входа в Палаты собрались люди – поглядеть на Арагорна, и толпа следовала за ним; когда же он отужинал, его обступили с просьбами вылечить раненых, увечных или тех, кого поразила Черная Немочь… Весь город облетел слух: «Поистине явился Государь». И его нарекли Эльфийским Бериллом, ибо зеленый самоцвет сиял у него на груди. Так и случилось, что предсказанное ему при рождении имя избрал для него сам народ».
Иначе говоря, по словам Эомера, все происходит, точно в сказке, потому что уж больно не походит на явь:
«Люди смотрели на него и думали – неужто приснилось им явление Государя?»
И тут Мерри произносит слова, которые в устах хоббита звучат довольно странно:
«Хорошо, конечно, любить то, что тебе и так дано, с чего–то все начинается, и укорениться надо, благо земля у нас в Хоббитании тучная. Но в жизни–то, оказывается, есть высоты и глубины: какой–нибудь старик садовник про них ведать не ведает, но потому и садовничает, что его оберегают внешние силы и те, кто с ними в согласии».
Впрочем, Мерри, со свойственной ему хоббитской проницательностью, постиг непостижимое – «глубину» и «высоту» того, ради чего боролись посвященные.
Глава вторая
Странствия, скитания и цели
Средневековый мир пребывал в постоянном движении. В те времена не было ни государственных рубежей, ни территорий в современном понимании. А значит, не было надобности и в паспортах и визах. Да и к чему они в мире, который жил по законам движения и странствий.
Первыми странниками были неутомимые трубадуры и рыцари. Они странствовали в поисках друг друга, как в «Валлийце Персивале» или «Ланселоте», а когда в конце концов находили, то непременно с кем–нибудь сражались, если выпадал случай. Они без устали преодолевали препятствия, в том числе и неодолимые – Кипящий источник и особенно Гибельный престол возле Круглого стола, на который если кто и мог воссесть, так, пожалуй, только Избранник небес Галаад.
Как отмечал кто–то из хронистов XII века, «неуемной породы нормандцы» блуждали по лесам да большим и малым дорогам. Но были в те времена и отважные купцы и крестьяне, распахивавшие новь (кстати, по–своему – в символическом смысле – распахивали новь и странствующие рыцари), корчевавшие леса под пашни. Наконец, были паломники, ходившие в Компостелу (66)66
Имеется в виду Сантьяго–де–Компостела – испанский город, где по преданию был погребен апостол Иаков; со средневековья и до наших дней – место паломничества христиан.
[Закрыть], Рим или Иерусалим, а также их собратья по дальним странствиям рыцари–крестоносцы. Но только избранным из избранных было под силу преодолевать бурные стремнины. В самом деле, «завоевание Великого Мира зачастую представляется в виде мореплавания, потому–то лодка и считалась издревле символом католической церкви» (Ле–Гофф).
Лодка и стала тем самым кораблем, на котором Юлиан Милосердный (67)67
Юлиан Милосердный,святой – герой средневековой легенды, снискавший прощение за убийство своих родителей у Христа, явившегося ему в образе прокаженного, которого он не побоялся перенести через реку.
[Закрыть], подобно новоявленному Христофору (68)68
Христофор(букв, «христоносец») – герой–мученик христианских преданий, переправивший через бурный поток ребенка – Христа, а с ним, символически, и весь мир, и того, кто сотворил этот мир.
[Закрыть], унес Христа.
Странствие несет в себе духовный и символический смысл во всех традициях. Странствия Гильгамеша (69)69
Гильгамеш —герой месопотамской мифологии.
[Закрыть], Геракла, Синдбада, Ибн Аль–Араби (70)70
Ибн Аль–Араби(1165–1240) – арабский мыслитель, поэт, мистик.
[Закрыть]или Данте – это прежде всего духовные поиски, в которые устремляются истинные искатели приключений – люди в становлении, сильные и энергичные, готовые к преодолению любых препятствий ради достижения своих целей. И все это – своеобразные уровни посвящения, и у каждого из них свое название, например: сошествие в ад, плавание к далеким западным островам (например, к Аваллону (71)71
Аваллон (от вамийск.afal, «яблоко») – в кельтской мифологии «Остров блаженных», потусторонний мир, чаще всего помещаемый на далеких «Западных островах».
[Закрыть] – согласно кельтской традиции) или к Северу мира, проникновение в некое зачарованное место или заколдованный замок, поединок с чудовищем вроде Цербера, стерегущего запретный вход. В мусульманской традиции существует Великий Путь, или шариат (72)72
Шариат – свод религиозно–этических и правовых предписаний ислама.
[Закрыть], который проходят все люди, – он выражается в соблюдении пяти основных религиозных правил (молитва, подаяние, паломничество…), – а также тарика (73)73
Тарика – путь познания Бога в исламе.
[Закрыть].
Тарика – это «тропа», узкая стезя, по которой могут пройти лишь немногие. Каждая тарика ведет в одно–единственное место, где совершается перерождение «первозданного состояния», выраженное символически в высшем центре – своеобразном Монсальвате, как в музыкальной драме Вагнера «Парцифаль». Очевидное символическое значение заключено и в рыцарских странствиях: ведь каждое из них – то же посвящение. Сетанта, первое имя Кухулина (74)74
Кухулин(«Пес Куланна») – в ирландской мифоэпической традиции герой и главный персонаж многочисленных саг героического цикла.
[Закрыть], на бретонском языке значит «бредущий». То же самое означает, правда, по–гречески, и имя кельтского бога войны и красноречия Огмия. А алхимики усматривали определенную связь между «путем, проторенной дорогой… и сурьмяной рудой, или стибиумом… при том что греки называли серноокись природной сурьмы «стиби»; а стибия и есть дорога, путь, стезя, которой идет, к примеру, исследователь или паломник», – пишет Фулканелли в «Философских храмах».
Таким образом, странствие наделено важным смыслом, ибо оно предшествует получению заветного плода поиска. Впрочем, рыцари уже сами по себе были предрасположены к странствиям и скитаниям, одиночным или совместным. В скитаниях же рыцарь проходил различные символические этапы – дремучие леса, полноводные реки и бурные потоки, «острова», туманы, мосты и даже погосты. Об этих–то этапах у нас и пойдет разговор.
Истории Толкиена, какие ни возьми, прославились во многом благодаря походам, блужданиям и описаниям природы диковинных краев. Все это очень напоминает странствия–посвящения, во время которых герои проходят через самые ужасные испытания. Неспешные передвижения в пространстве, суровая природа, штурмы крепостей – все это важнейшие события, которые в определенное время обретают порядок, наделенный особым смыслом. При этом в необходимости странствий ощущается некая тайная воля. Именно она ввергает в труднейшие испытания героев Толкиена – будь то Берен, Бильбо или Фродо, – выводя каждого из них, если угодно, на свою дорогу в Дамаск (75)75
Дорога в Дамаск – путь, на котором человек находит свое истинное призвание (согласно евангельскому преданию, по пути в Дамаск святой Павел уверовал в Христа).
[Закрыть]. Это тем более замечательно, что сам Толкиен никогда не был завзятым путешественником, а если и странствовал, то разве что в воображении. Как мы уже видели, в традиционной литературе путь–дорога имеет важный символический смысл – она влечет всех странствующих рыцарей, будь то Персиваль или Дон Кихот, вперед и вперед, к некоему посвящению через череду испытаний.
То же самое и с героями Толкиена: Бильбо пускается в путешествие, чтобы отыскать сокровища дракона, Фродо – чтобы раз и навсегда избавиться от проклятого Кольца, а Берен – чтобы снова обрести Сильмариллы, спрятанные в Морготе. Но достичь намеченных целей можно, только пройдя свой путь до конца, причем путь этот приходится описывать подробно и, порой, довольно монотонно. Впрочем, как раз во время своих долгих блужданий Сэм и Фродо начинают мало–помалу постигать своенравную логику истории и причины столь медленного продвижения к цели.
Пространность и, главное, точность описаний у Толкиена не просто удивляет, а поражает: «Остаток дня они карабкались по осыпям. Нашли ущелье, которое вывело их в долину, пролегавшую на юго–восток, в самом подходящем направлении; но под вечер путь им преградил скалистый хребет, выщербленный, на фоне небесной темени, точно обломанная пила. Либо назад, неизвестно куда, либо уж, куда ни шло, вперед».
Выражаясь словами Рембо, редкого писателя можно назвать ясновидцем. Толкиен же не только ясно видит, но и ярко проживает то, о чем пишет со свойственной ему поразительной наблюдательностью. Точность, с какой Бальзак описывал внутреннее убранство домов или парижские улицы, сродни четкости, с какой Толкиен живописует змеящиеся по земле дороги и тропы, уходящие под землю пещеры или вздыбливающиеся на пути героев неодолимые горные кряжи.
А вот другое описание пейзажа, встающего у нас перед глазами с поразительной ясностью. Во время перехода через Ородруин:
«Сэм взглянул налево – и ужаснулся, увидев башню на Кирит–Унголе во всем ее сокрытом могуществе. Рог над гребнем Изгарных [гор] был всего лишь ее верхним отростком, а с востока в ней было три яруса; и ее бастионы, внизу огромные, кверху все уже и уже, обращены были на севере–и юго–восток».
Далее следуют еще несколько страниц описаний, поражающих настолько, что невольно спрашиваешь себя, действительно ли Толкиен видел воочию то, что описывает, или все это вырисовывалось в его воображении. Кстати, о рисунках: Толкиен действительно сделал немало иллюстраций к приключениям своих героев.
Или вот еще пример изумительного описания скитаний у Толкиена:
«В стылый предутренний час они прыгали по мшистым кочкам, а ручей забулькал на последней россыпи каменных обломков и канул в ржавое озерцо. Шелестели и перешептывались сухие камыши, хотя в воздухе не было ни дуновения.
И впереди, и по обе руки простирались в тусклом свете неоглядные топи и хляби. Тяжелые испарения стелились над темными смрадными мочажинами. Их удушливое зловоние стояло в холодном воздухе. Далеко впереди, на юге, высились утесистые стены Мордора, словно черный вал грозовых туч над туманным морем».
Подобная символика пространства, объединяющая дороги и болота, горы и туманные дали, таит в себе важный духовно–нравственный смысл. Продвижение по зловещему Мордорскому краю становится медленным и на редкость тяжким. И краткое тому объяснение приводится в самом начале, когда герои только–только пускаются в долгое странствие:
«Безотрадные это были места, и продвигались они медленно и уныло. Верховой Фродо тоскливо оглядывал понурившихся друзей – даже Бродяжник казался мрачным и угрюмым».
Бродяжник – так обитатели Пригорья окрестили величайшего из Следопытов своего времени, как отзывался о нем Гэндальф. А звание Следопыта в мире Толкиена кое–что да значит: оно сродни титулу посвященного. Бродяжник–Следопыт подобен тому же Персивалю: он будто рожден, чтобы преодолевать всевозможные препятствия и невзгоды. Но порой и ему случается терпеть неудачи на тернистом пути странствий, а заодно с ним – и его спутникам. Так, например, в начале горного перехода им не удалось одолеть перевал: «Карадрас их сломал». Он встретил их снежным бураном и камнепадами, будто гора и впрямь обладала разумом и действовала по чьему–то злодейскому умыслу. Как замечает с горечью Гэндальф, враг далеко простер свою руку. Стоило, однако, путникам повернуть вспять, как, замечает Толкиен, все вокруг резко изменилось:
«Но гора, казалось, и сама успокоилась, как бы удовлетворенная отступлением пришельцев: начавшийся было камнепад иссяк, а тучи, закрывавшие перевал, рассеялись».
Но после тщетного штурма Карадраса братья по Кольцу готовятся спуститься в преисподнюю, в прямом и переносном смысле, – недра Мории. В этом зловещем месте обитают лишь призраки погибших гномов, пытавшихся отстоять в кровопролитной схватке с подземными чудовищами и орками добытые ими сокровища Подгорного царства:
«Дремал в глубинах грозный рок,
Но этого народ не знал -
Ковал оружие он впрок
И песни пел под кровлей скал.
Недвижный мрак крыла простер
Под грузным сводом древних гор,
И в их тени давным–давно
Зеркальное черным–черно;
Но опрокинут в бездну вод —
Короной звездной – небосвод
Как будто ждет он, словно встарь,
Когда проснется первый царь».
Впрочем, не всегда тяжек и тернист путь странников – порой он легок и приятен. Когда они входят в Кветлориэн, их окружают изумительные красоты и безмятежные островки покоя, пока что не тронутые грозной волной неумолимого океана времени. И путникам чудится, будто они попали в мир, которого уже давно нет, где все только еще готовится к пробуждению, в мир, которого еще ни разу не коснулась тень. Тут–то они и открыли для себя истинные loca amoena, благословенные земли, воспетые многими поэтами задолго до Толкиена. После долгого перехода путники «наконец увидели высокий фонтан, подсвеченный оливково–зелеными фонариками. За фонтаном, на самой вершине холма, рос особенно могучий ясень с матово–серебряной бархатистой корой и шелковой шелестящей золотой листвой…»
Путники взбираются на макушку чудо–дерева, олицетворяющего Axis mundi – Ось мира, соединяющую людей и небеса, или, в данном случае – эльфов с их богами. Затем Фродо попадает в овальный зал:
«…с изумрудным полом, лазоревым потолком и бирюзовыми стенами, зал казался драгоценным камнем, внутри которого застыло мгновение вечно длящейся волшебной жизни»
Среди этой возвышенной, в прямом и переносном смысле, обстановки возникает мир поистине сказочный, но легко уязвимый, обреченный на гибель после ухода эльфов в Серебристую Гавань. Мир этот словно из какой–то волшебной географии, о которой сохранились лишь ностальгические воспоминания. Так что география Толкиена тоже исполнена символики: деревья, цветы, леса, дороги и тропы, горы и ущелья – все это составляющие духовного мира, внутреннего красочного зрелища, которое захватывает читателя, увлекая его за собой, как если бы он и сам был неутомимым путешественником. И удача Толкиена как раз в том и заключается, что он обращает читателя в очарованного странника, непосредственного участника одного из самых невероятных путешествий–посвящений в истории литературы.








