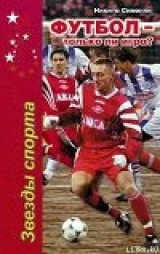
Текст книги "Футбол – только ли игра?"
Автор книги: Никита Симонян
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
КРЫЛЬЯ
На Курском вокзале нас встречал Горохов. Пританцовывал от холода на платформе, но, как всегда, был в хорошем настроении:
– Не робей, южанин! Московские зимы – пустяки, понимаешь ли. Сердца у москвичей горячие, не дадут замерзнуть.
Мы сели в троллейбус и поехали к Владимиру Ивановичу домой. Троллейбус шел по Садовому кольцу. Садовое? А где же сады?..
Москва ошеломила. Широкие улицы, огромные площади, беспрестанное движение, гул, автомобильные гудки, толпа. А вспоминаешь сейчас послевоенную Москву и удивляешься: какой же она была маленькой в сравнении с нынешней! Чуть в стороне от Садового кольца уже начинались приметы окраины – маленькие деревянные домики вдоль трамвайной колеи.
Но в то время, особенно после тихого Сухуми, где самым людным и шумным местом был базар, город казался гигантским, непостижимым – как здесь жить, как ориентироваться? Неужели можно к нему привыкнуть?
Теперь Москва стала родной: прожил здесь большую часть жизни. Разумеется, как все москвичи, жалуюсь на шум, на толпу, толчею, сумасшедший ритм, а едва оторвавшись от всего этого, скучаю – домой бы скорее, в Москву!
Из окна Гороховых тоже был виден кусочек Москвы: проплывали валенки с калошами, резиновые ботики, постукивали, поскальзывали по тротуару чьи-то белые фетровые бурки, отделанные кожей… Семья Гороховых – Владимир Иванович, Клавдия Михайловна, двое ребятишек, Андрюша и Алла, – жила во Вспольном переулке, недалеко от площади Восстания, в старом доме, в небольшой подвальной комнате, куда едва пробивался дневной свет. И, несмотря на тесноту, меня приютили. Не на день, не на два – на несколько лет. В темном чулане на большом сундуке устроили постель.
– Будь как дома, Никита, – сказала при знакомстве Клавдия Михайловна.
Так я себя и чувствовал у Гороховых – как дома, хотя был очень застенчив. Раскрепощало доброе отношение. И со временем мне не раз приходилось убеждаться в том, что истинная доброта проверяется вот таким умением делиться последним.
Еще не отменили карточек. Хлеб в булочных развешивали, буханки разрезали на куски, кусочки, довески. Клавдии Михайловне непросто было всех накормить. А мой вклад в семейный бюджет, как сейчас понимаю, был невелик.
Но тогда не принято было жаловаться на тяготы быта. Может, жалобы не запомнились? Не знаю. Главное, что определяло состояние, настроение людей в ту пору – облегчение: кончилась война, мы победили! Отступили тревоги. Не гибли больше на фронте люди. И фронта не было. Были фронтовики, возвращающиеся к мирной жизни. Само это слово звучало особенно, как характеристика надежности: «Что он за человек?» – «фронтовик», – и этим сказано многое.
На улицах все время встречались люди в военной форме. С погонами и без погон, с невыгоревшими полосками на плечах. Среди скромно одетых женщин мелькали модницы в жакетах с высокими плечами; пижоны того времени мели тротуары широченными брюками, особым шиком считались комбинированные курточки на молниях и маленькие кепки с пуговкой.
У кинотеатров стояли очереди. Шли трофейные фильмы – «Судьба солдата в Америке», «Леди Гамильтон», «Большой вальс», картины с Диной Дурбин – красивые картины про незнакомую красивую жизнь, всегда хорошо кончавшиеся.
Гороховым тоже иногда удавалось выбраться в кино или на концерт. Я тогда оставался с детьми. Андрей и Алла меня слушались как старшего брата и уважали.
Особая тяга была в ту пору к зрелищам, праздникам. Народ изголодался по ним, и теперь, когда тревоги отступили… В дни футбольных матчей, казалось, вся Москва устремлялась на стадион «Динамо». Битком набитые вагоны метро, переполненные троллейбусы с открытыми дверями. Пассажиры гроздьями висели на подножках трамваев, некоторые ухитрялись прицепиться сзади к автомобилям… Обладатели билетов считались самыми счастливыми людьми. О том, чтобы стрельнуть лишний билетик, и речи быть не могло. Легче было всеми неправдами шмыгнуть мимо контролеров. Иногда самым шустрым пацанам удавалось отвлечь милицию и перемахнуть через ограду стадиона.
«Крылья» не пользовались такой популярностью, как «Динамо», «Спартак», ЦДКА. Если играли эти команды, стадион оглушительно ревел. Поддержка была столь мощной, что без преувеличения можно сказать: матчи выигрывали и болельщики.
Тот, кому довелось ощутить непередаваемую атмосферу послевоенных стадионов, может лишь грустить по ней. Редко какие игры сегодня проходят при заполненных трибунах. Такой накал футбольных страстей в сороковые годы обычно объясняют тем, что выбор развлечений был не слишком широк, что телевидение не доставляло матчи на дом, да и телевизоров вообще еще не было… С этим нельзя не согласиться. И все-таки, думаю, главное в том, что люди после всего пережитого испытывали невероятную потребность в широком радостном общении, которое дает только стадион, в открытом выражении чувств.
Я не пропускал ни одной игры чемпионата страны. Буквально впивался глазами в Федотова, Боброва, Бескова, Гринина, Николаева, Демина. И ловил все, что говорилось рядом, на трибуне.
Потрясало уважение болельщиков к Федотову. Иначе как Григорий Иванович, его никто не называл. Даже представить было невозможно ни Гриши, ни тем более Гришки. Познакомившись с ним, тоже удивлялся – простоте обращения со всеми, уважительности. Спешит первым поздороваться. Непременно спросит: «Как дела?» – и улыбка на лице мелькнет, характерная федотовская улыбка с хитринкой. На него не давило бремя славы. Остался земным, на земле.
Вообще мне кажется, звезды тех лет держались попроще, не заносились, не возносились. Их положение среди «простых смертных» тоже определяло время. Понятия «подвиг», «героизм» относились не к тем, кто выходил на футбольное поле, а к тем, кто сидел на трибунах, поблескивая боевыми орденами. И футбольные отчеты не изобиловали словами «накал борьбы», «мужество», «драматизм», «самоотверженность».
Сегодня, на фоне благополучной жизни, они кажутся вполне уместными в спортивной хронике, а тогда…
И жили звезды скромнее, чем сейчас. На матчи в другие города отправлялись в общих переполненных вагонах, поселялись где придется. Многоместный гостиничный номер с умывальником в конце коридора считался неслыханным везением, роскошью. Словом, жили, как все, запросы тоже были скромны, как у всех. Квартиры и прочие пироги появились значительно позже.
Я вовсе не против того, чтоб людям воздавалось по физическим и нервным затратам. Чтоб в перечень особых обстоятельств, дающих человеку право на блага, входили перегрузки, которые не всем доводится переносить, и страшное напряжение жизни. Тревожит меркантилизм, с некоторых пор сопутствующий спорту. Футболист забьет несколько мячей, и у него сразу же подскакивают запросы. Дать футболу он хочет чуть-чуть, а взять все, что можно и нельзя.
Не могу сказать, что старшее поколение идеально во всем. Но любовь к спорту была очищена от материальных расчетов, делячества.
…Итак, Москва. Я сделал некоторый скачок во времени – невольно перемахнул в лето, на «Динамо», на игры чемпионата, а приехал сюда, как уже говорил, зимой, успел надрожаться на январских морозах, не раз вспомнил мягкие сухумские зимы, которые здесь вполне могли сойти за лето. Правда, особого времени для воспоминаний о доме, грусти и тоски по родным не было.
Сразу же отправился с Гороховым во Дворец «Крылья Советов», где меня представили команде. Со многими встретился как со старыми знакомыми – они же приезжали в Сухуми. А вот маленького, пожилого, по моим тогдашним понятиям, человека с мальчишеской челкой видел впервые. Когда мне назвали его имя – Петр Тимофеевич Дементьев, – оробел: знаменитый Пека!
Начались тренировки. С первых дней ощутил всю тяжесть спортивной дисциплины. Это тебе не сухумские занятия, где все делалось в охотку: устал – отдохни. Можешь опоздать на тренировку, можешь вообще не явиться. Там я и чувствовал себя по-другому, пользовался авторитетом. А здесь кто я? Мальчишка, новичок. Хорошо, что отношения в команде были доброжелательными. Даже сам Петр Тимофеевич, человек в общем-то нелюдимый, подойдет, посмотрит, скажет скороговоркой:
– У тебя все есть… Способности есть. Учиться надо. Учиться… Делай вот так…
Понимал, что надо учиться, да моих сухумских накоплений для учебы, для нового скачка явно не хватало. Чувствовал, что из школы сразу перескочил в академию, не имея для этого достаточных знаний. Для меня начинался другой футбол. Раньше знал одно: лететь к воротам, закладывать финты, обводить соперника, прорываться. Но мои соперники теперь футболисты высокого класса. И, ощутив в первых же матчах жесткость опеки, понял, что надо научиться укрощать мяч в доли секунды и в доли секунды принимать решения. Не освою этого – дальше не двинусь.
– Делай вот так… – подходил Петр Тимофеевич, – Смотри… Данные есть… Так ты давай! Уверенней!
В «Крыльях» собрались футболисты разных поколений. Петр Архаров, Георгий Мазанов, Виктор Карелин, Александр Ильичев, Владимир Егоров и Петр Дементьев – ветераны, отцы футбола, как мы говорили. Братья Николай и Петр Котовы, Борис Запрягаев, Иван Новиков, Семен Беляков, Алексей Ромашов представляли среднее поколение. Все были, как говорится, в расцвете сил. За ними шла зеленая поросль вроде меня.
Вольно-невольно в команде существовало возрастное разделение: ровесники больше тянулись друг к другу, и я очень подружился с Сергеем Коршуновым. Вместе гуляли по Москве, ходили в кино, я бывал у него дома. Ребята-москвичи держались в команде посвободней, повольней, чем я: город, видимо, накладывает отпечаток на характер. Рядом с Сергеем чувствовал себя уверенней, он помогал мне осваиваться, входить в коллектив. Был в буквальном смысле поводырем. Если мне надо было спросить о чем-то на улице, к Сергею обращался: «Подойди, спроси», и вопросы Дангулову задавал через него.
Перед Абрамом Христофоровичем, немногословным, сдержанным, который к каждому обращался только на «вы», робел особенно. Сказывалось тут еще и мое воспитание: подчеркнуто почтительное отношение к старшим в традиции южных, восточных народов – вперед не забегай, со словом не спеши.
За старшими игроками команды следил с мальчишеским любопытством – какие они, мастера?
Петр Тимофеевич Дементьев замкнут. Говорил мало. Нелегко находил общий язык с людьми.
Когда впервые увидел Пеку на поле, был потрясен его умением обращаться с мячом. Думаю, даже сегодня, при возросшей технике, он поражал бы и мастеров и болельщиков.
Уже тогда бытовало такое выражение: «Мяч привязан к ноге». Сейчас это избитые слова. Но про Петра Тимофеевича иначе не скажешь. Лев Кассиль очень точно рисует его в рассказе «Пекины бутсы»:
«На поле во время игры Пека был самым резвым и быстрым. Бегает, бывало, прыгает, обводит, удирает, догоняет – живчик! Мяч вертится в его ногах, бежит за ним, как собачка, юлит, кружится. Никак не отнимешь мяча у Пеки, никому не угнаться за Пекой».
В играх к Пеке всегда прикрепляли персонального опекуна. И опекун не расставался со своим подопечным от первой до последней минуты матча. Дементьев привык к такой «заботе» и перемещался по полю вместе со своим сторожем. И все-таки ускользал от него, получал мяч, и отобрать его у Пеки было просто невозможно. Владея прекрасным дриблингом, обводкой, иной раз закладывал такой финт, что опекун, растерявшись, под хохот трибун бросался в одну сторону, а Пека уходил в другую.
Маленький, он казался еще меньше рядом с высокорослыми соперниками. Но умудрялся побеждать в воздушных дуэлях даже Леонида Соловьева и Михаила Семичастного, знаменитых динамовцев, которые были чуть ли не на голову выше. Срабатывала его врожденная ориентация в пространстве, умение увидеть точку, в которую опустится мяч, правильно рассчитать момент прыжка, благодаря этому неизменно опережал соперника. На какое-то мгновение опережал, но оно-то все и решало.
Уверенный в своем большом мастерстве, никаких особых условий, привилегий для себя не требовал. Все указания тренеров выполнял добросовестно и старательно. Показывал всем нам пример образцового отношения к футболу. На тренировках не упускал случая повторить еще и еще раз хорошо освоенный технический прием или попробовать новый. С мячом работал в удовольствие. На первых порах мне казалось: все, что он делает, нетрудно скопировать. Но начинаешь подражать – все так и не так. Своеобразие неповторимо.
О себе он рассказывал мало. Не балагурил, не острил. Правда, иногда не прочь был пошутить. Но и шутки у него были своеобразные, дементьевские. На лице ни один мускул не дрогнет, и не поймешь сразу – то ли всерьез говорит, то ли разыгрывает. Думаешь, смеяться или принимать его слова за чистую монету, а он молчит, смотрит на тебя выжидательно. Многие попадались на его уловки. Только тогда Пека позволял себе чуть-чуть улыбнуться: «Не обижайся, нельзя и пошутить».
Не сразу можно было понять, насколько он добр. Однажды в заводской столовой, где обедала наша команда, произошел такой случай. Рядом с Дементьевым сел Михаил Джоджуа. Официантка поставила на стол сразу все блюда – так было заведено, а Миша куда-то отошел.
Петр Тимофеевич принялся за свой суп. И вдруг голос: «Одолжите немного хлеба». Дементьев поднял голову. Рядом со столом стоял плохо одетый пожилой человек. В первый год после войны многие жили впроголодь, и немало было людей с неустроенными, изломанными войной судьбами.
– Хлеба? – переспросил Пека. – Садись-ка ты лучше за стол. Вот тебе и хлеб и обед.
Мужчина посмотрел на аппетитно дымящиеся блюда, потом снова на Дементьева.
– Садись, садись! – настоял тот.
Через минуту-другую с тарелок почти все исчезло. И тут вернулся Миша.
– Ва! Как ты сюда попал? – удивился незнакомцу.
Тот съежился, покосился на Джоджуа и, кивнув на Дементьева, начал оправдываться:
– Я хлеба хотел… А он за стол пригласил…
– И ты ему веришь? Я только отвернулся, смотрю, сидит этот друг с ложкой. Не прогонять же, – как всегда серьезно сказал Пека.
Миша растерялся. Незнакомец поспешил удалиться. Только теперь Дементьев, улыбнувшись, сказал:
– Не ворчи. Сходи на кухню, там тебе что-нибудь найдут. Понимаешь, Мишка, жалко мужика, голодный ведь. Война, она, стерва такая, до каждого добралась…
Дементьев и на поле не терпел грубости, любил мягкую, техничную, я бы сказал, артистичную игру. Своим мастерством гипнотизировал защитников. Много лет прошло, а до сих пор перед глазами Петр Дементьев, Пека и мяч, движущийся рядом.
К сожалению, я играл рядом с ним всего один сезон. Потом Петр Дементьев перешел в киевское «Динамо», через два года в «Динамо» (Ленинград), команду, за которую выступал еще до войны.
И другой замечательный футболист Агустин Гомес, с которым я успел подружиться, покинул «Крылья Советов», приняв предложение московского «Торпедо».
Доброжелательный, мягкий, интеллигентный, Агустин как-то сразу расположил меня к себе. Он был старше года на четыре. Разница немаленькая для юности. Мог бы посматривать на меня свысока, но он никогда ни в чем не подчеркивал своего превосходства.
Умен, образован, много знал, много читал, учился в институте связи, причем учился по-настоящему, не пользуясь никакими льготами и поблажками.
Поначалу казалось невероятным, что я рядом с ним в одной команде. Он – из Испании! А кто из мальчишек моего поколения не следил за испанскими событиями, за борьбой республиканцев или не мечтал попасть в интернациональную бригаду?
Агустин много рассказывал об Испании, о своем детстве, о первых бомбежках, о пароходе с детьми республиканцев, отправившемся из Барселоны в Советский Союз…
А как игрок он полностью раскрылся в «Торпедо». В «Крылышках» ему было тесно. За автозаводцев играл на левом краю обороны и центральным защитником. Был капитаном команды. Обладал великолепным позиционным чутьем, умел подстраховывать партнеров…
Глубокий, интересный человек – интересный футболист. Глядя на Гомеса, я уже в ту пору задумывался об этой связи – личность – мастер. Но точной формулы пока не находил.
…Весной мы выехали на сбор в Сочи. Ранний подъем, одна тренировка, другая, кроссовая подготовка… Работал из последних сил, стиснув зубы, а Горохов не уставал повторять:
– Мужество, я тебе скажу, мужество, понимаешь ли, украшает мужчину!
Жили мы в санатории пищевой промышленности, занятия проводили неподалеку, внизу у реки, на аэродроме. Сейчас этот район застроен новыми домами, а тогда на огромном поле ставили сразу несколько ворот, и несколько команд могли одновременно тренироваться. Если во время занятий или контрольных игр заходили на посадку самолеты, все отбегали в сторону и ложились на траву, чтоб не сбило ветром.
В апреле начинался чемпионат страны, и все гадали, где и с кем придется помериться силами в первом матче. Наконец сообщили, что первая игра нам предстоит с командой «Динамо» (Минск) в Сухуми. Я, естественно, обрадовался возможности встретиться с родными, с друзьями и в то же время заволновался: как проведу этот матч, как буду выглядеть на поле – соберутся болельщики, которые меня знают, – не потеряюсь ли среди мастеров?
В Сухуми не было отбоя от знакомых, все расспрашивали, как думаем сыграть, на что рассчитываем.
В день игры в гостиницу пришел сильно озабоченный двоюродный брат Иван, отвел меня в сторону и сообщил, что в нашем доме был обыск. Что искали, неизвестно. Не обнаружив ничего предосудительного, все же арестовали и увели отца.
Новость ошарашила – что делать? Вскоре появился мой бывший партнер по сухумскому «Динамо» (он работал в МВД Абхазии) и по секрету сообщил мне, что обыск и арест отца затеяны с единственной целью – заставить меня перейти в тбилисское «Динамо». Предупредил, что после игры и меня должны задержать, чтобы отправить в Тбилиси.
Я сразу же рассказал об этом руководству команды. От дикости случившегося не мог прийти в себя, настроение было прескверным. А надо выходить на поле, играть…
В раздевалке ко мне подошел капитан «Крылышек» Владимир Егоров, ставший впоследствии известным хоккейным специалистом:
– Не волнуйся, Никита. В обиду не дадим, забрать тебя не позволим. И играй, как ты умеешь.
Первый матч первенства СССР мы выиграли, и надо было такому случиться: единственный гол забил я. Хотя во время игры получил травму, с поля не ушел.
Ребята окружили меня плотным кольцом, надеясь таким образом помешать беззаконию, проводили до гостиницы. Все решили, что мы с Абрамом Христофоровичем Дангуловым немедленно, не дожидаясь всей команды, должны выехать в Сочи. Я волновался за отца, но меня убедили, что мое присутствие в Сухуми лишь осложнит все дело. Я уеду, и его выпустят: нет же никаких оснований, чтобы держать под арестом.
Отца освободили через два дня. От него требовали: уговори своего сына перейти в тбилисское «Динамо».
В отце всегда было сильно чувство достоинства, и тут, возмутившись несправедливостью, он твердо ответил:
– Мой сын будет играть за ту команду, которую выберет сам. А я готов сидеть у вас сколько угодно, за мной вины нет.
Осенью после окончания чемпионата я приехал домой на отдых. Прошло несколько дней, в дом явился незнакомый человек и сказал, что меня просит зайти министр МВД Абхазии. Я отправился в министерство.
Министр предложил присесть и завел разговор издалека: почему я, воспитанник грузинского футбола, оказался в Москве? «В общем, – подытожил он длинную преамбулу, – у руководства Грузии есть мнение, что ты должен играть за команду республики, и тебе необходимо поехать в Тбилиси, чтобы переговорить обо всем на месте». Я понял, что министру дано указание препроводить меня в столицу Грузии.
Вышел подавленный. Все это никак не укладывалось в голове – и внимание к моей персоне, и вмешательство в футбольные дела на столь высоком уровне. Встревожен был больше, чем весной: тогда все обошлось, обойдется ли сейчас? Этот случай накладывался на другие, о которых рассказывали родители: арестовывали, высылали за пределы республики людей безо всяких на то оснований.
Дома стали уговаривать поехать в Тбилиси – вдруг будет хуже, если откажусь?
На вокзале меня встретил Борис Пайчадзе, бывший уже в ту пору знаменитым футболистом, сказал, что нас ждут. Я не поинтересовался, где ждут, решив, что встречусь с руководителями тбилисского «Динамо».
Борис Соломонович провел меня в солидный кабинет, где в кресле за столом сидел тучный человек в штатском. Потом уже выяснил, что хозяин кабинета – руководящий работник министерства внутренних дел республики.
– Слушай, – начал он без предисловий, – зачем тебе жить в Москве? Ты – армянин. Грузины и армяне – братья, а русские нас турками называют.
Я добавил, что еще и казбеками, но это ровным счетом ничего не значит.
– И все равно, как же ты можешь за них играть?!
Я ответил, что в команде ко мне все прекрасно относятся. И что, прожив год в Москве, не почувствовал неуважения ни к себе, ни к армянам или грузинам вообще. Не ощущаю разницы между собой и своими русскими товарищами.
Но мой собеседник не унимался:
– Мы, кавказцы, должны держаться вместе!
Видя, что атака ведется не на шутку, я стал придумывать разные предлоги, чтобы поскорее оставить этот кабинет и вырваться из Тбилиси. Сказал, что прежде мне необходимо съездить в Москву, объясниться с руководителями команды, взять документы.
– Ничего не надо! Сделаем тебе новый паспорт! Захочешь – будешь Симонишвили.
– Я хочу остаться Симоняном.
– Ладно, ладно, это шутка, – развеселился хозяин кабинета.
Договорились в конце концов, что я съезжу только в Сухуми и вернусь через несколько дней в Тбилиси.
Борис Пайчадзе проводил меня на вокзал. Всю ночь в поезде я не сомкнул глаз. Надо было делать выбор, принимать решение. Расстаться с «Крыльями»? Этого не мог представить. Горохов, Дангулов, ребята… На меня уже рассчитывали в команде. Как я им все объясню? Кто-нибудь из них скажет: не обращай внимания, забудь. А я очень волновался за родителей. После весеннего обыска, ареста отца ощутил беззащитность людей перед беззаконием, дурной начальственной волей. Вдруг придется ни за что страдать матери и отцу? В то же время отметал это, успокаивал себя: должна же где-то быть справедливость, и в Москве ее, наверное, можно найти…
Родителям все рассказал – и о том, что произошло, и о своих сомнениях. В который раз был благодарен им, что они меня поняли: «Нельзя, сынок, подвести людей, которые тебя пригласили раньше и так тепло приняли. А с нами, может, все и обойдется».
Купил билет на первый проходящий поезд, залез на третью полку и до Москвы почти не спускался вниз…
Недавно я рассказывал эту историю в Тбилиси своим грузинским друзьям и спросил, если напишу о ней в книге, все ли поймут меня правильно, не сочтет ли это кто-то оскорблением национальных чувств?
– При чем тут национальные чувства, народ? Время было такое…
Да, сложное, противоречивое время. Мне, можно сказать, повезло: уняли свои амбиции футбольные меценаты, меня и родителей оставили в покое. Но как трагично прошлось по многим судьбам беззаконие культа, самоуправство приспешников Берия! Вспоминая, всякий раз думаешь, как хорошо, что хватило у нас сил все это преодолеть.
…Владимир Иванович Горохов был моим главным наставником. На тренировках спрашивал с меня больше, чем с других. Никаких поблажек, хоть и жил с ним в одной семье, я не имел. Наоборот. Мягкий, иной раз так прикрикнет, что ушам своим не поверишь. Основой его работы была требовательность. Любил повторять:
– Только через трудности, через пот и через «не могу», понимаешь ли, можно добиться успехов в спорте.
Однажды на учебно-тренировочном сборе он раньше других поднял меня и Сергея Коршунова. Разминка прошла как обычно, а потом началось: одно упражнение, другое, пробежки, прыжки, снова пробежка… Даже в глазах потемнело. Присели на корточки и, не сговариваясь, выдохнули: «Хватит, Владимир Иванович, сил нет!»
Горохов сердито посмотрел на нас, махнул рукой:
– А я-то думал, вы мужчины, – повернулся и пошел.
Мы с Сергеем переглянулись: «Не герои, стало быть. Раскисли. Кончились», – и побежали за ним.
– Владимир Иванович! Не уходите! Мы готовы продолжать.
– Сил у них нет, понимаешь ли, – ворчал он уже добродушно. – Ходить пешком по полю у каждого силы найдутся, а вот чтобы весь матч провести как следует, не ударить в грязь лицом перед болельщиками, для этого нужно работать. Поняли?
Владимир Иванович любил свое дело. Никогда не отказывал молодым в просьбе провести дополнительную тренировку. Брал под мышку два мяча, широко улыбался, приговаривая:
– Работа, работа и еще раз работа, я вам скажу, требуется в футболе.
Он мог с утра до позднего вечера оставаться на поле.
Когда в 1948 году в игре с «Локомотивом» я получил тяжелую травму коленного сустава – неудачно столкнулся с вратарем, – Владимир Иванович решил сам меня лечить.
– Поставим на ноги, понимаешь ли, в два счета, – убеждал он. – Врачи врачами, а у меня есть средство, от которого ты через неделю забегаешь. Ложись!
Я лег.
– Вытяни ногу!
Вытянул. Горохову доверял безгранично. Он положил в банку парафин, поставил на плиту. Когда парафин закипел, потирая руки, еще раз посмотрел на колено и торжественно сказал:
– Можно приступать.
Процедура называлась (это я позже уяснил) парафиновая ванна. Название – медицинское, исполнение – гороховское. Владимир Иванович вылил кипящий парафин на кусок материи и наложил на колено, поверх повязки. Парафин прикрыл компрессной бумагой. Он не успел как следует застыть, и я почувствовал, как на обратную сторону колена, на сгиб медленно потекла густая огненная масса.
– Владимир Иванович, больно! – заорал я.
– Больно? – с улыбкой переспросил Горохов. – Ну и актер ты, Никита. Кричишь как резаный. Ведь кто другой и поверит. Только не я. Каков артист, а-а? – обратился он к Виктору Ворошилову, который помогал ему (Виктор в то время играл в нашей команде). – Правдоподобно кричит. Так, пожалуй, и артисты не умеют.
Я понял – крики не помогут. Стиснув зубы, стал терпеть. Так пролежал час. Пришло время снимать повязку. Горохов предупредил:
– Если твои крики, артист, не подтвердятся, накажу, понимаешь ли.
Выше коленной чашечки я увидел красноту и с радостью указал на нее пальцем.
– Во, какая краснотища! А вы – артист да артист…
– Клим (так мы звали в команде Виктора Ворошилова), мы с тобой ошиблись: не артист он, скорее артистка. Только дамы так могут орать. Красноты, понимаешь ли, испугался.
И тут я повернул ногу, чтобы посмотреть, как парафин прогрел ее с другой стороны. «Доктор» вдруг замолк и удивленно поднял брови. Огромный белый волдырь украшал место сгиба.
– А это что? – спросил я Горохова.
Смутившись, он тихо изрек:
– Да, понимаешь ли, это ожог. Самый настоящий ожог!
Гороховский метод не помог. Травма оказалась чересчур серьезной.
В то время лучшим специалистом по коленным суставам считался Абрам Моисеевич Ланда. Видный хирург, ученый, учитель Зои Сергеевны Мироновой. Дангулов повез меня к нему домой, на улицу Чайковского. Он, осмотрев ногу, сказал: «Где тонко, там и рвется». – «Так что с ним делать?» – спросил мой тренер. Я ждал с замиранием сердца. Что, если доктор произнесет сейчас слово «операция»? Не операционный стол, естественно, страшил, а то, что придется надолго выбыть из игры. Обидно: хорошо начал сезон, только-только почувствовал уверенность.
– Не будем спешить с операцией, – заключил Ланда, – вполне возможно, тут молодость вывезет. Пошлем его пока на грязи, а там…
И меня отправили в Одессу. Так что лето все-таки у меня пропало.
А над Владимиром Ивановичем при всяком удобном случае подшучивали:
– Ну-ка, «доктор», расскажи, как лечил Никиту…
В «Крыльях Советов» я прошел неплохую выучку. Понял, что в команде человеку могут простить слабость, ошибки, но не простят лени, равнодушия, зазнайства. И за одно это благодарен старшим товарищам. А на вопрос: нужен я или не нужен команде, – могло ответить время.
В «Крыльях Советов» я играл три сезона. Как играл – не мне судить. Забил в матчах чемпионата девять голов. Могло бы быть десять, если бы реализовал пенальти, который доверили мне пробить в ворота ЦДКА.
Волнуясь, поставил мяч, разбежался и мощно пробил… мимо ворот. Счет так и остался 1:0 в пользу армейцев. Потом они забили второй гол и ушли с поля победителями.
После игры, помню, армейские асы стали подтрунивать над своим массажистом Рябининым, который по совместительству работал и с нашей командой:
– Ты, Семен Степаныч, молодец! Настоящий армеец! Так поработал над мышцами Симоняна, что он и в ворота попасть не смог. Спасибо тебе!
– Ну, как же, как же, – подыгрывал им Рябинин. – Знал, что делаю, старался, на вас работал…
В сезоне 1948 года наша команда заняла последнее место. Сказался уход таких футболистов, как Дементьев, Гомес, да и многие наши «старички» закончили играть, а молодым еще не хватало опыта. И было принято решение расформировать «Крылья». Тренеров Дангулова и Горохова перевели в «Спартак», а игроков распределили по разным московским клубам. Мне предложили «Торпедо».
– Твое место в «Спартаке», – убеждал меня Горохов, – и только в «Спартаке». Мы, тренеры, тебя хорошо знаем, знаем твои способности, твои возможности. А «Торпедо»… Не спорю, команда интересная, самобытная, но не забывай, что там есть Александр Пономарев.
Кстати, Пономарев, знаменитый торпедовский форвард, убеждал меня в обратном: «Не раздумывай – иди в „Торпедо“! Мы с тобой создадим сдвоенный центр. У нас здорово получится!»
Честно говоря, я оказался в трудном положении. Будучи человеком дисциплинированным, должен бы по логике характера безоговорочно пойти в «Торпедо». И все-таки внял гороховским словам. Да и самому мне не хотелось расставаться со своими тренерами: трудно привыкал к новым людям – это пройдет лишь с возрастом, – еще труднее отвыкал. А Пономареву я сказал: «Вы же выдающийся игрок, Александр Семенович, и вряд ли я сравнюсь с вами, вряд ли буду играть в основном составе». – «Но пойми, „Спартак“ – это не „Торпедо“, – не сдавался он. – Мы рабочий класс, рабочая команда!»…
Много лет спустя, когда мы оба стали тренерами, он вспомнил о старом разговоре и сказал: «Все-таки зря ты тогда не пошел в „Торпедо“. Мы с тобой и в самом деле нашли бы общий язык…» А меня время убедило в обратном. Мы сыграли много сезонов – каждый за свою команду и каждый именно в нее вписался, в ее стиль, в ее ансамбль.
Я уже подал заявление в «Спартак», как однажды, рано утром домой к Гороховым пришел незнакомый молодой человек. Дверь ему открыл я, и он прямо с порога бросил:
– Никита, одевайся и едем на автозавод.
– Что случилось?
– Узнаешь.
Я оделся, мы вышли на улицу. Раннее зимнее утро. Было еще темно. До ЗИСа добрались быстро. Парень провел меня через проходную, и мы направились в административное здание.








