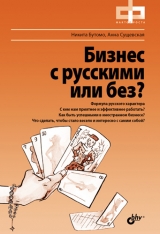
Текст книги "Бизнес с русскими или без?"
Автор книги: Никита Бутомо
Соавторы: Анна Сущевская
Жанр:
Деловая литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Понимать, что все они – прежде всего люди, то есть тела и эмоции, часто неподконтрольные, что тела хотят есть и спать, а эмоции рвутся наружу. Создайте канал выхода для эмоций, направьте их в нужное русло, поставьте там мельницу, которую будет крутить этот бешеный поток, и это мы назовем правильным менеджментом.
Те из нас, кто жил при «старом режиме», помнят, как смеялись над «чувством глубокого удовлетворения» и рассказывали анекдоты. Чем мы его заменили? Страхом потерять работу? Тщеславием? Книжным менеджментом?
Пигмеи мы перед менеджерами советской эпохи! Смотрят они на нас из заоблачной выси и улыбаются: «Молодые ищо!»
В чем же это тайное знание русских? Что такое знает Иван, чего не знает ни Жан, ни Поль?
Он понимает, что на работе – месте, где, по существу, проходит его жизнь, должно быть очень комфортно. Даже более комфортно, чем дома! Ради этого предпринимаются колоссальные усилия, и требуется совсем немного денег. Но все окупается. Это не так заметно в формализованной иерархии – там иррациональная мотивация превращается в коллективную спячку, к сожалению. Зато это хорошо заметно в командном менеджменте – там климат, настроение, самочувствие каждого члена команды ощущают все остальные. Получается: Иван – не винтик огромной машины, а член команды. Какой? Может быть: воеводы – царя (руководителя), себя (менеджера) и Змея Горыныча или Соловья Разбойника (потребителя и поставщика продукта). И он – связующее звено между организатором ситуации и ее потребителем. Звено между стихией, организующей действо и участниками-зрителями его. Его пассивность – это пассивность надутого паруса. Он кажется неподвижным, но он дает возможность кораблю плыть под ветром. Сам же, принимая на себя удары ветра, остается беспристрастным и молчаливым. Он улыбается, он смеется. Потому что такова его роль: посредника. А что это ему стоит – это «лежание на печи» – он Вам никогда не расскажет. Не нужно.
Креативность
Йохо:
– Русский, чего ты там копаешься?
Русский:
– Йохо, а тебе не надоело канаты плести?
Йохо:
– Надоело, но какое это имеет значение? Кому-то ведь надо плести. Я это умею делать лучше и быстрее всех. Я и плету.
Русский:
– А вот смотри, я придумал штуку, которая сама канаты заплетает, стоит только завести вот эту пружину в виде стального троса!
Йохо:
– И что получится?
Русский:
– Канат сам сплетется!
Йохо:
– Да? Правда? Вот здорово!
Русский:
– Конечно, здорово!
Йохо:
– А сколько ты это делал?
Русский:
– Пустяки, пару месяцев.
Йохо:
– Я в это время все канаты бы сплел.
Русский:
– А если тебя нет? То-то друг!
Русская креативность, воспетая Михаилом Задорновым, имеет в своей основе иррациональную мотивацию. В самом деле, чем что-то делать, лучше придумать, как это не делать!
Но откуда это в нас?
Для ответа на этот вопрос зададимся другим: а откуда мы сами? Ясно, что людей родит не земля, а женщины, люди на землю приходят. В Карелии, говорят, нашли свидетельства очень древней цивилизации. Но в любом случае, это были люди, которые откуда-то пришли. Древние кроманьонцы пришли из Африки, древние арии – из Индии – все шли из тех областей, где можно ходить без одежды в те области, где без нее холодно.
Племена, текущие, словно реки с Востока на запад через Русскую равнину, неизбежно теряли численность своего войска. Это происходило из-за болезни, из-за подлых ударов в спину, из-за любви, наконец. Что дальше происходило с этими людьми-воинами, женщинами и детьми? Они становились частью русской общины! Это происходило, прежде всего, потому, что община остро нуждалась в работниках и в приросте населения. Отсюда, из такого поведения, кстати, и происходит русская терпимость.
Итак, общину наполняли разные люди. Они были из разных мест, вынуждены были остаться и приспособиться к местным условиям. Раньше они жили в местах, где все делалось НЕ ТАК, как это делают ЗДЕСЬ. У этих людей был развит взгляд со стороны на все происходящее в общине, часто они из нее уходили, основывая хутора, так привычные для Русского Севера.
Там, на этих хуторах, они делали все по-своему, не так, как это было принято в общине. Они придумывали разные методы, приемы, которые для них были лучше, понятней. Так что в основе их креативности лежало неприятие чужой культуры быта, а совсем не изощренный ум!
А что же те, которые дошли до Запада – их соплеменники? Отчего же они не проявляли эту самую креативность?
Проявляли. Сеяли, не как римляне или галлы, воевали тоже не так, песни пели другие – и вообще вели себя по-другому. По-другому с кем?
Они же почти все население Римской империи вырезали?
Их креативность была «одноразовая», все они делали всё одинаково. Ну и что, что не так, как это делали до них? По-другому, но одинаково! Но креативность заключается как раз в том, что ты делаешь НЕ КАК ВСЕ.
Расселяясь по огромной территории, русские приходили в новые места, в которых их старые, даже очень креативные приемы не работали – и это был еще один повод для креативности. Навык придумывать новое, чтобы выжить, закрепился. Еще раз повторим – он, этот навык креативности, был вызван не только постоянной сменой условий жизни – в них находились и римские легионы, которые все же строились «черепахой», как их деды, и ничего нового вводить не хотели – он был вызван также и «разношерстостью» общинников, их разным происхождением.
Римляне, кстати, один из самых традиционных и некреативных народов в истории. А почему? Потому что на протяжении более чем 500 лет они вели борьбу на Апеннинском полуострове – в одних и тех же климатических и географических условиях и одним и тем же составом – латинянами. Одна культура, один закон, одни условия – где тут было место для креативности? У русских все было по-другому.
Вот, пришли из-за моря викинги, стали княжить. Что, может быть, стали учить нас, как сеять? Нет, стали учить, как воевать – ведь убыль дружинников надо было пополнять! И русские начали учиться этому ремеслу. А потом стали учиться торговле и строить корабли, когда стали дружить с греками, затем, когда появилась Орда, учились справляться с ее решениями. Со времен Великого переселения на русскую равнину новые люди приходили и оставались на ней. Приходили и новые приемы, новые ремесла. Это был действительно сплав Востока и Запада, только с Запада никто не шел – русские – это и были западные люди: гунны, готы, роксоланы, саксы – только не дошедшие до Запада. А приходили к ним люди Востока, которые на Запад никогда не попали (а если и попали, то их быстро оттуда «турнули», см. поход Батыя) – тюрки, монголы, уйгуры – короче Великая Степь, плюс китайцы, корейцы, японцы, которые совсем не Степь, но оттуда же[10].
Теперь давайте посмотрим, что мы делаем с нашей креативностью в условиях в принципе некреативных – в системе западного бизнеса с отстроенными бизнес-процессами, операционным совершенством, с девизом: «Делай, как я!». Как мы поступаем с креативными людьми на работе? Правильно, мы их выгоняем с нее! Максимум – мы готовы их недолго терпеть! Такая точка зрения на креативность заслана к нам из Запада, а у них она – от Римлян, которые страсть как не любили креативность! Даже богов всех стащили у греков, а систему гаданий – у этрусков, а систему управления – у соседних с Римом народов. Впрочем, нет, с системой управления мы погорячились, она была у них своя: система управления разбойниками и бандитами. Не верите? Но Рим именно так и начинался: в него стекались, созывались посулами и просто крались (вспомним сабинянок!) разный люди из соседних с Римом мест, частично сброд. А сброд не приемлет креативности напрочь! Он на нее реагирует, как Шариков, Шариковым и являясь. И Рим хорошо запомнил этот урок. Он запомнил, как Кориолан, римский герой, не 10 http://www.e-xecutive.ru/community/articles/1438348/
хотел кланяться перед сбродом и вымаливать свою должность, как того требовал римский закон. Он помнил, как Кориолан был изгнан из родного города и в отместку стал военачальником Альба-Лонги, врага Рима тех лет. Он помнит, как Кориолан дошел до Рима и только мольбы его матери спасли город. Рим запомнил: креативность надо уничтожать на корню! Поэтому римские водопроводы прямые – римляне ж убили Архимеда! И теперь надо строить тупо, чтобы вода все время текла вниз!
Компания, изгоняющая креативность, все время течет вниз. Что же нам делать? Совершенно понятно, что нас не надо подгонять, как японцев: «пять предложений в год» – норма! Из нас же предложения сыплются, простите за избитое сравнение, как из рога изобилия! Надо их поощрять!
Если креативность будет поощряться со стороны начальника, то при общей неразвитости управленческих навыков власть креативщиков превратит фирму в кошмар. Совещания будут проходить в «непринужденной обстановке», когда большая часть присутствующих будет спать или лежать в креслах, форма одежды также «деградирует» до очень креативной и т. д.! При этом креативщики совершенно неуправляемы и очень капризны. Это креативность в них «играет»! Поэтому предлагаем поощрять креативность тупо деньгами, причем, если рационализация затрагивает весь бизнес-процесс и несет существенную экономию, креативщик должен получать долю этой экономии на постоянной основе.
И уж, во всяком случае, надо приближать креативщиков к себе, создать из них что-то вроде Внутренного Совета с правом совещательного голоса. Так, кстати, делают и наши «недруги»: у Президента США в советниках сидят люди за их ум, а не вовсе за происхождение! За каждым креативщиком может быть закреплена та или иная задача или даже отдел. Им надо предоставить определенную свободу перемещений и доступ к информации. Все, что им надо (мы их знаем!) – вовсе не деньги, а признание их исключительности. Так предоставьте же им это, и вы никогда не пожалеете!
Еще лучше – построить свою, непохожую на западную, систему управления. Наверное, она должна быть командной – креатив лучше всего работает именно в горизонтальных связях. Надо уходить от вертикали компании, которую мы все так «любим» за ее «эффективность». Надо читать Рикардо Семлера, который до нас создал уже такую компанию. Надо не бояться! Креатив русских людей будет нам поддержкой и опорой.
Вот это и есть русская лень и русская креативность – «два в одном». Бороться с нею трудно – а может, и не надо. А то получим вместо креативного русского процессного китайца, который изобрел порох и бумагу тысячу лет назад и до сих пор об этом вспоминает. А древние инки не знали колеса – и ничего себе – жили!
Упражнения с креативностью
Поскольку креативности у нас – хоть отбавляй, мы не любим простые задачи, мы их усложняем до состояния сложных, и вот тогда нам становится интересно решать их. Нам надо научиться УПРОЩАТЬ задачи. Каждый день, решая задачи, ответьте себе на простой вопрос: каковы ее параметры? Поняв их, решайте задачу способом «1–2–3», ничего не придумывая и не накручивая себе.
Упражнения с ленью
Слово нашим островитянам.
1. Упражнение первое:
Самураич:
– Вставай, Русский! Сегодня мы начинаем бороться с твоей амбивалентностью!
Русский:
– Еще чего!
Самураич:
– Вот и чего! Не можем мы смотреть, как ты кидаешься от одного дела к другому!
Русский:
– Жизнь коротка. Мне хочется все попробовать.
Самураич:
– На работе надо работать!
Русский:
– Кто сказал?
Чак:
– Ну что ты, Русский! Сам же мучаешься от своей… это… как ее…
Русский:
– Ох, ну ты молчал бы, менеджер! Сам-то не больно обязательный.
Чак (гордо):
– Я учусь!
Русский:
– И как вы собираетесь меня переучивать?
Самураич:
– Да просто. Научимся сначала вставать ровно по часам. Вот ты как встаешь на работу?
Русский:
– Ну… Когда как… Ну, в семь там… или в полвосьмого… или вообще в восемь…
Чак:
– Самураич меня гоняет: я встаю ровно в семь четырнадцать!
Русский:
– А что, в семь пятнадцать – уже поздно? Пароход уйдет?
Самураич:
– Вот и ты теперь будешь вставать в семь четырнадцать!
Русский:
– А вот эти (обводит рукой пустые койки)? Они – что, будут дрыхнуть?
Самураич:
– Немцы встают ровно в семь – они так привыкли. Стив – вообще в шесть, он из Техаса, его отец с детства приучит вставать, пока роса не высохла.
Русский:
– У нас она не высыхает до десяти.
Самураич:
– Ну уж так и до десяти!
Русский:
– Хорошо, до половины десятого! А что это ты к моей кровати прилаживаешь?
Самураич (простодушно):
– Ведро с водой.
Русский (догадываясь):
– А зачем?
Самураич:
– Тебя будить в семь четырнадцать!
Глава 6
Управление по-русски: дистанция власти
Как хорошо: ВЛАСТЬ ОТ НАС ДАЛЕКО! Мы поближе к кухне и подальше от власти. Как здорово!
Мы не ходим во власть и не принимаем участия в своей судьбе. Издавна так повелось. Сначала нами правили «русы» – то есть викинги. Потом цари. Известно, у царя Николая II русской доли в крови было меньше одной десятой. Правда! Он был родственником английского короля, сам был на девять десятых немцем, как и большинство наших царей (исключая, разве что, Петра)…
Неудивительно, что нашей власти нет дела до нас!
Но как мы дошли «до жизни такой»?
С тех пор как Стива выбрали менеджером проекта постройки корабля, точнее, с тех пор, как он сам предложил себя в качестве менеджера, между ним и Русским начались непонятные никому игры. Русский не пытался оспаривать верховенство Стива в работе, он даже с удовольствием наблюдал за тем, как Стив раздает задания или контролирует качество работы. Однако казалось, к самому Русскому это не имело никакого отношения!
Он был совершенно равнодушен к похвалам в свой адрес и почти нечувствителен к упрекам. А главное – он ничего не хотел слышать про бизнес и тонкости менеджмента. Казалось, он прекрасно разбирается во всех нюансах любого дела и может обойтись вообще без руководства, что было, конечно, полной чушью, потому что один человек не может знать всего.
Стив организовал «кружки качества», где все по очереди, а в основном, немцы и Йохо передавали другим свой строительный опыт. Русский на этих собраниях принципиально отсутствовал – уходил охотиться или сидел на мысу, где была его палатка.
Нет, он жил вместе со всеми, только с властью не дружил. К Стиву он вообще-то относился хорошо, но отдельно – к Стиву как к человеку, и отдельно – к Стиву как к начальнику. Со Стивом, как с человеком, у него даже установились какие-то особо теплые отношения, не такие, скажем, как с Йохо или с Самураичем, которых он просто считал своими друзьями, не такие, как с Му, который обожал Русского, а партнерско-соревновательно-учтивые. Но стоило солнцу подняться в понедельник утром, как Русский почти физически отодвигался подальше от Стива и уходил в полное молчание.
Стива весьма интересовало такое поведение «Ивана», как он называл Русского. Он даже обсуждал это с теми, кому особенно доверял: с немцами и с неграми. Особенно с неграми. У негров отношение к власти Стива было не пофигистическое, но радостно-игривое. Они прекрасно понимали, что эта власть – условна, как условно было и само их существование на острове. Сегодня ты живой, а завтра тебя нету – так, кажется, говаривал герой В. Шинкарева? Стиву с ними было легко и приятно.
Немцы считали совершенно не как Чак и Зулус. Они выполняли все, что поручал им Стив, видя за Стивом не человека-начальника, а подчиняясь в лице Стива некой высшей силе, которой необходимо подчиняться, просто потому, чтобы дело двигалось вперед. Они были абсолютно уверены в своей правоте и, с другой стороны, абсолютно не трепетали перед Стивом, как перед начальником. Просто выслушивали молча, задавали вопросы и уходили работать.
Стиву с ними было не так легко, как с неграми, но все же просто. Будучи англосаксом по происхождению, он с молоком матери впитал демократическое устройство любого человеческого сообщества и не умом даже, а на генетическом уровне понимал превосходство этой формы правления над всеми остальными. Даже не превосходство, а принципиальное отличие, которое его, Стива, устраивало, равно как и устраивало всех людей, которые хотели и были свободными на этой земле – от древних греков до современных ирландцев.
Демократию Стив понимал совершенно не как мы, которые видят в демократии всего лишь выборность и идею личной свободы. Стив понимал, что в обществе свободы нет и быть не может. Но только демократия давала Стиву то, что не могла дать ни одна другая форма правления – право взять на себя ответственность за что-то, делать это, управляясь только своими силами, и отвечать перед сообществом за результаты – разумеется, персонально. Такая форма правления обеспечивала Стиву, во-первых, самоидентификацию, то есть самоуважение, во-вторых, у него был шанс завоевать уважение сообщества – своими действиями. И это уважение было бы адресовано персонально ему, Стиву, а не коллективу вообще! То есть слава, попросту говоря, в демократии достигалась «на раз» – было бы рвение!
Поэтому Стив понимал, что немцы уважают не его (хотя, конечно, они его уважали), а его пост, который давал ему возможность в будущем завоевать настоящее уважение – если бы он справился с задачей.
Японец Стиву не подчинялся. Его можно было только просить что-то сделать. Он даже объяснил свое поведение – тем, что уже принес клятву верности главе клана и другой клятвы принести не может.
Для Му, который Стива не любил (прежде всего, потому, что идея демократии и идея Поднебесной находятся на двух разных полюсах), безропотно ему подчинялся, правда, с оговоркой – если рядом не было Русского. Если Русский был – он смотрел на него и ждал его одобрения.
Миша никакую власть принципиально не признавал, над Стивом подсмеивался. Стиву он не нравился, но Миша придумывал такие выходы из таких ситуаций, что Стив его, без сомнения, уважал.
Если Миша в упор не видел Стива, то Русский все же понимал, что Стив – начальник. Но отношения с этим начальником никак не складывались.
Йохо вообще было все равно, кто поручает работу. Он ее доделывал до конца, невзирая на более срочные дела или на попытки ее отменить, и брался за новое дело. Поскольку он все делал качественно, Стив научился приспосабливаться под него: рассчитывал, когда Йохо закончит очередную работу – и поручал ему следующую, раньше всех остальных.
Ситуация разрешилась сама собой, несколько неожиданно. Стив заболел. Поскольку Русского в лагере побаивались, он обладал большим авторитетом, или, если хотите, весом – то решено было до выздоровления Стива сделать его начальником строительства корабля. Это было сделано прежде всего потому, что иначе бы все перессорились и перестали бы вообще работать, а так можно было быть уверенным, что с Русским работа будет идти вперед.
С первых же дней Русский показал всем, что чудеса на свете бывают. От него ждали указаний – он их не давал. Вместо этого он говорил: сам реши, как сделать – и человек уходил, думая и чеша репу от натуги. Если же у человека не получалось, он спрашивал у того, кто знает, или показывал сам, как надо. Но только человек вновь обретал уверенность – Русский тотчас же отходил, не мешал.
Вместо кружков качества и контроля со своей стороны он ввел Взаимную отчетность. Каждый в конце дня рассказывал, что он сделал, а в начале дня – что хотел сделать. Нельзя сказать, что людям это не нравилось! Однако все было так необычно!
Почувствовать себя нужным, незаменимым при такой системе не получалось. Славы здесь было не добиться – все работали по своему разумению, а не под началом. Эффективность работы, правда, сильно упала, а все потому, что не было координации, каждый занимался, чем считал нужным, усердно – но совершенно в отрыве от остальных. Иногда дело, сделанное одним, переделывалось другим, который тоже хотел его сделать.
Получалась не стройка, а какая-то игра. Но все были довольны! Обычная усталость ушла с лиц, и даже Йохо заулыбался. По вечерам находились силы играть в волейбол и в футбол, люди стали планировать свою работу, что-то рисовать на песке – в общем, отношение поменялось. Когда Стив выздоровел, ему стоило большого труда вернуть все в старое русло. Действительно – зачем поварам стучать молотком? У них лучше получается кашеварить!
Но роль Русского с тех пор поменялась. Он стал на один день в неделю сменным руководителем, а Стив – простым работником. Стиву это нравилось – он любил, как все американцы, работать руками, и ребята за один день вольной работы намотивировались на целую неделю обычной плановой пахоты.
«Менеджер на день» – так иногда называли Русского. Он же, когда работал начальником, умудрялся еще что-то делать несложное – помогать кому-то, часто Стиву, и было непонятно: кто начальник, где он – только сосредоточенные лица людей, скрип пил и стук молотков.
Поскольку на Руси власть всегда была очень далеко от большинства людей, то у русских сложилась стихийно проектная структура управления и своеобразное отношение к власти, как к некоторой мешающей силе, которая может испортить все дело, если к ней правильно не подступиться (не подольститься). К медведю – с рогатиной, к бабе – с подарком, а к власти – с поклоном. Поклонился – и пошел опять делать свое дело.
Однако когда «власть» компании сидит себе в соседнем кабинете, старые схемы уже не работают, а новых – нет. Что делать? «Власть» же, видя склоняющихся перед ней в поклонах, неправильно понимает это. Думает, что кланяются именно ей – ее уму, ее таланту, ее хватке. А кланялись на самом деле затем, чтобы убралась поскорее и не мешала работать. Проектная структура, что тут скажешь!
Со временем «власть» стала малоадекватной, в силу того, что живет в далеком, а потому – иллюзорном мире. Это можно наблюдать в подавляющем большинстве компаний. «Власть» стала требовать себе привилегий, зарплат, автомобилей и командообразующих тренингов с бассейном и ужином (и номерами на двоих, а то какой же это тренинг!).
Все это подкреплялось совершенно «Римским» (хотелось написать: «идиотским», в данном случае это одно и то же) основанием, а именно тем, что так поступают на Западе. На Западе! Там, где мир изначально был маленьким, где люди жили скученно, в городах и при построении мануфактуры их надо было собрать, научить и приглядывать за ними постоянно, как бы чего не уперли – вот эту, совершенно чуждую нам систему приводят в пример отношения к власти в компаниях.
Да у нас совершенно другая история! Если у них основа управления – исполнительность, у нас – инициативность. В городе, где существует избыток рабочей силы, важно правильно ею воспользоваться, поставить каждого на свое место. У нас, на наших просторах, где рабочей силы хронически не хватает, главным становится не расстановка кадров, а то, как сделать так, чтобы один трудился за двоих, за семерых… А там хоть и помереть – и Бог с тобой! – сделанная работа уедет по назначению, попадет к такому же активисту-энтузиасту, как и работник. И он поступит с нею так же.
В такое мировоззрение отлично вписывается и наша креативность, тем более что начальства близко нет, и никто это не заохает.
Дистанция власти тесно связана с проблемой человеческих ресурсов, которые в настоящее время занимают первое место по дефицитности. И кризис это не отменял. А кто этим занимается? Кадры должны быть оценены как важнейший ресурс компании, и не на словах, а на деле. Под них должны быть подстроены бизнес-процессы. Система вовлечения и удержания работника должна быть именно системой, а не фантазиями на тему «мотивации». Да и название архаично – устремленные в будущее компании говорят: «Управление талантами!»
Приведем пример. Вот деньги компании: они сосчитаны, взвешены, оценены. Они поступают на счета, ими занимается финансовый отдел и генеральный либо целая управленческая команда, распределяя их, под них пишутся программы и т. п. Где такое же отношение к человеческому ресурсу? Директор по персоналу принимает работника, исходя из личного представления, кого можно считать своим или чужим, чуть ли не по разрезу глаз. Сотрудника увольняют без его ведома, опечатывая его кабинет, закрывая его почту, а потом рассуждают про «планирование карьеры». Все это – элементы западной системы управления, не русские «штучки»!
Еще пример. Оборудование компании: его ремонтируют, обновляют, модернизируют. За ним гоняются, его выписывают из Европы или Японии, его настраивают и поверяют специалисты и т. д. и т. п. Почему же человеческий ресурс можно «купить» на рынке – и дело с концом? Давайте признаем, что, работая по западной системе, мы НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСОМ на уровне бизнес-процессов компании ВООБЩЕ!
Как вам управлять компанией – не наше дело. Наше – психология рабочего процесса. Все, что мы видим – это огромная дистанция власти в наших компаниях. Она не нужна, она всем вредит.
Для того чтобы ее преодолеть, необходимо объединить образ начальника и образ человека в единый образ. В той же Древней Греции или Риме консулы или сенаторы отличались от остальных только своей пурпурной тогой. Ну, человек как человек! Ни тебе величия во взгляде, ни надменной походки, как у восточных шейхов. Он понимал, что только его ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА приведут его к переизбранию на второй срок, только его энергия обеспечит ему успех. ОН делал пост, а не ПОСТ делал его!
Как сделать так, чтобы подчиненный увидел в начальнике, прежде всего, человека, с которым его объединяют общие стены и общие интересы (хорошо бы так!)? Рецептов нет. Единственным способом могло бы стать делегирование полномочий или сменяемость управления.
Руководитель, по Ицхаку Адизесу (одного из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса), вообще не должен руководить коллективом, лишь сплачивать его. А управлять могут и специалисты, им виднее. И это – проще, чем сплачивать.
Руководитель на Руси был в Центре, и к нему ходили и ездили на поклон. Значит нам, чтобы изжить такое положение вещей, необходимо сделать так, чтобы руководитель был везде. У него и без того много дел, чтобы бегать по цехам и отделам, только похоже, это единственно верная политика дальновидного руководителя. Не ждите, что ваши подчиненные примут вас в своих отделах с распростертыми объятиями! Нет, они сначала просто испугаются такого вашего поведения! Но раз за разом, месяц за месяцем вы будете приучать их к тому, что вы – везде, что у вас есть время для каждого.
У наших руководителей можно обнаружить и такое свойство: они считают, что все организовав и поручив управление отделами дивизионным руководителям, они выполнили главную цель своего существования в компании и теперь их не должно интересовать реальное положение дел в этих отделах и сами люди там. Когда они появляются в среде своих подчиненных, которые кидаются к ним с просьбами и жалобами, они отмахиваются от них, как от мух, говоря: «У вас есть свой начальник».
Для кого они это говорят? Подчиненным нужно не это! Им нужно, чтобы их вопрос был бы решен. Не бойтесь показаться «царем-батюшкой», это не самый худший образ начальника, подкрепленный генетической памятью! Гораздо хуже равнодушие и мертвые иноземные схемы, в которых если и была когда-то жизнь – то не для нас.
В общем, изобретайте! Отправьтесь с подчиненными покататься на лыжах. Не назначайте «счастливчиков», а предложите это всем сотрудникам компании! Не только директорам отделов. Сделайте электронную рассылку! IT-отдел в вашем распоряжении, секретариат! Можно горы свернуть, чтобы донести до всех ту или иную вашу идею. Дистанция власти может быть сокращена до нуля. Но только вы можете это сделать. Больше просто некому.
Послесловие: задумайтесь над следующими словами:
• планирование карьеры работника;
• процедура увольнения работника;
• процедура адаптации работника;
• создание кадрового резерва;
• корпоративные цвета, корпоративная одежда и корпоративная этика;
• личный пример.
Упражнения на дистанцию власти
Упражнение 1. Для сотрудников: напишите ПЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ качеств своего начальника и повесьте над своим рабочим столом.
Упражнение для руководителей: напишите ПЯТЬ качеств, по которым КАЖДЫЙ ваш сотрудник превосходит вас.
Упражнение 2. Создавайте команды. Делегируйте полномочия. Объединяйте. Не контролируя и не руководя. Вы скоро увидите результаты. Неужели же не получится у вас, если получилось в Бразилии[11]?
11 Семлер Р. Маверик. История успеха самой необычной компании в мире. М., Глава 7
Управление по-русски: краткосрочность прогноза
2007.
Стив:
– На этом графике, который я нарисовал на песке, мы видим, что подойдем к критической точке проекта в конце ноября. Для того чтобы ее успешно пройти, мы должны к этому времени заготовить 28 бревен и распилить из них 22. Если бы у меня был компьютер, я бы в MS Project показал бы вам, какую вариабельность имеет критическая точка в конце ноября.
Русский:
– Я что-то не понял!
Стив:
– Что, Русский?
Русский:
– Зачем так далеко заглядывать? Сейчас июль! А если мы выберемся отсюда раньше ноября?
Стив:
– Что ты предлагаешь?
Русский:
– Знаешь, как альпинисты берут стену? Альпинист делает три шага, потом еще три – и так до конца. Если он не сосредоточится на трех шагах, а будет смотреть наверх, у него голова закружится и он упадет.
Стив:
– А ты знаешь, сколько он планирует восхождение, прежде чем сделать эти «три шага»?
Русский:
– Но планируют одни, а идут другие!
Стив:
– Русский, идут те же, которые планируют! Больше некому! Это и есть демократия!
Русский:
– Хотел бы я на это посмотреть!
Весь мир меняется. С появлением глобальной Сети получать информацию стало проще, быстрее, доступнее, и ее стало больше. И все ускоряется. Разработки, которые раньше занимали годы, сейчас происходят за месяцы, а завтра будут – за недели.
Прогнозы не сбываются. Планирование открытий в области микрочастиц, высоких технологий и микроэлектроники невозможно. Но в повседневной жизни ведь мы заняты не этим? Мы варим сталь, или печем печенье, или учим детей. Отчего бы нам не планировать?
На Западе компании планируют свою деятельность на десятилетия вперед. У нас только очень крупные фирмы отваживаются заглянуть за грань десятилетия. Обычно прогнозы составляются на год, три года, пять лет вперед. Никто не задумывается, какой будет компания через пятьдесят лет, никто не планирует в ней работать даже через двадцать! Каждый считает, что он достоин лучшей доли, даже если он работает в «Газпроме»!
Давайте с вами задумаемся, откуда взялась краткосрочность прогноза, а иногда и полное отсутствие такового у русских людей? Вообще наши предки занимались планированием, ведь надо было сеять, собирать урожай, торговать, вырубать леса под посевы. Прогноз делался! Но как?
Стоунхендж был построен (в том числе) для определения точного времени, когда надо было начинать полевые работы. Цивилизация майя рассчитала длительность солнечного, лунного и венерианского (!) года так точно, что для этого, по мнению ученых, необходимо было время для астрономических наблюдений, равное 80 тысячам лет! Или же майя пользовались приборами и знаниями, о которых нам ничего не известно. В Каире обнаружена карта, на которой изображена земная поверхность, как она выглядит с расстояния в одну тысячу километров (со спутника, что ли, снимали?).








