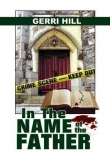Текст книги "Гномон"
Автор книги: Ник Харкуэй
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Некоторое время все работает, как оркестр на «Титанике». Магазины выставляют свои запасы минеральной воды в картонных подносах, и люди их раскупают. Я пытаюсь купить весь запас, чтобы раздать другим, но менеджер мне не разрешает. «Если я все раздам, – говорит он, – люди подумают, что остальное тоже бесплатно, и явятся парни из плохих районов». Пожалуй, мне слегка стыдно за то, во что я вляпался, но откуда мне было знать. В очередях к оптовикам, где можно купить большие бутыли для офисных кулеров, люди приветствуют друг друга с вежливостью жертв нашествия инопланетян и ждут вестей о том, что все их сбережения пошли на дно вместе с каким-нибудь банком или, наоборот, им повезло приземлиться на крепкий камень посреди потока. Я мог бы им рассказать. Но молчу.
Я понимаю, что оказался здесь в силу привычки. Мне не нужно ничего такого делать. Нужно разобраться со своим новым миром, временно переселиться, но я в ловушке, наблюдаю со стороны за собой и своей страной. Я слишком увлечен зрелищем, чтобы занять пустующий трон. И вряд ли я когда-нибудь вернусь сюда и пойму что-нибудь, если вознесусь сейчас. Это последние мои часы в рядах обычного человечества. Они бесценны.
И удивительны. Приближается миг бунта, день хаоса. Мы все чувствуем, что беспорядки ждут где-то там, за холмами. Будто прогноз погоды: сегодня – ясно с обширными банкротствами, вечером – дождь; завтра – надвигается зона высокого давления, обильные дерьмопады, а на выходных – уличные беспорядки и горящие машины.
В разговорах со знакомыми из финансового сектора я вру, что тоже обеспокоен. Говорю, что нестабильность касается всех, сверху донизу, но на самом деле, когда туман развеется – если только мир не скатится в каменный век, а если и скатится, до некоторой степени тоже, – я окажусь даже богаче, чем был в начале катастрофы. У меня больше не будет работы в банке, но это меня не обеспокоит, потому что к тому моменту я стану сам владеть банками. Может, я куплю банк, на который сейчас работаю.
По очереди обмениваясь с товарищами дружеским ворчаньем, я вижу на их лицах тревогу. Они пришли сюда не для того, чтобы завести новых друзей или купить воды. Они изучают противника.
Вернувшись домой, я пакую чемодан.
Я все время жду, что придется сбрасывать звонки Мегалоса, мне даже запоздало стыдно за то, что ему и его святому ордену придется пожить в апостольской простоте и бедности, но он не пытается со мной связаться. Наверное, бросился на борьбу с кризисом, или его сместили, а новый босс ордена бл. Августина и св. Спиридона – настоящий христианин, набожный старик, только рад возможности повести свою паству обратно на божьи поля и трудиться во славу Господа. Настоящий бум начнется в секторе благотворительности. Почти всем к югу от Милана она потребуется, и всем к востоку от Цюриха. Любопытно, что Исландия справилась неплохо. Одно точно можно сказать об исландцах: они быстро учатся.
В международных новостях: Красный Крест призвал создать сеть продовольственных банков, а левая коалиция во Франции требует национализировать энергокомпании и всю транспортную инфраструктуру. Это очень плохая мысль с точки зрения сообщества финансистов и того, как они будут впредь относиться к Франции, но довольно хорошая с позиции спасения такого количества французов, сколько удастся спасти до конца зимы. Может, чокнутые коммунисты просто чуть раньше остальных поняли, насколько все будет плохо. Конечно, некоторые мои бывшие коллеги резко высказываются по этому поводу. Они еще не осознали, какой уровень отчаяния вызовет катастрофа, и твердят о том, как с гордостью выйти из затруднительного положения. Они скоро выйдут из дома, а на улице будут ждать люди, которые разожгут костер из их «Мазерати» и зажарят на нем их подстриженных собачек, чтобы потом съесть.
Наверное, я полечу на Багамы. Список стран, которых слабо коснется катастрофа, не велик, и почти ни в одной из них нет хорошей кухни и доброго вина. Куда длиннее список стран, куда в обычных обстоятельствах совсем не стоило ехать, но кризис их не коснется, или они его просто не заметят в череде прочих кошмаров. Я не собираюсь обращаться за видом на жительство в Норвегию, и я не хочу лететь в Афганистан, Колумбию или Западную Сахару.
Впрочем, я слегка одурел в квартире. И слишком долго не спал – это меня подводит, поэтому принимаю плохие решения. Нужно прочистить голову. Раздумывая, какой остров лучше, я отправляюсь на ежедневную пробежку. У меня есть личный тренер, Грант, и он из той породы американцев, которые живут по принципу «умри, но сделай». Он, наверное, просыпается утром, делает сотню отжиманий, выпивает огуречный шейк с морской травой и дозой бычьей спермы, а затем отправляется на короткий марафон. И кури в сторонке, Фидиппид, – для него это разминка. Он каждый год участвует в соревновании под названием «Ледвилл Трейл» и проходит маршрут до конца, что, судя по всему, удается немногим, а если постарается, приходит к финишу в первой тридцатке. Наверное, если я поеду на Багамы, нужно взять его с собой. Это, конечно, как брать с собой власяницу и вериги, но что поделать – нужно – значит нужно.
Грант задал мне домашнюю работу. Каждый день, когда мы с ним не встречаемся, я должен пробегать определенное расстояние. Если я не буду этого делать, не смогу выдержать его нагрузки, а они серьезные. И каждый день надо фиксировать время. Понятия не имею, с чего я взял, что это хорошая мысль, или сколько мне стоит эта мука, боль и тошнота, знаю только, что представитель моей страховой компании утверждает: это добавит мне десяток лет жизни и снимет несколько тысяч со страховых премий по моим договорам. Ладно. Должен признать, что я и вправду чувствую себя лучше, чем несколько месяцев тому назад.
Я бегу. Бегу полчаса, поворачивая куда придется, без особого маршрута. Выбираю трудные, крутые улицы, красивые улицы и те, что приведут обратно домой, а на тридцать пятой минуте слышу жужжание пчел.
Когда-то в детстве, еще в Фессалониках, я совершил ошибку и оказался слишком близко к рою. Пчелы меня не заметили, и я завороженно на них смотрел, а потом вдруг они меня заметили, и рой стал единой массой, которая поднялась, зарычала, потянулась ко мне руками и зубами, и я побежал. На этот раз, услышав гул, я сразу бегу, и, разумеется, одет для бега, так что укладываюсь в отличное время для парня, который, наверное, не слишком годится для той жизни, которую заповедал мне Грант.
Я слышу, что гул у меня за спиной усиливается, а потом слышу его и сбоку; думаю, что, наверное, чья-то пасека на крыше загорелась, потому что пчелы в ярости, и чую запах дыма, но это их явно не успокаивает. Как пахнет горящий мед? Улей горит как свеча, там же столько воска?
На перекрестке я вижу рой, но это не пчелы, а разгневанные люди: много, очень много людей. Не просто сзади и сбоку, а со всех сторон. Они собираются в этом маленьком пригороде Афин, где дома слишком красивые и дорогие. И я думаю: «Мать-перемать!» Потому что это случилось.
Если бы они знали то, что знаю я, разорвали бы меня на части и съели.
* * *
Я стою посреди улицы и будто снова на дайвинге. Всё точно так же. Я просто ничего не могу сделать и никуда убежать. Если толпа меня убьет, я труп, но я чувствую пустоту на запястье, где привык носить часы, и понимаю, что все было предвидено, предрешено. Богиня со мной. Моя богиня, от которой я не могу избавиться. Акула.
Толпа приближается, и я жду мгновения, когда стану жертвой. Я должен стать ее жертвой – наверное, заслужил это больше прочих. Может, остальные тысяча четыреста девяносто девять парней и больше, но я точно заслужил.
Однако, захлестнув, человеческий прибой меня проглатывает и даже обнимает. Какой-то мужчина предлагает пиво, женщина дает тряпку и приказывает намочить и повязать на лицо. Юноша у нее за спиной передает мне картонную коробку размером с пару теннисных шаров. «Лыжные очки! – кричит он. – Из маркета! Слава революции, брат!»
Ага.
А ведь я замаскировался.
Не слишком хорошо, но потому маскировка и сработала. Я бежал, так что весь покрыт потом и пылью. Мой спортивный костюм недорогой: штаны, кроссовки, старая футболка. Я – жирный, потный мужик в дешевой одежде и без часов. Я – один из них, может, даже менее удачливый, чем остальные.
Я иду с толпой.
Мне никогда не приходило в голову, что уличные беспорядки – своего рода община, но так и есть. Это спонтанная, самоорганизованная сущность с вполне определенными и очевидными границами, но отзывчивая и добрая. В середине много женщин, которые вышли поддержать сыновей и мужей. Не то чтобы они ничего не бросали и не ломали, но присматривают за своими мужчинами и разрешают споры, кому достанется та или иная часть награбленного. Там, где мужчины подрались бы, женщины поднимают крик, торгуются, толкаются, и каким-то образом возникает согласие, признаются долги, конфликт разрешается и толпа не обращается против самой себя. Но когда нас встречает полиция, матери превращаются в фурий. Одна седая старуха вырывается в первые ряды, вытягивает руки, царапает ногтями, срывает лексановое забрало с ближайшего, вырывает ему кусок кожи на щеке, так что ее приходится оттащить, прежде чем его товарищи ее схватят. Она вопит что-то о кровожадных ублюдках, ублюдках, ублюдках.
– Ее сын умер в полиции, – объясняет другая женщина.
– Они его убили?
– Он был наркоманом. Собственной блевотиной захлебнулся. Это было в… ох, не помню. До «Сладкой жизни»[10]10
«Сладкая жизнь» (греч. «Ντόλτσε Βίτα») – греческий комедийный сериал, который шел в эфире «Mega Channel» в 1995–1997 гг.
[Закрыть] еще.
Она пожимает плечами.
Ярость кипела три десятилетия и выплеснулась сегодня.
Полицейские идут в атаку. Толпа ее отбивает. Все происходящее обладает каким-то гипнотическим эффектом: пять футов назад, десять, потом назад. Уже двадцать назад. А теперь – десять, десять вперед. Люди падают на землю; кровь, крики. Поднимаются и опускаются резиновые дубинки. А потом перестают.
Прибыла тяжелая пехота – строители в красных тужурках со своими доспехами – мотоциклетными шлемами и прочными рукавицами. У одного из них в руках пневматический гвоздезабиватель, а за спиной висит баллон. Риторическая пауза.
И начали.
Чой-чонк! Чой-чой-чой-чой-чой-ЧОНК!
На полицейских вырастают железные шипы. Толпа идет в наступление. Крики: «Мы – спартанцы! Сдохните, свиньи! Защитники политиков, банкиров и иммигрантов!» Люди в толпе не во всем согласны друг с другом, но они точно знают, кого не любят. Полицейский кордон разламывается, и толпа идет дальше. Никому не интересно задержаться и помучить полицаев. Препятствие преодолели, дальше. Рядом кто-то на радостях поджигает машину. Это «Бентли». Я знаю человека, которому она принадлежит, австрийца, претендующего на какой-то наследный титул, но не добившегося признания в судах родины. Пламя серо-оранжевое, с перламутрово-серебряным отливом, что говорит о вредной химии. Это новая фаза – фаза поджогов. Толпа обновляется. Она омывает меня, несет в своем потоке. Что делать? По краям пылают бензиновые костры.
Через двадцать минут Афины в огне.
* * *
После происшествия с гвоздезабивателем прибывает полицейский отряд особого назначения, а с ними – военные. Можно было бы ждать, что тем дело и кончится, но их появление только подлило масла в огонь. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Толпа огрызается в ответ. Образуются промежуточные пункты, открываются новые фронты. Часы текут, словно в лихорадке; тысячи маленьких битв кипят на сотне перекрестков. Толпа разбухает, рыщет, беснуется, поджигает. Иногда она будто хочет уничтожить дома богачей и перевернуть машины. Иногда просто смотрит. А потом вдруг движется на площадь Омония, а оттуда – в бедные кварталы, бурля от ненависти. «Наркоманы! Иммигранты! Бомжи! Педики, шлюхи, леваки, воры! Валите отсюда! Валите в свою Россию! Валите обратно в Эфиопию и Египет! Тут нормальные люди! Без вас заживем!» Как это произошло? Как мы вообще так быстро попали сюда и нас никто не остановил? Это что там, полицейские ботинки? А впереди – военная стрижка? Ну, конечно. Даже у полицаев есть чувства, верно? И политические взгляды. Это день протеста, или, говоря более традиционно, День Хаоса. Кто был ничем, тот сегодня стал всем и упился этим в хлам. Когда в городе царствует толпа, каждому достается кусочек.
Я ни к чему не прикасаюсь. Я ничего не бросаю и не краду, никого не бью. Меня несет поток внутри звериного тела. Все мне улыбаются и радостно приветствуют. Я – брат, свой, потому что я с ними и не возражаю.
Меня тошнит.
Мы рыщем, громим, поджигаем. Мы бьем. Внешние конечности делают всю грязную работу, но тело зверя – это балласт, убежище, поддержка. Даже просто как часть потока я до некоторой степени виновен. Я не взываю к разуму и терпимости, потому что мне страшно. А потом меня каким-то образом выплевывает в маленькую группу уставших людей, которые идут домой, будто с работы, и все очень вежливы. Мы смену отработали, до встречи завтра, побьем еще окна.
Мой маленький отряд разделяется на перекрестке. Я не рискую идти прямо домой: ни один честный революционер не возвращается в квартиру в Глифаде. Сижу на крыльце и смотрю, как они скрываются вдалеке, а потом сам не замечаю, как погружаюсь в сон, уперев голову в каменную стену.
Я просыпаюсь от холода, – все тело затекло. Понятия не имею, который сейчас час, но уже темно.
На улицах стало чище, в том смысле, что основная мощь разрушения переместилась в другое место. Никто не пытается восстанавливать порядок. Я иду по своей улице в дыму горящих высококлассных автомобилей и слушаю треск, с которым ломается мир. Мой дом не горит, хоть и горел. Разумеется, тут побывали пожарные, и они не экономили воду. Драгоценную воду, которой будет не хватать завтра. Толпа слила в канализацию Афин то, чего требовала. Ведь проще было бы, если бы пожарники просто разлили эту воду по бутылкам и раздали? Но, наверное, «Perrier» и «Evian» сумели заблокировать этот ход на государственном уровне. Может, об этом мы и говорим, или мои коллеги в банке нашли последнее утешение в том, чтобы пополнить свои маленькие (очень маленькие) пенсионные фонды. Потому что они стопроцентно не будут на меня работать, когда я куплю этот банк. Большинство из них и сейчас не должны там работать, потому что ни черта не умеют и не понимают. Но, увы, слишком мало людей разбираются в том, что делают, поэтому контроль качества просто никакой.
Мне в общем-то плевать, что дом подожгли, а потом залили водой. Там ничего особенно важного не было. Старый я. Прежний и чуждый. Не новый я. Я – Константин Кириакос. Что бы я ни потерял, куплю вдвое больше. Вдесятеро. В тысячу раз больше. Я все могу купить.
Поскольку меня никто не останавливает, я вхожу внутрь. Лестница покрыта скользкой жижей из сажи и воды.
* * *
Я снова начинаю собирать чемодан, а потом понимаю, что это не нужно. Вещи собирал бы прежний я. Мне нужны только важные вещи, те, что существуют лишь в одном месте. Я наклоняюсь, чтобы забрать семейную фотографию с прикроватного столика, и слышу, как открывается входная дверь. Голос говорит:
– Эй, Константин Кириакос!
Я поворачиваюсь – это девушка.
Высокая, стройная. У нее очень белая кожа, черные волосы и очень темные глаза. Она смотрит не отрываясь. Эти глаза впитывают меня, будто я сделан из воды, а она – пустыня. Она очень красива. Ничего удивительного, что я уставился на нее после того, как она вошла в мою квартиру в черном костюме и произнесла мое имя. Это секс, просто секс, и тот факт, что, когда я ее видел в последний раз, мне привиделось, что у нее акульи зубы. Я так и не узнал, как ее зовут, и не разговаривал с ней хотя бы минуту, иначе запомнил бы.
Тут нечего запоминать. Это иллюзия, обман зрения.
Мать. Ладно. Она похожа на Стеллу.
Стелла умерла от рака, нелепо. Она пришла к врачу и сказала: «У меня болит голова». А тот посмотрел ей в глаза, спросил про проблемы с равновесием и вспышки по краям поля зрения, а она ответила, что да, такое иногда бывает, и он ее направил на рентген. Тем же вечером она оказалась в больнице, ей сказали, что у нее рак, и она позвонила мне. Но прежде чем я успел доехать, у нее случился удар, она умерла – и всё. А я ее любил, тоскую по ней и всегда буду тосковать.
Это не Стелла, потому что Стелла умерла.
Эта женщина похожа на нее, но она на десять лет старше Стеллы, когда та умерла. Столько ей было бы теперь. Она стройнее, спортивнее. Это развившаяся Стелла, повзрос-девшая, изменившаяся, но все же та самая. Будто сестра – родная или двоюродная. Или незнакомка, но поразительно похожая. Они могли бы столкнуться на улице, рассмеяться и подружиться.
Моя Стелла.
– Привет! – говорю я.
Нужно ведь что-то сказать, когда твоя мертвая бывшая девушка входит в твою квартиру сразу после того, как ты отправил под откос экономику.
Я не хочу спрашивать, что она делает в моей квартире. Вдруг я ее сам пригласил? Она не здоровается в ответ, так что между нами повисает молчание. Что ж, храбрость, приди мне на помощь.
– Я уезжаю из Глифады, потому что вся страна скоро пойдет ко дну, а я стал богаче почти всех остальных людей в мире, но понятия не имею, что с этим делать и нравится ли это мне. Важно, что я направляюсь в аэропорт, где сяду на самолет – или куплю самолет, если у них есть готовый к вылету, – и улечу в какое-нибудь шикарное место. Не хочешь полететь со мной, чтобы валяться голышом на пляже и много, грязно заниматься сексом?
Она громко смеется, и этот смех неласковый, но я его внезапно узнаю и понимаю, что ошибся. Она смотрела на меня не потому, что обожает. Эмоция на ее лице не мягкая. Глаза широко распахнуты, потому что она хочет увидеть мои мучения или… чего она хочет? Владеть мной, как владеют мясной коровой. Она дрожит, потому что ненавидит меня. На каком-то фундаментальном уровне, который она даже не полностью осознает, Не-Стелла думает, что я – самое уродливое создание, которое она видела в жизни, худший человек в мире. Она ненавидит меня и хочет причинить мне боль – это очень личное. А потом кто-то толкает меня в спину, и я неуклюже выпадаю из спальни, а когда падаю и тянусь к ней за помощью, она делает шаг в сторону и надевает мне на голову мешок, а к мешку снаружи прикладывает подушечку с каким-то препаратом, пахнущим как соло на тромбоне и разорванная волынка. И я вижу круг теней, словно вход в очень противный ночной клуб.
– Иерофант, – говорит снаружи мешка девушка, похожая на Стеллу. – Ты принесешь нам богиню. Хватит Греции разрываться на части!
«Вот отстой».
Я погружаюсь в черную воду. Там темно, тихо, но я не один – никогда больше не один.
Неэффективная стратегия
Инспектор приходит в себя и чувствует запах антисептика и больничных простыней. Ей неудобно и хочется пить. Она понимает, что надо утолить жажду, но коварный сон захватывает ее врасплох ровно в ту же секунду. Рука сжимается, но не отрывается от подушки. Подходит медсестра, проверяет показатели жизнедеятельности и удовлетворенно кивает. Нейт пытается заговорить, но во рту у нее пересохло, язык распух.
На пластиковой полочке у кровати, кроме стакана с водой и какого-то терпкого леденца, оказавшего успокоительное действие, находятся и ее очки. Она щелкает один раз, чтобы разбудить их, затем еще дважды, чтобы включить аудиорежим, и чувствует, как крошечный наушник выдвигается, чтобы легонько коснуться кожи внутри ее уха. Это специальная модель для офицеров Свидетеля, используемая в ряде критических ситуаций, в том числе тех, когда разговаривать нежелательно. Нейт нужно только сформировать слова так, как она произнесла бы их, и специальная программа считает текст по микродвижениям ее горла и губ.
«Невозможно, – слова толком не получаются, но это и не важно, ей просто нужно сказать: „Кириакосу не место в голове Дианы Хантер“. – Как?»
Машина начинает говорить в ее голове, используя голос, выбранный в настройках: нейтральный мужской тенор, очень тихий и настолько невыразительный, что звучит бесстрастно и пусто – как машина, а не страстный любовник, который шепчет на ухо романтические глупости. Нейт вспоминает, что когда-то читала о ранних экспериментах с аудиоинтерфейсами: немецкий производитель перебирал разные голоса для навигатора, чтобы угодить клиентам. Бодрым менеджерам из Рейнского бассейна не понравилось, когда машина обращалась к ним голосом старшего мужчины. Тогда компания попробовала ласковый женский голос, но он угодил водителям еще меньше. Будто с ними нянька носится. Сладострастный тон прочли как издевку, профессиональный – как назойливость. В конце концов стало понятно, что важен не тон, а человечность голоса. Машина должна была однозначно и недвусмысленно звучать «машинно».
– Нарративная блокада. Вам не следует сейчас работать.
– Я пришла в себя. Я хочу работать. Что такое нарративная блокада?
– Неэффективная стратегия сопротивления прямому нейродопросу.
– Проясни.
Мерцание. Свидетель оценивает ее физическое состояние по ряду таблиц и схем.
– Вы быстро устанете и забудете. У вас легкое сотрясение мозга. Аналитическую работу лучше отложить.
Это не прямой отказ, но разумное предложение. Есть более насущное дело, которое может пострадать от задержки.
– Поиск, последние изображения. Полный файл.
Снимок Лённрота, который она сделала в доме Дианы Хантер.
– Ничего не найдено.
– Что?
– Качество изображения недостаточно высокое для анализа.
У нее перед глазами возникает обычная человеческая голова, покрытая точками и полосками.
– Система опознавания использует сетку трехмерных контуров.
В воздухе возникает фотография, лицо Лённрота. Оно легонько дрожит и превращается в черно-белый узор, похожий на пятна Роршаха.
– В данном случае уникальный источник изображения содержит мало трехмерных деталей. Проблема в низкой освещенности и очень сильной бледности кожи объекта. Для решения нужны дополнительные изображения.
– Проверь местность вокруг дома – до и после моего прихода. Окно – семьдесят два часа.
– Ничего не найдено. Камеры в этом квартале часто портятся. Дети.
– Хулиганство.
– Вариант игры в баскетбол. Возможно, Диана Хантер поощряла такое поведение.
– Можешь экстраполировать? Худое лицо, андрогинное, хорошо за тридцать.
– Да.
Возникает карта страны, покрытая сигнальными значками.
– Найдено приблизительно семь миллионов совпадений.
– Перекрестные ссылки, имя: Регно Лённрот.
– Ничего не найдено.
Она вздыхает:
– Сохрани запрос и уточняй его в процессе. Дай мне значение и контекст.
– Лённрот (Lönnrot), общие и предварительные результаты: буквальное значение «красный клен». Государственный герб Канады, символизирует практичность и обновление. В некоторых регионах Юго-Восточной Азии связывается с любовью и романтическими отношениями. Наиболее известный человек с такой фамилией: Элиас Лённрот, финский врач и фольклорист, собиратель и составитель эпоса «Калевала», структура и содержание которого, предположительно, повлияли на успехи Финляндии в области современного цифрового дизайна. Так же Эрик Лённрот, выдуманный детектив, которому противостоит неожиданный противник. Регно (Regno) – необычное использование. По-итальянски – существительное, означающее «царство». На латыни – глагол в настоящем времени первого лица, значит «править, управлять». Слово не используется в качестве имени, поэтому грамматический мужской род не обязательно указывает на гендер носителя. Возможно, прозвище, титул или звание. В последнем случае это может быть религиозный или церемониальный сан, указывающий на высокое положение в иерархии, хотя некоторые христианские и другие религиозные ордена обычно связывают высшие посты с идеей подчиненности и служения. Таким образом, «регно» может означать уровень послушника или иницианта.
– То есть, проще говоря, «понятия не имею». Перекрестные ссылки: Диана Хантер.
– Не найдено связей с: Хантер, Диана.
– Перекрестные ссылки: Огненные судьи. Историческую часть опустить.
– Не найдено связей. Огонь, пожар – могут в некоторых случаях обозначать нечто срочное или чрезвычайную ситуацию. Часто связывается с идеей очищения и разрушения, но также (в случае птицы феникс) с идеей возрождения. Таким образом, «Огненные судьи» могут выступать как провозвестники нового начала или кризиса.
– Или просто «отличные, замечательные». Судьи – огонь.
– Такая интерпретация тоже возможна, – соглашается Свидетель. Отсутствие интонации придает его заявлению ироничный оттенок.
– А группа такая есть? Музыканты? Проверь все заведения на набережной Темзы.
– Я проверил. Такой группы нет.
Нейт всегда тревожит это «я» – не потому, что оно указывает на пробуждение компьютерной личности, а потому, что не указывает. В китайской комнате никого нет. Нет бога в машине, лишь очень сложная картотека. И машина не должна делать вид, что обладает сознанием.
Вскоре Нейт понимает, что перестала задавать вопросы, и засыпает. Внутренний полицейский требует продолжать расследование, но телу удобно, оно устало. Машина была права: сотрясение мозга – утомительная штука. Она укладывает голову на мягкую подушку; наволочка приятно грубая, с пола доносится запах обеззараживающего средства.
* * *
– Звонок Табмену.
– Вам по-прежнему рекомендуется отдых.
– Я встану и начну делать упражнения по аэробике.
– Это не рекомендовано.
– Звонок Табмену.
– Соединяю…
Она фыркает и ждет, пока Табмен снимет трубку. На это уходит больше времени, чем у большинства других людей. Частично потому, что Табмен выключает свой терминал, когда работает, и частично потому, что он, как человек с паяльником и горелкой, терпеть не может спешку.
– Алё?
– Табмен? Мне нужен твой мозг. Сможешь?
Нейт могла бы обратиться к Свидетелю, и тот изменил бы график Табмена. Как и у самой Нейт, рабочее время Табмена принадлежит Системе, а если бы и не принадлежало, у этого дела высокий уровень приоритета. Табмен не возражал бы, если бы она просто отредактировала расписание в календаре и отняла столько его времени, сколько считает нужным, но именно поэтому Нейт чувствует, что важно спросить разрешения.
– Всегда готов поиграть Уотсона для своего любимого детектива, – отвечает он. – Ты же знаешь.
– Ты не занят?
Табмен громко фыркает.
– Господи боже, Мьеликки, не неси чепуху! Буду рад помочь. Но, – добавляет он, когда Нейт готова опять рассыпаться в извинениях, – не пытайся по этому поводу кокетничать. Ненавижу кокетство.
Ей приходится пообещать немедленно приехать; они оба знали, что так и будет. В следующую секунду на терминале открывается боковая панель, и Нейт видит, как расписание Табмена очищается до полудня. Каждая отмена сопровождается тихим звуком, вроде вежливой отрыжки. Вместо разноцветных заданий – доставка, техподдержка, еженедельный сеанс управления, даже такой нужный ему перерыв в одиннадцать часов – Свидетель растягивает одну серебристую полоску с ее именем. Табмен косится в сторону, явно видит то же самое и морщится.
– Я принесу кофе, – говорит Нейт и видит, как он некоторое время пытается подобрать слова, чтобы запретить ей делать это самой. – Из кафе на углу, – добавляет она.
– Спасибо большое, – соглашается Табмен.
Голова раскалывается, и она позволяет себе минутку беззвучной слабости. Ой, ой, ой.
– Вы быстро устанете, – говорит машина. – С точки зрения состояния здоровья, вам лучше провести в больнице еще хотя бы один день.
– Это важное дело.
Свидетель не отвечает, но через некоторое время приходит медсестра и сообщает, что инспектора ждет машина.
* * *
– Ма-атерь божья! – искренне ахает Табмен, когда видит Нейт. – Я слышал, но масштабов себе не представлял.
Не глядя, он толкает к ней кресло. Оно катится по полу рабочей комнаты и останавливается рядом с Нейт. Она могла бы сразу сесть, но демонстративно катит кресло обратно и вручает Табмену кофе, а потом смахивает пыль, прежде чем опуститься на черное пластиковое сиденье.
Табмен – техник, и он не настолько квалифицирован по бумагам, чтобы объяснить, как работает допросная установка, но у него есть дар ясности мысли, который не раз оказывался для нее незаменимым, особенно в деле, где объект был так травмирован произошедшим, что запись его сознания оказалась непригодной. Таких ремонтников прежде называли «гайкокрутами», а теперь – «отражателями»: из-за характерной рабочей робы. Он – человек, который будет лазать в люки и шахты, чтобы чинить технику, по мнению начальства, стоящую выше его понимания, но на данном уровне знающий ее лучше и ближе, чем начальство. Сам Табмен не так уж много времени проводит в вентиляционных трубах, но частенько становится на колени и копается во внутренностях неимоверно дорогих консолей, чтобы найти отошедший провод, заменить погрызенную мышами проводку и покритиковать неправильно проведенное нейрохирургическое вмешательство с долгим опытом человека, которому потом придется всё это чинить. В широкой перспективе его работа связана с падающей мощностью сложного оборудования, которое плохо себя ведет. В полном соответствии с традицией IT-самоучек, у него нет кучи дипломов, но он вносит свой вклад в окончательные показания профессиональных техников и врачей.
– Ну, рассказывай, – говорит Табмен. – Что ты мне принесла?
– Нарративную блокаду.
Табмен морщится:
– Это плохо заканчивается.
– Почему?
– Ну, процесс занимает больше времени. И пациенту неприятно. Но ничего, по сути, не меняется; машина справится и так и эдак. Пройдет всю линию до конца и нащупает нитку, ведущую к реальной жизни, только подбери ее. Задержка на час, и пациенту приходится напрягаться. Ну и говорят, что прибраться потом – нереально трудно, полный хаос. Но это, по идее, не мое поле – серое вещество. Я же по силикону мастер.
От этих слов Нейт просто отмахивается:
– А как насчет непреднамеренного воспроизведения имплантированных воспоминаний?
– Чего?
– Я была без сознания. И просмотрела здоровенный кусок за это время.
– Ага, понял. Да, так бывает с большими файлами. Тут волноваться особо не надо. Птенчик чуть досрочно вылупляется, только и всего.
Нейт представляет себе эту картинку и решительно выбрасывает ее из головы.
Табмен пожимает плечами:
– Не бойся: вряд ли это снова произойдет. Пришли мне запись, если хочешь, я посмотрю. Тут как с запорным клапаном и давлением. Только давление не настоящее, конечно. Они ведь, по идее, должны прокручиваться, верно? А если ты о них не думаешь, выцветают, как любые другие воспоминания, так что и тебе, и им надо промотаться быстрее. Срочно. Так что… вот с тобой, в частности, такое может случиться.
– Почему именно со мной?
– Тебе ведь все надо сейчас и срочно, да?
Нейт возмущенно смотрит на него, но Табмена взглядом не смутить.
– Ладно, – говорит инспектор. – Если бы у тебя спросили, кто у нас лучший спец?