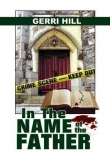Текст книги "Гномон"
Автор книги: Ник Харкуэй
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Вот что создала моя маленькая внучка. Компания именуется «Огненные судьи»: они начертили линии в воздухе и сотворили из них реальность.
Теперь я понял, почему Майкл смеялся, когда я спросил, научит ли меня Энни компьютерному делу. Мне теперь даже немного стыдно за то, что я ее об этом попросил, что вообразил, будто это подходящее применение ее времени и сил. Да, попроси Астатке научить тебя играть «Собачий вальс». Или Эйнштейна – сменить пробки.
Что ж, вот и мой первый урок: современность, которую я пытаюсь понять, почти никак не связана с компьютерами. Точнее, компьютеры – это кости, но кровь и плоть – воображение, амбиции и возможности. Эти дети просто отказываются признавать, что мир в том виде, в каком существует, обладает устойчивой важностью, имеет над нами какую-то власть. Если что-то не так или плохо, нужно исправить, а не терпеть и приспосабливаться. Мое поколение обращалось к философии, искало ценность в страдании, а они обратились к науке и технологии, вправду пытаются сделать что-то для того нищего на улице, для той женщины в инвалидной каталке. Они взялись за дело. Неправда, что им не хватает духовности или глубины. Они просто приберегают их для истинно чудесных вещей, а для всего остального изготавливают инструменты.
Мы добрались до дальней части здания, вошли на территорию, принадлежавшую «Огненным Судьям», и Энни открыла передо мной большие двустворчатые двери.
– Итак, – сказала она, – думаю, вы все гадаете, зачем я собрала вас здесь сегодня.
Ямочки. Внучки с ямочками на щеках. Вот чего надо опасаться в этой жизни.
* * *
Мы шли по залу с очень высоким потолком, между рядами фотографий – цветных и черно-белых. И не только в смысле монохромности: черные и белые люди, снятые на разную пленку. Более того, кроме бесконечной редукции двойственности, здесь оказались представлены все возможные виды и вариации кожи. Настоящая пленка – рядом с каждым щитом спиралями висели негативы – текстура и тон кожи были переданы с разной степенью достоверности и атмосферности. На одной фотографии высокий парень, по виду родом с Гаити, выглядел болезненным и злобным. На другой – казался исполненным тайной жизни. Рядом с ним стояла бледная женщина с французским флагом на плече, представительница ООН, раскрасневшаяся и дерганая на втором снимке, зато исполненная скромной надежды на первом. И по всем рядам – одно и то же: пары, иногда серии снимков разных людей, и всегда на одних лучше смотрелся один тип кожи, а другой казался жутковатым и неестественным. Потом точно так же были показаны улицы, размытые и мягкие, суровые и холодные, теплые и гостеприимные. И так до бесконечности, все черно-белые, немного разные, но на всех снимках – одна и та же сцена в одно и то же время. Разные страны, разные здания. Разные миры.
Я спросил у Энни, что это. Она указала на ближайшую фотографию:
– Обычная целлулоидная пленка была оптимизирована под отображение кожи выходцев из северо-западной Европы. Ее химический состав не предназначался для «цветных», поэтому мы на ней выглядим плохо: либо засвеченные и потные, либо темные и неразборчивые. Помнишь Сидни Пуатье в фильме «Душной южной ночью»? Нет, я понимаю, там по задумке должно быть жарко. Но с него же пот ручьем течет – на него весь свет направили, потому что пленка не видит его кожу. До начала двухтысячных для цветового баланса при обработке по-прежнему ставили белокожих моделей. Цифровые камеры вроде бы всё изменили, но я хотела бы знать насколько. Вдруг там по-прежнему есть предвзятость – в дизайне микропроцессоров или базовых настройках графического ПО.
– И она есть?
Она покачала в воздухе ладонью:
– Возможно. Достоверность цифровой фотографии просто невероятна, к тому же есть доступ к необработанному снимку, так что частично она исчезла. Дисплеи и проекторы – другая история, и фотобумага, и чернила для принтеров. В общем, я тут немножко покопалась и случайно выяснила, что восемь процентов белых мужчин – дальтоники, против всего четырех процентов африканцев и примерно одного процента иннуитов и родственных популяций. Впрочем, меня слегка смущает такое широкое обобщение, учитывая этническое разнообразие во всех популяциях; подозреваю, что это исследование очень предварительное. Речь не только о расе, но и об отношении данного белого мужчины к физическому восприятию цвета.
– А что у женщин?
Она одобрительно посмотрела на меня:
– Да! Именно. Небольшая часть женского населения – тетрахроматы. У них в глазах есть дополнительный рецептор, который теоретически позволяет им видеть цвета, не доступные остальным, но, из-за того, что тетрахроматов мало, в нашем языке нет слов для обозначения этих цветов, даже представления о них. Так что они существуют лишь в чувстве и восприятии, – вздохнула она. – Я не такая. Хотела бы я быть тетрахроматом, а ты? Видеть более широкий спектр, другое измерение?
Я задумался. Нет. Если бы я видел другой набор цветов, пришлось бы пересматривать все, что я пишу. Странная мысль – ведь за последние двадцать лет я не написал ни одной картины.
Энни снова указала на фотографии:
– Я все перевернула с ног на голову. Вернулась к целлулоиду, хотела сделать пленку, которая предназначалась бы для черных. И получилось. Думаю, мы будем ее использовать для создания персонажей в этом проекте, может, даже для зданий. Черный – в порядке вещей, белый будет выглядеть неуместно. Одна из фишек игры. Маленькая правда, спрятанная в ней: люди, которых в этой стране обычно называют меньшинствами, вообще-то составляют большинство на планете, так что их видение, пожалуй, можно считать нормативным.
Я знаю многих людей, которым этого уже хватило бы для выставки – тогда, в прошлом. Если добавить пусть посредственный талант фотографа, даже сейчас этого хватило бы, чтобы сделать себе имя. А для нее это лишь декорации, элемент большей работы. Кстати:
– А что за проект?
– Увидишь, – ухмыльнулась она.
Я последовал за Энни по коридору из фотографий, на которых различные оттенки и градации не белой кожи были переданы с абсолютной ясностью, а странная неполнота того, что американцы именуют европеоидной кожей, показана чисто – впервые за всю мою жизнь. В центре лабиринта обнаружился кружок из диванов и кофейный столик. Я увидел, что нас ждет мой любимый пирог, и понял: сейчас мне попробуют что-то впарить.
* * *
– Ты знал, – спросила Энни, когда я положил в рот второй кусочек, – что правительство недавно испытывало электронные браслеты трезвости для тех, кому решением суда предписано воздерживаться от употребления алкоголя? Они проверяют пот носителя раз в полчаса. Представь себе общество, построенное на такой логике мягкого наблюдения. И попробуй ее развить.
Я не знал, поэтому лишь покачал головой. Энни пожала плечами:
– Я тоже. Об этом не кричат на всех углах. Предпочитают говорить о вещах, которые избирателей не пугают. Но это не такой большой шаг отсюда к сетевому подключению QS-браслетов[20]20
QS-браслеты – электронные устройства для «Quantified Self» ([количественное] измерение себя, исчисляемое Я). Движение, основанное в 2007 году Гарри Вульфом и Кевином Келли, предполагает ведение электронной записи о потребляемой пище, качестве окружающей среды, настроении, состоянии кожи, пульсе, артериальном давлении, физической и умственной активности. Создатель описал суть движения как «самопознание через сбор данных о себе с помощью технологий».
[Закрыть]… – Я вообще себе не представлял, что это такое. – …Государство скажет тебе: «Эй! Хочешь курить? Пожалуйста! Но ставка твоего налога для отчислений в фонд здравоохранения растет, потому что это риск для здоровья». Или нечто в том же духе. В общем, – продолжила она, – следующий вопрос: ты знал, что есть фирма, которая занимается частными тюрьмами и работает над системой домашнего ареста, которая позволит судьям устанавливать постоянное наблюдение за арестованным? Называется СТОПП – система телеметрического оперативного предупреждения и предотвращения. Устройство имплантируется в седалищную мышцу, и, если ты делаешь нечто, что не нравится надзирателю, оно может тебя вырубить и вызвать полицию. Безупречно. Любое помещение может стать тюрьмой.
Нет, этого я тоже не знал.
– На самом деле это ответвление чудесной медицинской технологии – автоматического дозатора, способного ввести нужный препарат в критической ситуации, – противоядие для людей в странах с ядовитой флорой и фауной, например. Но малопривлекательное в коммерческом смысле, и разработчики продали лицензию ребятам из тюремной фирмы, потому что силовикам это очень нравится. Неудивительно, правда? Представляешь, можно выключить драку или бунт в тюрьме прямо с телефона.
Энни делает вид, будто выключает меня одним движением пальца по сенсорному дисплею.
– В воздухе носятся десятки подобных идей. И вся соль в том, что сами по себе они не злые и выглядят зловеще, только если их рассматривать со строго определенной точки зрения. Представь, что вместо тюрьмы можно помочь кому-то в ресоциализации, вернуть в нормальную среду, при этом защитить окружающих от срывов. Эрготерапия, импульсное управление, включенность в процесс, коллектив. По многим данным, это оптимальная среда для перевоспитания – нужен положительный контекст, в котором человек сможет расти над собой, место, где тебя будут уважать, а это куда легче для окружающих, если они точно знают, что ты не представляешь для них угрозы. Уровень рецидивизма можно сократить вдвое. Всего одно но: эй, ребята, вы вживляете в живых людей управляющую электронику. Почему тогда не всадить провод в нужную часть мозга и не стимулировать нужный отклик прямо там, где мы хотим его получить? Повторная адаптация, условные рефлексы по Павлову – только в медицинских целях, разумеется. Может, еще для насильников и прочих. Это ведь все для защиты общества, правда? Разумеется, этим дело не ограничится, рано или поздно мы получим столько людей с вживленными микросхемами, что они будут составлять значительную часть населения. А это совсем не круто. Но лучше, чем отправлять их в места заключения, чтоб они там делали пепельницы. Это намного хуже. Или нет?
Энни вздохнула. Я уже и сам запутался. То есть интуиция мне подсказывала однозначное решение, но я не склонен доверять интуиции, рожденной при слабом гормональном фоне и на основании печального опыта. А моя внучка продолжала ровным и беспристрастным тоном:
– О таких вещах нужно думать сейчас, прежде чем мы их создадим, иначе в какой-то момент увидим, как они происходят вокруг. Если это плохая штука, а деньги уже вложены и власть на них поставила, намного труднее откатить назад. К примеру: мы сейчас работаем над системой распределенного голосования. Было бы здорово, если бы у нас постоянно шел референдум по всем вопросам, правда? А что, если мы создадим среду, в которой можно узнать волю большого числа людей в любое время и по любому вопросу? Ведь это настоящая демократия. Что, если ты каждый вечер будешь голосовать по нескольким вопросам и так на самом деле управлять страной? И мы ее создали. Теперь у нас есть система, которая может это делать. Это сложнее, чем ты думаешь: распределенная система голосования в реальном времени. Сложно с инфраструктурой. Нужно получить голос и запись голосования так, чтобы было нельзя его проследить обратно к конкретному индивиду, потому что иначе начнутся проблемы. Тайна голосования – одна из основ демократического процесса, чтобы ты всегда мог голосовать так, как хочешь, без внешнего вмешательства и давления. С другой стороны, нужно сделать так, чтобы эту систему нельзя было просто заспамить. Мы же не хотим, чтобы кто-то сел на свой телефон и задницей проголосовал за то, чтобы вдвое сократить расходы на образование, например. Чаще всего люди думают, что самое сложное – обеспечить безопасность голосования. Думают о подлогах и обмане. Жутко то, что сейчас у нас почти нет никакой системы безопасности в системах опросов общественного мнения. У тебя ведь не требуют паспорт перед кабинкой, верно? И все отлично работает. Ждешь обмана, но его почти нет. Может, когда-нибудь и будет, тут ведь как: доверяй, но проверяй. Не стоит сразу закладывать в систему уязвимости. И как причина отказаться от проекта – это просто ерунда. В общем… у нас есть эта система. Она существует. И вдруг мы подумали: «Постой-ка. О чем мы говорим? Что же мы сотворили? Самую демократичную систему в мире построили или просто свели закон и правительство до уровня телешоу „В Британии есть таланты“?» И еще: «Что, если кто-то сможет обойти наши настройки безопасности? Сколько будут стоить такие данные и как их можно использовать?» Чтобы выудить дополнительную стоимость из массовых опросов, нужно знать, кто за что проголосовал, и многим это не страшно, потому что только слабым нужна возможность спрятаться. Потом у нас случилась мутная история с одной секретной конторой, попытавшейся нас купить целиком и на корню. Как только мы выложили в общий доступ демо-ролики, они явились рано утром и предложили кучу денег. Мы всем позвонили, известили акционеров, выставили вопрос на голосование, и они сказали – нет. Точнее, сказали «черта с два», чем очень меня порадовали. Иначе история могла принять весьма мрачный оборот. И тогда я задумалась: что, если таким образом выстроить всю страну? С этими устройствами, системами, возможностями. Просто решить, что приватность, тайна личной жизни – не так важно на этом уровне; в Штатах многие примерно так и думают сейчас, у них там сильное антиэтатистское движение. Вот и получается нечто вроде супергосударства в частной собственности, но их это не беспокоит, ведь это не ненавистное правительство. Но именно об этом я и задумалась: а что, если будет правительство? Какой тогда станет страна? Вообще что-нибудь получится? Для большинства людей почти все время будет отлично. Но в этой системе заложена возможность превратиться в чудовище. И неизбежно возникнут… полупрозрачные зоны, где все может покатиться в очень плохом направлении. Превратиться в кошмар… Отсюда мы и начали. Что, если выстроить весь мир таким образом?
Вот так все и было, сказала Энни. Эта идея взорвалась у нее в голове, и теперь она видит, понимает, как все должно работать: игровая среда – неотразимая, новая, странная, которая в то же время донесет до общественности ряд новых идей и технологий, которые уже существуют, так что люди задумаются о них – в практическом и моральном смысле. Ну и надерут кому-нибудь задницу, потому что это всегда весело.
– В этой среде больше нет приватности, нет частной жизни. Любое действие видит Система, она может в любой момент к тебе обратиться и потребовать отчета. Посреди идеального мира, где власть и вправду принадлежит народу, а правительства как такового почти нет, возникнет тонкий налет ужаса – допросные машины, получившие одобрение большинства; алгоритмы, которые видят все, что ты делаешь, и хотят знать, почему ты это сделал, анализируют твои действия с точки зрения страховых рисков и самого тебя рассматривают как элемент поведенческой экономики. Система присваивает твоей жизни числа и вероятности, знает, что ты сделаешь, что можешь сделать, даже то, что ты сделаешь «только в крайнем случае», прежде чем ты об этом задумаешься. Предположим, у тебя есть латентная склонность к бунту, вызванная несчастным детством. Однажды ты делаешь что-то, в чем можно усмотреть едва ли намек на бунт, – и в тот же миг тебя забирают и исправляют, прежде чем ты созреешь для настоящего нарушения. А в центре этого лабиринта – чудовище.
– Какое чудовище? – спросил я.
Она ухмыльнулась, и я понял, что этого вопроса она от меня и ждала. Это был крючок, проглотив который я буду играть до тех пор, пока все не выясню. От вопроса она отмахнулась, мол, потом, и посмотрела на часы.
– Давай я тебе кое-что быстренько покажу. Это не наша, а одна из больших игр, которые уже вышли на рынок.
Она повернулась к одному из огромных экранов – белых, геометрически-правильных – и щелкнула по нему, начала с ним возиться. Потом усадила меня в кресло, так что экран – чистый, как лед на поверхности озера, – заполнил все поле зрения: я увидел крошечного гомункула, стоявшего на широкой красной равнине. Похоже на Аризону или (хоть я там никогда не был) на австралийский буш. Вокруг него бурлила толпа сказочных созданий, но Энни быстро вывела человечка из толчеи, повела вверх по склону холма, так что вскоре он оказался один на вершине и стоял, глядя на запад. Она усадила его на землю, а сама подвинула свое кресло ко мне, и мы вместе смотрели на закат в этом странном месте под названием Пустоши. Небо глубокое и сочное, вдали синеют горы, на юге раскинулся пышный оазис. Мимо пролетели птицы, а потом летучие мыши; солнце скрылось, уступив место ночи, а когда чуть позже взошла луна и начался дождь, я осознал, что мы молча смотрим уже около получаса. Колсон принес свежий чай, и Энни выключила машину.
– Красиво, – сказал я. Раньше мне и в голову не приходило, что компьютерные игры могут быть красивыми, точнее, что кому-то есть дело до их красоты. Я помялся и добавил: – Ты мне… расскажешь больше о своей игре?
– Проект «Гномон», – вклинился Колсон.
– Он всему хочет присвоить тайное наименование, – закатила глаза Энни. – На случай, если кто-то похитит наши планы и – даже не знаю – украдет название, а остальное бросит? Пиратский ребрендинг?
– Систему безопасности нужно выстраивать с первой минуты, – без тени смущения парировал Колсон. – Когда поймешь, что этим следовало заняться, будет уже поздно. Плюс: мне нравится это название, оно ни на что не похоже и обращает на себя внимание.
– «При свидетеле», – твердо сказала Энни. – Наш проект называется «При свидетеле». У него огромная поддержка. Инвесторы в восторге. Движок будет потрясающий. Но у меня есть проблема, – добавила она и бросила на меня взгляд. – Игра должна выглядеть совершенно непохожей ни на одну прежнюю. Нечто, чего еще никто никогда не видел. Мне нужен настоящий талант, который бы взялся за дизайн. Человек с неожиданным взглядом, которому я могу доверять, и при этом настоящий художник. В идеале – художник с именем, чтобы стоило объявить о нем, и сразу начались обсуждения, пересуды. Это облегчит мне работу.
Боже, подумал я, вот это задача. Нужно быть идиотом, чтобы за такое взяться, и гением, чтобы справиться. Но какой вызов. Какое веселье!
Ей нужна рекомендация. И я стал перебирать в голове людей, которые смогли бы сделать нечто подобное. Тут нужно думать об архитектуре и обществе, истории и ее кровавых тупиках. В идеале – человек, который своими глазами видел такую историю, а не только читал о ней. Плевое дело – склепать типичный фашистский манеж для этой игры, и выглядеть будет неплохо, но быстро протухнет. Не передаст и малой толики того, о чем Энни говорила. Игра должна быть органичной, чтобы каждый ее визуальный аспект отбрасывал глубокую тень главной темы; изображение должно течь, меняться в такт с тем, что происходит в сюжете, согласно теме и тональности. Нужно все себе представить в любое время дня, при любой погоде, и в каждом образе – нездешнее ощущение: жесткие, нечеловеческие грани и неуместные пропорции; бескомпромиссная антиархитектура. В центре города стоит одно здание, в котором есть то, что мне нужно: белая бетонная громадина, острые углы и плоские площадки, с которых во время дождя ветер иногда сдувал потоки воды на пешеходов внизу. Внезапный холодный душ, если тебе не повезло оказаться в этом месте в неудачное время. Владельцам пришлось выбить разрешение и установить пластиковый навес по всей длине строения, так что теперь весь тротуар под зданием оказался в полутьме в любое время года, а летом там царила удушающая жара. Да. Вот так, и больше, намного больше. Чтобы родилась душа.
Тяжелая, неподъемная работа: у какого художника есть столько времени, кто согласится отложить в сторону все, что он сейчас делает? Тот, кто бросил работу, по определению нам не подходит, но тот, кто работает, наверняка не захочет браться. Тут нужен художник старый, талантливый, почти отошедший от дел. Кто-то вроде меня, но…
Она улыбалась.
Никакого «но». Вот что она хочет мне впарить. Не «кто-то вроде меня», а я.
– Я же ничего не знаю о компьютерах.
– Тебе и не нужно. Ты творишь. Мы строим. Но ты сам будешь выбирать образцы! Я торжественно клянусь, – сказала она, подняв правую руку, – что к концу этой работы ты в совершенстве овладеешь магией электронной почты, Google-поиска и YouTube. Заговоришь на языке Adobe. А остальное потом, шаг за шагом. Страх уходит, потому что ты делаешь дело. Делать и значит учиться. И папа будет в восторге.
– А насколько велик этот твой мир?
– Среда? Примерно размером с Лондон в разрешении примерно таком же, как видит человеческий глаз.
Целый город. Просто невозможно.
– Это же займет… десятилетия.
Она не сможет мне нанять тысячу помощников. Даже со всеми своими чудесными инвесторами. Но Энни уже качала головой:
– У нас есть специальный аддуктивно-итеративный алгоритм. В теории он может взять эстетику с одного-единственного рисунка и сгенерировать целый город. Хотя я хотела бы больше одного. Просто… слушай, давай я покажу.
Она вытащила из-под стола маленький переносной компьютер и открыла крышку. Я сразу увидел дверь.
– Пройди в нее, – приказала Энни.
– Как?
– Прикоснись к ней.
Я так и сделал. Дверь открылась, и я увидел комнату. Она провела пальцем по экрану, и картинка сдвинулась, будто я повернул голову.
– Геймплей будет работать иначе. Это для нашего удобства. Давай осмотрись.
Я поводил пальцем из стороны в сторону. Другие двери, за ними – другие комнаты, все в уродливых современных бежевых тонах, которые агенты по недвижимости почему-то считают «нейтральными», но для меня в них напрочь отсутствует человеческое чувство и присутствует рекламный фотограф. Столы, стулья, разбросанные личные вещи. Виды из окон. Всё одинаковое. Я посмотрел на Энни.
– Движок фрактальный, – сказала она. – Чем дальше идешь, тем больше он создаст. В начале была ровно одна комната. Теперь их десять. Но выглядит скучно, потому что алгоритму не с чем работать.
– И он может… угадать… мой замысел по одному наброску?
– Нет. На самом деле не может. Он просто слушается. Это сложный, но в конечном итоге совершенно бесплодный алгоритм. Если согласишься, тебе нужно будет написать небольшой набор картин, а потом немного походить по тому, что он из них напродуцирует. Выбрать хороший результат и отсеять то, что не согласуется с твоим видением. А он будет все больше подстраиваться под тебя.
Я задумался: неужели, если я проведу с этой машиной достаточно много времени, она сумеет дистиллировать, вывести из меня саму сущность моей работы так, как я никогда не умел сам? И если сумеет, что это? Идеальный инструмент художника или возмутительное вторжение технологии в мою человеческую душу? Что я почувствую, если все сработает, и машинная версия моей работы окажется лучше моей собственной?
– Почему ты думаешь, что я с этим справлюсь?
– Я видела твои картины прошлых лет, и знаю, кто ты теперь. Ты – мой дедушка, но ты к тому же Берихун Бекеле. Ты написал «Землю в огне». Ты написал «Льва в космосе». – Она осеклась, вдруг встревожилась. – Ты сможешь? Ты еще можешь рисовать? Ты не выгорел?
Очень личный вопрос от коллеги-профессионала. Очень наглый – от внучки. Хороший вопрос.
– Нет, – ответил я. – Только выцвел.
* * *
Колсон предложил отвезти меня домой на самоуправляемой машине, но в конце концов я вызвал такси, потому что мне нужно было собраться с мыслями и остыть. В игре по семейному примирению Энни ловко ответила на мою ставку и удвоила ее – манипуляция в моем стиле, но и в стиле Майкла. Я не хотел ограничиваться помощью дедушки или извинениями отца, так что нужно было по меньшей мере все обдумать, даже если первым моим порывом стало бежать сломя голову от странного и неподъемного предприятия. По дороге, правда, думать не было никакой возможности, поскольку дорога выдалась тряская и нервная. Все водители вокруг то ли напились, то ли свихнулись, да и рывки моего такси лишь на волос казались более адекватными. Не доехав до дому, я вышел в Ислингтоне. Купив в художественной лавке альбом и карандаши, вошел в небольшое кафе с полуэтажной галереей вдоль всего зала и люстрой из муранского стекла.
Свое искусство я терял постепенно, начиная с той осени, когда переехал в Лондон. День за днем, месяц за месяцем уходило то, что давало мне способность рисовать. В прежние годы мое воображение пополнялось – и часто казалось, что оно переполнено – странными картинами: ужасными пейзажами, инопланетными богами и сценами секса. Все они питались реальными впечатлениями, так что ребенок с собакой становились могучим космическим кораблем в системе двойной звезды, а потом эти звезды представали глазами всеохватного государства. Я видел в жизни иллюзию и писал ее в своем пятичастном стиле. А теперь все тонуло в серой мгле.
Я ждал, сначала нетерпеливо, затем со спокойствием, какого прежде не знал; спокойствием, проявившимся в последних моих работах. Тогда я познакомился с матерью Майкла, и она одобрила эту монашескую спячку. Владелец галереи, который выставлял мои картины, был… не в восторге, но до времени принял междуцарствие и его оправданность.
Некоторое время так все и шло. Я обрел некую простоту. Делал наброски углем в записных книжках. Впервые за долгое время рисовал то, что видел перед собой, и даже задумывался, что, если это своего рода апокатастасис: новое первозданное начало. Меня прославляли как космополитичного человека, эфиопа, который пишет промышленный северо-запад. Во мне видели постпримитивистский ответ Уорхолу, неомодернистского ирреалиста, воплощающего на холсте политическую ярость. Я об этом узнал, потому что так писали в журналах. Но более прочего – для публики, звезд и музыкантов, с которыми тогда общался, я был человеком, который вышел на контакт с инопланетянами; а теперь они вдруг перестали прилетать, и, может быть, я смогу стать просто художником. Даже если из-за этого меня перестанут приглашать в высшее общество… и такую катастрофу можно пережить.
Я рисовал церкви Хоксмура, Олд-Бейли и Трафальгарскую площадь. Это убаюкивало, и я позволил себя убаюкать, ощутил довольство, а затем, удовлетворенный, остановился, потому что я не исследовал какой-то пейзаж внутри себя, а просто сводил его на нет. Стремление рисовать исчезло. Да и зачем? У меня были деньги, не слишком много, но достаточно. Я мог завести собственное дело, жить в довольстве. Если мне не хочется больше писать картины, зачем это делать?
Однажды, во вторник вечером, между шестью и семью часами, я почувствовал, как последняя частица художника во мне обратилась в прах. Мое искусство высохло, и его унес ветер, поднятый лондонским такси. Я не был несчастлив. Я вообще почти ничем не был, и это меня устраивало.
Вот и ответ: в том, чтобы прекратить рисовать, моего решения не было. Я просто перестал это делать, таким же таинственным образом, каким в детстве начал. Я не потерял навык, но желание писать ушло, когда я покинул Аддис-Абебу. Вместе с ним ушел и стиль, который делал мои работы интересными для других, да и для меня самого. И вот в кафе «Чай и печенье мамаши Мэдден», прокручивая заказ Энни в голове, я ожидал, что внутренний разговор, который она пробудила во мне, затихнет. Я взглянул на люстру, открыл альбом, взял в руки серый карандаш и ожидал, что ничего не случится.
Через час я сделал перерыв в рисовании и отложил карандаш, чтобы заказать кусок пирога и дать отдых спине. Еще через час я вернулся в художественную лавку и купил пять холстов, набор масляных красок и поехал домой, заверив таксиста, что заплачу два счетчика, если он не будет шарахаться из стороны в сторону, а медленно проедет через бурное море стальных корпусов.
Я работал семь дней без передышки. Если бы сейчас была жива мать Майкла, она бросила бы меня снова, и на этот раз – вполне заслуженно. Я работал так, как может работать лишь человек, у которого нет ни жены, ни детей. При этом впервые за многие годы мне показалось, будто я чувствую ее руку у себя на плече, когда на миг останавливаюсь, чтобы налить воды или смешать краски. Я даже всплакнул, как бывает со стариками. С возрастом смерть накапливается. Сперва она забирает корифеев и друзей из поколения «чуть старше меня», которые, казалось, должны жить вечно. Затем прибирает незнакомцев, былых возлюбленных и старых врагов. Наконец берется за твою семью, пока не остается буквально костяк, в котором каждый из нас пытается остаться последним – или предпоследним, чтобы кто-то другой умер в полном одиночестве. Элени ушла из мира первой из всех, кого я любил. Все началось с того, что она просто ушла. Примерно через две недели после третьего дня рождения Майкла – это было в середине 1979-го – она приготовила мне чудесный завтрак. Потом села напротив, сложила руки на груди и сказала, что должна уйти. Она понимает, так несправедливо, но должна. Это единственный честный выход.
Я вскрикнул, будто подстреленный, а затем вдруг стал совершенно спокоен. Если это честный выход, значит, должен быть и нечестный. Она завела любовника? Нет, ответила она, еще нет. Все было очень чинно, но она лгала своему сердцу и Богу, должна идти на зов, даже если для этого придется нарушить писаный закон.
Я вцепился в гипотезу, чтобы не принимать реальность. Вообразил, что, если я пойму ее новую жизнь, смогу помочь ей вернуться к старой. Поэтому я спросил, как часто я буду видеться с Майклом.
Она ответила, что Майкл останется со мной, и я должен часто приводить его к ней. Мы составим равномерный график, чтобы он не слишком огорчался.
Так и пошло. Более или менее. Если вам кажется, что я очень взвешенно и достойно выбрал бездействие, это иллюзия, вызванная толщей прошедшего времени. В промежутках между здравыми вопросами я кричал на нее, мы оба выли и вопили.
Наконец я спросил, к кому она уходит. Он богаче, моложе, сильнее? Лучше в постели? Добрее? Она ответила: «К Мэрион». После этого я не пытался спорить. Мэрион была учительницей пения в ее школе, худой рыжеволосой женщиной с тонкими пальцами, похожими на птичьи лапки.
Вот так все и было. Потрясение, боль, но со временем я привык. Элени и Мэрион всегда были рядом, если мне требовалась их помощь. Майкл сперва злился, но смирился, после даже обрадовался тому, что у него появился лишний родитель, а я узнал, что моя ревность сводилась к соревнованию за время и внимание, но не за любовь. У меня были другие романы, но всегда ограниченные, конечные. Ни от одной женщины нельзя требовать, чтобы она жила рядом с матерью моего сына, еженедельно делила с ней кухню и гостиную. У некоторых это получалось, у других – нет, и ни одна не задержалась надолго.
В 1999 году Элени и Мэрион перебрались в южную Францию, а через несколько месяцев умерли вместе в чистом Средиземном море. У Элени обнаружили неоперабельную опухоль, и они выбрали римский способ вернуться домой. Я бы рад столько лет спустя сказать, что это старая история, но не могу, особенно когда ее призрак явился мне. И все равно я думаю, что это был счастливый конец для нее. Настолько, насколько вообще бывает в жизни.