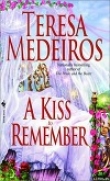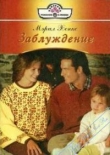Текст книги "Вельяминовы. Время бури. Книга третья"
Автор книги: Нелли Шульман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Джинджин-Сумэ
Рубаху и штаны принес русский фашист, как Степан называл белокурого юношу. Он почти не разговаривал с майором Вороновым, в голубых глазах Степан видел презрение. Прошло двое суток с тех пор, как за японцем закрылась дверь палаты.
Степан даже не пытался догадаться, что за человек перед ним. Он помнил непроницаемое, чеканное, лицо, темные, бесстрастные глаза. Японец, терпеливо, по нескольку раз, повторял немецкие слова. Степан заметил мимолетную тень усмешки на красиво вырезанных губах. Закончив говорить, гость сунул заряженный пистолет и план Джинджин-Сумэ под матрац на кровати:
– Постель менять не будут… – услышал Степан легкий шепот, – вас, через два дня, переводят в другой госпиталь. Дорога лежит мимо аэродрома… – Степан надеялся, что японские летчики не знали в лицо переводчика разведывательного отдела армии. Майор незаметно окинул взглядом юношу:
– Он меня ниже, но ненамного, и уже в плечах. Ничего страшного, мне в его форме только до проходной аэродрома надо дойти… – Степан не хотел бежать из госпиталя. Здесь его успели запомнить, барак стоял рядом со штабом группировки. Пыльные проезды, вокруг, кишели японцами.
Юноша швырнул на койку форменные штаны и гимнастерку горчичного цвета, без нашивок.
– Отвернитесь, – хмуро сказал Степан
Два дня Степан вел себя тихо. Его отвязали от койки, оставив фотографию воентехника. Распоряжения отдавал невысокий японец, в аккуратном кителе, с бородкой, в профессорском пенсне. Он приходил в сопровождении переводчика, осматривал Степана и брал анализы. Наручники майору сняли, но в умывальную водили под конвоем.
Степан, все время, думал о неизвестном японце, изящном, с прямой спиной. Холщовая куртка сидела, будто влитая. Степан вспоминал ухоженные руки, приподнимающие матрац. Гость носил золотые часы. Пахло от него кедром, и чем-то свежим, словно бы речным, прохладным ветром.
Степан лежал, закинув руки за голову:
– Кто он такой? Неужели здесь, в Маньчжурии есть советские разведчики? Он японец… Но я не разбираюсь, он может быть и корейцем, и бурятом… – майор Воронов не спрашивал, куда его везут. Давешний профессор в очках, ничего не говорил.
В ответ на просьбу Степана белокурый юноша презрительно пожал плечами. Он смотрел в стену, майор переодевался. Сидя на койке, Степан натянул разбитые, старые сапоги. Обувь жала:
– Его сапоги будут жать еще больше… – понял Степан, – но мне надо добраться до самолета. В воздухе они меня не догонят. И вообще, пока они поймут, что случилось… – пистолет Степан одним незаметным, мгновенным движением, сунул за голенище. Местная форма тоже жала. Степан, невольно, улыбнулся:
– Таких японцев, как я, не бывает… – Степан, для летчика, был высоким, но рост ему никогда не мешал.
Во дворе госпиталя стояла открытая, военная машина. Обернувшись к Степану, фашист, коротко велел: «Руки сюда». Майор почувствовал на запястьях тяжесть металла:
– Ничего. Ключи у него в кармане кителя лежат. Когда проедем аэродром, надо начинать… – план Джинджин-Сумэ Степан выучил наизусть. Разжевав бумагу, он проглотил клочки:
– Как революционеры делали, в тюрьме. Как отец… – в Укурее, на тамошнем аэродроме, Степану вспомнилось что-то давнее, детское. В общежитии тогда еще лейтенант Воронов делил жилье с тремя летчиками. За промерзшим окном завывала метель. Он ворочался, видя отсвет огня русской печи, на половицах избы:
– У нас была керосиновая лампа. Мы с Петром на лавке спали, под кошмой. Кто-то пел… – Степан слышал низкий, красивый голос, уютную, успокаивающую мелодию, на незнакомом языке:
– Наверное, к товарищу Сталину, к отцу, товарищи из ссыльных приезжали. Надо Петру песню напеть, когда мы встретимся. Он знает языки, он подскажет.
– Если мы встретимся, – мрачно подумал Степан, когда фашист сажал его в машину. Майор разозлился:
– А иначе и быть не может. Я здесь пропадать не собираюсь… – Степан, разумеется, не хотел упоминать о плене. Он знал, что, стоит ему признаться в подобном, как его затаскают по допросам и не допустят до неба. За два дня он все придумал. Он решил убить севшего вслед за ним японского летчика:
Я забрал его пистолет, а свой ТТ потерял, при драке. Не вернулся я в Тамцаг-Булак потому… – он смотрел в беленый потолок палаты, – что мой самолет был неисправен… – рация в И-153, действительно, не работала, разнесенная выстрелами из мессершмита:
– Взял японский самолет, заблудился. Полетел на север, скажем… – Степан почувствовал, что улыбается:
– Такое случается. Рацией японца я пользоваться не мог, она настроена на Джинджин-Сумэ. В общем, все довольно убедительно. Тем более, я захватил вражеский самолет… – Степан понимал, что без допросов ему сухим из воды не выйти, но надеялся на скорое наступление. По его опыту, уполномоченные НКВД на передовую не лезли, а в кабины истребителей, тем более.
Фашист устроился за рулем. Они выехали со двора госпиталя на широкую, пыльную улицу, пересекавшую Джинджин-Сумэ с юга на север. Машина шла на юг. Судя по схеме, оставленной японцем, аэродром, находился в пяти километрах от поселка. Степан сидел, опустив скованные наручниками запястья, в лицо бил жаркий ветер. Закурив японскую сигарету, фашист, разумеется, не предложил пачки Степану.
Степану зашили рассеченную бровь. Он понятия не имел, кто и когда его избил, и грешил на фашиста. Синяки и ссадины на лице майор собирался объяснить жесткой посадкой. Руку аккуратно перебинтовали. Впрочем, пуля скользнула по плечу, ранение было легким. Голова почти не болела. Давешний профессор пришел вчера с молоточком, проверять рефлексы. Выслушав японца, фашист, надменно, сказал Степану:
– Завтра тебя переведут в другой госпиталь… – в голубых глазах юноши, майор увидел издевательский смех.
Миновав последние, окраинные бараки Джинджин-Сумэ, он вырвались на степной простор, на плоскую, безжизненную равнину. Вдалеке, в жарком мареве, Степан увидел очертания самолетов. Поле даже не огородили. Вместо ворот стояло два бревна, с грубым шлагбаумом, и будка, где дремал часовой.
– У нас аэродром похож, – развеселился Степан, – только шлагбаума нет.
Майор отлично знал, что летчики, с обеих сторон, поднимаются в воздух по одинаковому расписанию:
– Не зря Смушкевич нам читал протоколы допросов пленных… – машина ехала мимо аэродрома, по совершенно пустой дороге. Майор надеялся, что она такой и останется. Фашист что-то мурлыкал, себе под нос. Степан, осторожно, незаметно, оглянулся. Будка часового скрылась за поворотом. Искоса посмотрев на поле, он замер. Перед ним стоял мессершмит, с императорскими хризантемами, на крыльях. На такую удачу майор и не рассчитывал:
– Конечно, он может быть не заправлен… – Степан заставил себя сидеть спокойно, – черт с ним, пятьдесят километров до реки я протяну. Главное, на свои самолеты не нарваться, и не попасть под зенитную артиллерию… – голову припекало солнце. Дорога повернула, машина скрылась за маленьким холмиком.
Вскинув ладони, Степан ударил стальными наручниками, по белокурой голове водителя. Майор перехватил руль. Металл врезался в руку, по пальцам потекла кровь. Прижимая фашиста к борту, Степан бросил машину к обочине. Русский, сдавленно, матерился, вырываясь. Степан, разъяренно, вдавил сталь ему в лицо, ломая нос, разбивая губы. Машина упала на бок, они выкатились на горячую траву. Степан оказался сверху. Фашист даже не успел закричать. Превозмогая боль в руках, Степан ударил его затылком о раскрытую дверь машины. Юноша, дернувшись, затих.
Степан убил его выстрелом в ухо, через свою скомканную, закапанную кровью, японскую гимнастерку. Переодевшись, он замыл форму фашиста водой, из канистры. Сапоги невыносимо жали. Степан, больше всего, боялся, что за оставшиеся до аэродрома два километра, на дороге, кто-нибудь, появится.
Документы у фашиста оказались на японском языке. Степан понял, что даже не знает его имени.
– И не хочу знать… – сначала он собирался облить труп и машину бензином, и поджечь, но передумал. Часовой, на аэродроме, заметив дым, мог поднять тревогу.
Степан, правда, не намеревался оставлять часового в живых, но ему не стоило привлекать к себе внимания.
Сунув вальтер в карман кителя юноши, он оставил его японский, офицерский револьвер в кобуре. Ветер шевелили окровавленные, светлые волосы, в мертвых, голубых глазах отражалось яркое солнце. Проверив оружие, Степан пошел на север, к аэродрому.
Тамцаг-Булак
Заполнением наградных листов и ведением списков погибших летчиков, в двадцать втором истребительном полку, занимался помощник начальника штаба. Сегодня, из города, привезли запечатанные пакеты с орденами. Связка лежала на большом, врытом в землю деревянном столе, в штабной палатке. Жаркий ветер вздувал полотнища, день обещал стать раскаленным. Мерно скрипело перо. Политрук стоял, засунув руки за портупею. По спине стекал пот. У разгонных машин И-153 копошились техники. На карте, пришпиленной к холсту палатки, летчики отмечали места крушений. Вчера в белом пространстве появилась новая точка. Воентехник вернулась из поиска с заплаканным, покрасневшим лицом, с припухшими глазами.
Васильев нашел усовершенствованный И-15 майора Воронова:
– Исполняющий обязанности командира полка хочет забрать себе истребитель. Говорит, что отличная машина, – сам политрук в самолетах не разбирался, но такое ему, по должности, и не требовалось.
К месту вынужденной посадки майора отправили техников, на машине. По докладу Князевой, в истребителе было повреждено только шасси. Вызвав из Тамцаг-Булака уполномоченного НКВД, Васильев попросил его сопровождать техников. Политруку не нравилось, что тела майора не оказалось рядом с истребителем. Если он, раненым, попал в плен к японцам, о таком надо было знать. Кроме того, уполномоченный собирался забрать труп диверсанта, застреленного Князевой. Девушка сказала, что у белогвардейца был офицерский ТТ.
Пистолет придавливал бумаги на столе перед Васильевым. ТТ напоминал оружие Воронова, но в полку, как и везде у летчиков, с такими вещами царила неразбериха. Офицеры менялись пистолетами, подхватывали бесхозное оружие. Невозможно было, по номерам, понять, кому принадлежал ТТ.
– У японцев они тоже имеются, трофейные… – Васильев надеялся, что тело майора найдут. Гибель в бою не бросала тени на славное имя полка, в отличие от пропажи без вести.
Техники, кое-как, восстановили шасси. Пришлось посылать на место аварии свободного летчика. Уполномоченный НКВД запретил, до проверки показаний, пускать Князеву к штурвалу. Рация в И-153 майора была разнесена вдребезги. Судя по пулям, в него, стреляли японские истребители.
Васильев, облегченно, выдохнул. Воздушный бой, действительно, состоялся. Майор Воронов не бросал машину, не перебегал на сторону японцев. Следы крови на кабине и на траве ничего не доказывали. Майор, если он был шпионом, мог обставить свое исчезновение, с большой правдоподобностью.
– Он не шпион… – Васильев смотрел на техников, – он честный, советский человек. Уполномоченный видел его личное дело. Он пьет, склонен к дебошам. Такого никто вербовать не будет, – среди других, на столе лежал пакет с Красным Знаменем майора Воронова. Политрук справился в бумагах. Орден полагалось отослать брату майора. В личном деле указывалось, что Петр Семенович работает в органах НКВД.
Политрук вспомнил:
– Правильно. Он приезжал, на Дальний Восток, наводить порядок, когда мерзавец Люшков перебежал к японцам. Черт, хоть бы нашли труп майора… – без трупа, извещение о пропаже брата без вести, могло приостановить продвижение Петра Семеновича по службе.
Воентехник Князева тоже была на поле. Политрук прищурился: «Она и не спала сегодня». Вчера уполномоченный НКВД увез девушку в Тамцаг-Булак, на допрос. Ее вернули с машиной только утром, перед завтраком. В столовой Васильев, искоса смотрел на усталое, лицо, со следами слез на глазах. Веки совсем запухли. Сгорбившись, она обхватила узкими ладонями, стакан с чаем. На щеках и лбу красовались заживающие, помазанные йодом царапины. По словам девушки, она дралась с диверсантом.
– Григорий Иванович, – хмыкнул Васильев. Он читал протокол предварительного допроса:
– Если Князева и Воронов работали вместе? Если Григорий Иванович, просто шофер? Они его убили, чтобы отвлечь внимание от побега Воронова. Но в ЗИС-5, правда, нашли рацию. Может быть, Григорий Иванович был их сообщником, грозил их выдать… – он закурил:
– Но Князеву не арестовали, сюда вернули. До воздуха, правда, велели не допускать, но ей туда и нельзя, она еще не летчик. Теперь на ней пятно, она подозрительна… – Васильев, внезапно, рассердился:
– Она дочь прачки, сирота. Мастер спорта, орденоносец, в конце концов. Я ручаюсь, что она не связана с японцами. Она просто наткнулась на диверсанта. Случайность, такое бывает… – воентехник, в летном комбинезоне, внимательно осматривала шасси И-153.
Лиза почти не понимала, что происходит вокруг. Дочитав тетрадку, добравшись до самолета, она вызвала по рации подкрепление. Спустившись в распадок, Лиза, царапая руки, вырвала из стенки кабины лист фанеры. Оставлять тетрадь при себе было непредставимо. Лиза стояла над костром:
– Ложь, белогвардейская ложь. Не может быть… – она вспомнила дом культуры, в Зерентуе, шепот пожилой женщины: «Сатанинское отродье…»
Лиза, до боли, сжала пальцы:
– Июнь двадцать первого года. Меня зовут Марфа Ивановна Князева. Весной, на Пасху, мне исполнилось пятнадцать лет. Не знаю, зачем я веду дневник. Должно быть, просто, чтобы не сойти с ума. С шести лет я жила в Чите, пансионеркой в епархиальном училище. У меня были родители, отец Иоанн Князев и матушка Елизавета, четверо младших братьев и сестер… – на задней обложке тетрадки, мать Марфы, перечислила всех по именам:
– С началом продвижения большевиков на восток, училище закрылось. Папа и мама забрали меня домой, в Зерентуй. Наша семья здесь поселилась издавна. Мой предок служил священником прииска еще в начале прошлого века…
– Июль двадцать первого года. Он не пьет. Красные, каждый день, перепиваются, а он не пьет. Было бы легче, если бы пил. Может быть, он тогда бы просто засыпал. Каждую ночь, он рассказывает о смерти моих родителей, и всей семьи. Моим младшим сестрам было восемь лет, и шесть лет. Господи, покарай большевиков, пожалуйста. Сделай так, чтобы они сдохли в мучениях. Он убил своего родственника, в Польше. Перерезал ему горло, на глазах красных. Он и с мамой так сделал… Он смеется и обещает меня держать при себе, пока я ему не наскучу. Убежать невозможно, весь Зерентуй полон красными. Я стираю, готовлю, убираю в нашем доме. Он занял спальню мамы и папы. Я не могу даже подумать, что на их кровати… Нельзя такого желать, но, Господи, пошли мне смерть. Я не хочу жить.
– Август двадцать первого года. Сомнений нет. Хорошо, что покойная мама мне все рассказала. Ему я ничего говорить не буду, иначе он заберет дитя, и я никогда не увижу малыша. Я надеюсь, что он уйдет дальше на восток. Красные говорят о своих планах, за столом. Конечно, перед тем, как покинуть Зерентуй, он может меня расстрелять, но лучше смерть, чем потерять маленького. Ребенок ни в чем, не виноват. Я достойно воспитаю его, обещаю. Может быть, мне удастся бежать в Китай…
– Февраль двадцать второго года. Мы с Прасковьей Ильиничной окрестили Лизоньку. Священников нет, церковь сожгли, мы все сделали дома. Она хорошая девочка, спокойная. Я смотрю на нее, и прошу Господа, чтобы моя дочь была счастлива. Я почти не выхожу на улицу. Мне и раньше плевали вслед, называли подстилкой сатаны. Теперь у меня на руках Лизонька, нельзя рисковать. Моей доченьке всего две недели, а она меня узнает. Сегодня она, кажется, улыбнулась. Прасковья Ильинична смеется, и говорит, что я придумываю. Младенцы, так рано, не улыбаются. Моя славная девочка, пусть она не узнает ни горя, ни невзгод. Лизонька похожа не него, но я никогда ей не скажу, чья она дочь…
– Февраль двадцать второго года. Господи, спасибо Тебе. У здания совета, то есть нашего бывшего дома, вывесили новый выпуск читинской газеты. Белая гвардия сожгла его в паровозной топке, под Волочаевкой. Господи, Ты наказал его. Я счастлива, счастлива… – трещал костер, Лиза опустилась на землю:
– Если это правда, то я сестра товарища Горской. Я тетя Марты… – она листала пожелтевшие страницы:
– Я не могу, не могу сжечь тетрадь. Я видела, как мы похожи с товарищем Горской. Мы обе с ним похожи… – мать потеряла сознание, и не видела, как убивали ее родителей. Очнулась она связанной, в своей бывшей комнате, запертой на засов. Горский пришел к ней вечером, и забрал себе:
– Как рабыню, как крепостную. Я плакала, говорила, что мне всего пятнадцать, просила меня пожалеть. У красных нет жалости. Утром мне было плохо, а он, все равно, заставил меня… Даже не могу писать дальше. Иконы из нашего дома выбросили во двор. Я видела, в окно, что красные с ними делали. Господи, покарай их, всех, до единого человека. У них каждый день застолье, каждый день кого-то вешают, или расстреливают. Он сам казнит людей. Он хвастался, что убил государя императора, в Екатеринбурге… – Лиза спрятала тетрадку с Евангелием под комбинезон:
– Я никогда, ничего не скажу. Я не их больше не увижу, ни Марту, ни товарища Горскую… Мою сестру… – Лиза не могла бросить в костер тетрадку. На последних страницах, мать писала:
– Травы от потницы, травы от кашля… Сегодня мы натопили печь и купали Лизоньку в корыте. Она держалась за мой палец. Лизонька совсем не боится воды, мое счастье… – Лиза залезла в кабину своего истребителя. Разрыдавшись, девушка вытерла лицо рукавом пропотевшего комбинезона: «Никто, ничего не узнает, пока я жива».
На допросе в Тамцаг-Булаке она не упоминала о японце, застрелившем шофера, или керамических зарядах, рвавшихся в костре. Лиза понимала, что, стоит ей заговорить о таком, и небо для нее навсегда закроется.
Кроме того, она предполагала, что ей просто, никто не поверит.
– Как не поверили бы тетрадке… – она поняла, кем был шофер. Мать, в записях, сделанных после ее рождения, упоминала о друге детства, Грише Старцеве. Юноша служил у белых. Он воевал в Зерентуе, когда поселок осадили отряды Горского.
– Моего отца, – заставила себя сказать Лиза. Мать не знала, что случилось со Старцевым, и беспокоилась за него:
– Они, наверное, виделись… – Лиза возилась с шасси, – он приходил в Зерентуй, забрал тетрадку и книгу… – она сложила вещи в мешок, спрятав под бельем:
– Мне больше ничего не осталось, от мамы… – в дневнике, мать иногда писала о дореволюционной жизни, о молебнах в училище, о рождественской елке, о поездках, с родителями, на Тихий океан и в Кяхту. Лиза прочла о знакомом матери, Федоре Воронцове-Вельяминове:
– Что с Федей, с его семьей? Тоже сгинули где-то, и могил их не найдешь… – Воронцов-Вельяминов был потомком декабриста, похороненного в Зерентуе.
Лиза наклонилась над шасси, пот заливал лицо:
– Майор Воронов погиб, наверное… – сердце глухо, тоскливо, болело. Лиза встрепенулась, услышав отчаянный крик: «Воздух!». На случай бомбежки они вырыли траншеи. Девушка вскинула голову. Она узнала силуэты Накадзима, японских истребителей. Машины летели низко над степью. Лиза прикусила губу:
– Я помню такой истребитель. Немецкий, мессершмитт. В училище показывали фотографии. У него японские опознавательные знаки. Почему он стреляет по своим летчикам… – мессершмитт, безжалостно, теснил японцев к советскому аэродрому. У одного истребителя дымилось крыло. Заместитель командира полка бежал на поле: «По машинам!». Лиза бросилась в траншею. Горящий японец, огненным шаром, взорвался в небе.
Кабинет Смушкевича размещался в штабном бараке авиационной группы, на главной улице Тамцаг-Булака, в окружении палаток, на большой, неезженой дороге, ведущей на восток. По степи, безостановочно, ночью двигались войска. На совместном совещании армейской группировки, Жуков объявил, что наступление начнется в конце августа. Пока что требовалось усыпить бдительность японцев. Переговоры по радио прослушивали в Джинджин-Сумэ. Разведчики велели командирам использовать легко взламываемый шифр. К японцам, из перехваченных разговоров, поступала информация о подготовке зимних квартир для армии. Исходя из сведений, советская группировка собиралась вести долгую, позиционную войну.
– Мы их сметем с лица земли, – сочно пообещал Жуков, опустив кулак на карту, – а вы, авиаторы, превратите окопы в пыль.
Степан хорошо знал кабинет комкора. Здесь, после его возвращения из мертвых, как весело сказал Смушкевич, устроили большое застолье.
Степан приземлился на родном аэродроме без потерь. Мессершмитт оказался заправленным. Он даже нашел в кабине японский, летный комбинезон. Часового майор Воронов застрелил почти в упор. Японец только успел поднять голову и открыть рот. На поле никого не было. Степан понял, что летчики еще не вернулись из патруля, а свободная смена обедала. В кабине мессершмитта, быстро переодевшись, он разобрался с приборами. Оказавшись в воздухе, Степан поднялся, как можно выше. Патрули сюда не забирались. Майор надеялся, что зенитчики его тоже не достанут. Двух Накадзима он встретил, перелетев на советскую территорию. Не удержавшись, майор погнал истребители обратно, к аэродрому Тамцаг-Булака.
Рация в мессершмитте была настроена на Джинджин-Сумэ. Степан слышал крики на японском языке, но не обращал на них внимания. Одного японца он сбил сам, а второй истребитель оставил поднявшимся в воздух ребятам.
Когда Степан вылез из кабины мессершмитта, над аэродромом висел тяжелый, черный дым. Обе японские машины врезались в землю. Он сразу заметил младшего воентехника. Девушка торопилась, через поле, в промасленном комбинезоне:
– Товарищ майор, товарищ майор… – она остановилась, будто наткнувшись на что-то:
– Я думала, вы погибли. Я нашла место, где вы И-153 посадили… – фотография воентехника лежала в нагрудном кармане его японского комбинезона. Вальтер он выбросил, расстреляв часового, на аэродроме в Джинджин-Сумэ. Степану не хотелось, чтобы НКВД мотало ему душу, как называл такое майор. Версия была стройной. Воронов, как следует, все обдумал.
Он смотрел в ее бледное, исцарапанное лицо. Серо-голубые глаза распухли от слез. Лиза, тяжело, дышала:
– Он жив, он пригнал новую машину. Он герой, настоящий герой. А я? Если бы он знал, кто моя мать… -Лиза, в очередной раз, пообещала себе, что никому, ничего не расскажет:
– И тетради никто не увидит… – от него тоже пахло гарью и потом, на лбу засохла кровь. Во время драки с фашистом у Степана, очень удачно, разошелся шов на брови:
– Не придется объяснять, откуда он у меня… – Воронов собирался сказать уполномоченному, что убил севшего вслед за ним японца, на немецкой машине. Появился второй, и Воронов был вынужден улететь. Он заблудился, без карты, и рации, найдя дорогу обратно в Тамцаг-Булак, только через два дня.
Степан не упомянул о снимке, только подмигнув девушке:
– Как видите, я живой, товарищ Князева. Чтобы меня убить, – майор помолчал, – двоих японцев мало… – ребята садились, кто-то кричал: «Ворон! Ворон! Качать его!». Прикоснувшись пальцами к летному шлему, майор пошел к истребителям. Лиза смотрела вслед широкой спине. Девушка шмыгнула носом:
– И все, и ничего больше не будет. Ничего не может быть… – летчики качали майора. Лиза заставила себя не слышать его добродушный смех. Опустив руки, девушка пошла к своей палатке.
За три дня беспрерывных допросов, Степан, в общем, забыл о младшем воентехнике. Политрук Васильев вернул ему офицерский ТТ. Майор Воронов понял, кто вез его на маньчжурскую территорию:
– У них здесь был диверсант. Лиза его застрелила, молодец девушка… – воентехника представили к медали: «За отвагу».
Смушкевич сидел на краю стола, разглядывая Степана.
Майор явился к главе авиационных сил в новой гимнастерке и бриджах, с двумя орденами Красного Знамени, прошлогодним, немного потускневшим, и новым, ярко сияющим в закатном солнце. Радиограмма была ясной. Майора Воронова утверждали в должности командира полка, с присвоением очередного звания. После окончания боев на Халхин-Голе ему предписывалось явиться в Москву, в генеральный штаб ВВС РККА, для получения новой должности. Мессершмитт, третьего дня отправили в столицу. Смушкевич подозревал, что инженеры намеревались разобрать машину по винтикам.
– И очень хорошо, – он передал полковнику Воронову пачку «Беломора». Смушкевич смотрел на упрямое, медное от степного загара лицо, на коротко стриженые, каштановые волосы, выгоревшие на концах, играющие золотом. Лазоревые глаза усмехнулись:
– Спасибо, товарищ командир корпуса… – Степан щелкнул зажигалкой, из стреляной гильзы, – что мне остаться разрешили. Наступление скоро… – Смушкевич, довольно сварливо, заметил:
– Не последнее наступление в нашей жизни, полковник… – они стояли у раскрытого окна. В чистом, ясном небе пылала багровая полоса заката:
– Я все правильно сделал. Иначе бы меня не пустили за штурвал… – на западе расплывался белый след самолета:
– В небе я нужнее, чем на земле. Теперь я знаю, против кого мы воюем. Больше никто, ничего подозревать не должен…
Затянувшись горьким дымом папиросы, полковник Воронов кивнул:
– Не последнее, товарищ командир корпуса. Скорее, первое… – они замолчали.
Степан подумал:
– Может быть, у Петра спросить о японце? Не стоит. Он мне, все равно, ничего не скажет, из соображений безопасности. Интересно, где сейчас Петр? —
Смушкевич положил ему руку на плечо:
– Пойдем, Ворон, обмоем новое звание… – опрокинул сразу половину стакана водки, Степан помотал головой:
– И все, товарищ комкор, пока не выбросим японцев отсюда, не погоним их обратно в Маньчжурию, или еще дальше.
Смушкевич знал, что в Москве готовится подписание пакта о ненападении, между СССР и Германией. Данные были засекречены. Полковнику он, ничего, сказать не мог.
– Его в Западный округ направят… – полковник Воронов садился за руль эмки, – надо строить новые аэродромы, перебрасывать части, технику. Советская Армия освободит рабочий класс, угнетаемый панами… – включив зажигание, Степан поднял глаза. Небо оставалось пустым. Он вспомнил японца, в госпитале:
– Если бы ни он, я бы не спасся. Я не знаю, как его зовут, и никогда не узнаю… – выехав на дорогу, ведущую к аэродрому, эмка скрылась в клубах пыли.