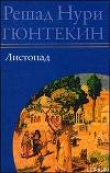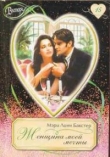Текст книги "Клеймо. Листопад. Мельница"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
Глава одиннадцатая
Это случилось в день похорон моей няни Кямиян-калфы. Я возвращался из Эйюб-султана[14]14
…Я возвращался из Эйюб-султана… – Эйюб-султан – пригород старого Стамбула на берегу Золотого Рога, там находится знаменитое кладбище с гробницей Эйюб-султана – легендарного сподвижника пророка Мухаммеда, причисленного мусульманской религией к лику святых.
[Закрыть] на пароходе. Никого из нашего дома, кроме меня и старого дядьки-воспитателя, на похоронах не было. Никто не заметил смерти старой няньки, никто не опечалился, будто померла кошка, к которой в доме все привыкли, – и только.
День был ветреный, сырой, но я остался на верхней палубе. Небо заволокли тучи. Казалось, они закрыли весь мир, окутали даже мой мозг. На душе было сумрачно и тоскливо. Никогда не думал, что мамина кормилица, добрая старуха-черкешенка, так много значила для меня. Вот теперь её нет, и в мире сразу стало пусто.
Вдруг перед моими глазами мелькнуло лицо Джеляля. Он пристально смотрел на меня. Я опустил голову.
Джеляль подошёл и сказал:
– Иффет-бей, я хотел бы с вами поговорить. Я встал и, не глядя ему в лицо, ответил:
– Я слушаю вас.
– Я виноват перед вами: в прошлом году я так несправедливо поступил с вами. Всё выяснилось потом: на Веджи-бея, оказалось, донес учитель, который метил на его место. Я хотел писать вам, просить прощения, но, к сожалению, так и не сделал этого. Простите меня!
От волнения я не мог вымолвить ни слова. Мы молча пожали друг другу руки и сели рядом. Вначале разговор никак не клеился.
Узнав, что умерла моя няня, Джеляль искренне опечалился и утешал меня, как мог.
Его слова успокаивали меня, я чувствовал, как беспросветная тоска уступала место спокойной печали, по щекам моим катились слёзы любви и нежности к ушедшему из этого мира дорогому и близкому человеку.
Мы расстались с Джелялем, поклявшись друг другу в вечной дружбе и братстве. На душе у меня полегчало, я не чувствовал себя больше одиноким.
Глава двенадцатая
О провозглашении конституции[15]15
…О провозглашении конституции я узнал в Карамюр-селе… – В июле 1908 года произошла младотурецкая революция; под давлением армии султан Абдул Хамид II вынужден был принять ультиматум младотурок и объявить о восстановлении конституции 1876 года.
[Закрыть] я узнал в Карамюр-селе. Я лежал больной в имении у тётушки, у меня был сильный кашель. Три дня тётушка меня не отпускала, но на четвёртый, несмотря на болезнь, я удрал и сел на пароход.
Наконец-то мечты мои сбылись. Однако, вопреки ожиданиям, особой радости я не испытывал. Ведь мой отец, брат, другие родственники были придворными. Что станет с ними?
Когда пароход причаливал, по набережной с криками: «Да здравствует свобода!» – шла колонна демонстрантов. Гремел оркестр. Над толпой развевались флаги.
От волнения голова у меня пошла кругом. Осуществилось то, о чём я мечтал в детстве, о чём столько думал в юности. С душевным трепетом и даже тревогой – их испытываешь всегда, когда видишь, как на глазах твоих совершаются чудеса, – я шагнул на улицу и слился с толпой. И я не чувствовал себя больше отдельным существом, я потерял свою индивидуальность, растворился, стал лишь частицей, ничтожной каплей бушующего моря – огромного, несущегося вперёд человеческого потока.
Вместе с колонной я дошёл до перекрестка – и тут вдруг услышал, что среди проклинаемых, ненавистных деспотов и тиранов народ выкрикивает имя Халис-паши.
Невольно я замедлил шаг, вышел из колонны и побрёл назад.
Демонстранты были далеко, и голоса их уже не доносились до меня, но в ушах всё ещё звучали грозные слова: «Будь проклят Халис-паша!».
И тут я, словно бы воочию, увидел отца – паша-батюшка, беспомощный, слабый старик, стоял у книжного шкафа и в порыве откровенности клялся: «Я, Иффет, никогда не был доносчиком!»
* * *
Я вернулся домой. В особняке царили тревога и уныние. Старшая сестра слегла в постель. Прислуга была в панике. Наконец, после долгих, расспросов, мне удалось узнать, как всё было.
В тот же день, когда провозгласили свободу, муж сестры бежал, по всей вероятности, в Египет. Он предложил бежать и отцу, но тот отказался. За день до моего возвращения около нашего дома появилась группа демонстрантов. Сначала они кричали: «Будь проклят Халис-паша!», потом стали бросать камни, выбили стёкла. Через несколько часов отца арестовали. Где он теперь, никому не известно.
На меня в особняке поглядывали сердито. Старшая сестра высказала вслух то, о чём думали другие.
– Ну что, добился своего?! – упрекнула она меня.
Глава тринадцатая
Прошло два дня. Мы жили будто в карантине. Ни родственники, ни знакомые не решались постучаться в двери нашего дома. На третий день пришёл Махмуд-эфенди и принёс первую весточку об отце: говорили, что пока его держат в городском полицейском управлении, но, наверное, скоро сошлют на остров Митилена[16]16
…сошлют на остров Митилена… – Митилена – остров Лесбос в Эгейском море, ранее входил в состав Османской империи.
[Закрыть].
Мои сестра и брат начали плакать, словно маленькие дети, их примеру последовала прислуга.
– Вы видели его, Махмуд-эфенди? – спросил я. Старый учитель смущённо отвел глаза в сторону.
– Нет, к сожалению, ещё не смог к нему сходить.
– Тогда давайте пойдём сегодня вместе. Сестра стала возражать, её поддержал Музаффер.
– Нет, нет! Сейчас ещё неспокойно. Надо переждать. Дня через два все вместе и сходим.
Я не стал их даже слушать.
– Как хотите, – сказал я твёрдо, – Если Махмуд-эфенди не пойдет, я отправлюсь один.
* * *
Добиться свидания с отцом оказалось не так-то просто. Махмуд-эфенди долго ходил по коридорам, стучался то в одну, то в другую дверь. Бедняга совсем замучился; припадая на больную ногу, он таскался из комнаты в комнату, всех молил и упрашивал. Наконец свидание нам разрешили. У входа нас тщательно обыскали. Пока здоровенный детина в полицейской форме вёл нас по узкому мрачному коридору, у меня закружилась голова, начали дрожать колени. Каким я увижу отца? Что стало теперь с человеком, которого я привык видеть грозным и величественным?
В маленькой камере на узкой железной койке сидел отец и спокойно курил. Махмуд-эфенди с плачем ринулся па колени и припал, к его руке.
Как это ни странно, но паша-батюшка вовсе не был мрачно настроен. Напротив, он даже шутил: «В нашем мире всё время происходят какие-нибудь революции. Стоит ли сокрушаться, Махмуд-эфенди?»
Я не ожидал увидеть его в столь бодром расположении духа.
– Ну, как там поживают наши? – осведомился он у меня. – Никто не заболел от испуга, все живы-здоровы?
Я думал, что он спросит, почему не пришел Музаффер, и уже придумывал, что ему соврать. Но отец даже не упомянул его имени.
Мы просидели у него около получаса. Когда мы поднялись, отец написал несколько строк на клочке бумаги и протянул его мне:
– Иффет, ключи от библиотеки пусть будут у тебя. Тут я написал названия некоторых книг. Найди их. Скажи своей сестре, чтобы приготовила несколько пар белья. Возможно, мы уже завтра вечером тронемся в путь. Пришли мне всё это с Хусейном. Или. – Он на минуту задумался. – Может быть, ты сам, сынок, сумеешь принести?
Я понял, что отец перед отъездом из Стамбула хочет ещё раз повидаться со мной, но, видимо, стесняется говорить об этом, боясь показаться сентиментальным.
– Как вы считаете, – спросил он у Махмуд-эфенди, – Иффет сможет завтра прийти к пароходу? Никаких препятствий не будет?
– Какие могут быть препятствия? Непременно придём, правда, Иффет?
– Я поеду с вами, паша-батюшка, на Митилену! – решительно заявил я.
Отец удивлённо поднял на меня глаза.
– Вам нельзя туда ехать одному, – спокойно продолжал я. – Около вас обязательно должен быть кто-то. Кто-то из близких, любящих вас людей.
Отец с грустью посмотрел на меня и, словно моля о прощении, сказал:
– Хорошо, Иффет.
Глава четырнадцатая
На Митилене я провёл два с половиной года.
Мы с отцом жили чуть ли не в бедности, в маленьком плохоньком домике. Наш особняк в Стамбуле и имение в Бюйюк-Чекмедже конфисковали. У отца, которого все считали очень состоятельным человеком, кроме жалованья, никаких других доходов не было. За три месяца до его смерти нам пришлось даже продать несколько редких рукописных книг и чётки. Отец был очень огорчен этим, а я, глядя на него, мучился ещё больше.
Со Стамбулом мы не поддерживали связи. Революция разбросала нашу семью по всему свету. Старшая сестра вместе с мужем так и остались в Египте. Мой брат Музаффер, не будь промах, женился на девушке из богатой семьи, но жить ему пришлось в доме тестя па Принцевых островах. Все другие родственники и знакомые, которые по праздникам и приёмным дням когда-то обивали пороги нашего дома и лобызали край отцовского платья, теперь боялись произнести вслух его имя. О! Все они теперь сделались патриотами и даже революционерами. Только от Махмуд-эфенди каждую неделю мы получали письма.
Будущее, казалось, совсем не волновало отца. Как я в прежние времена, он целыми днями сидел в халате и ермолке перед окном и читал стихи средневековых поэтов.
Два с половиной года прошли без каких-либо знаменательных событий. В конце зимы отец неожиданно заболел воспалением лёгких и умер.
Я хорошо помню его последний день: когда я давал ему лекарство, меня поразил цвет его лица – оно было жёлтое, как воск. Отец лежал, полузакрыв глаза, и еле дышал. Не открывая глаз, он взял мою руку и положил её себе на грудь. Потом медленно поднёс к губам и стал по очереди целовать кончики моих пальцев. Отец целовал мои пальцы, а я стоял, не шелохнувшись, пока он не впал в забытье.
Теперь мне вдруг иногда становится жалко прожитых на острове впустую двух с половиной лет, но когда я вспоминаю, как, умирая, паша-батюшка целовал мои пальцы, я мучительно стыжусь своих мыслей и проклинаю себя, словно допустил неуважение к его памяти.
Вернувшись в Стамбул, я подробно рассказал Махмуд-эфенди о последних днях отца.
Слушая мой рассказ, старик плакал, как малое дитя.
– Иффет-бей! Я – мусульманин и кривить душой не стану. С вашим отцом поступили очень несправедливо. Халис-паша был честным человеком. Он никогда никому не хотел зла. Как ни настаивал падишах, но ведь паша и трёх недель не оставался на посту шефа жандармов. У него был один недостаток: уж очень он любил пофилософствовать, всё считал, что плыть против течения бессмысленно, – пусть всё идёт, мол, своим чередом. Помните тот разговор, когда вы оставили школу? До того дня я и сам не мог до конца понять Халис-пашу. Выставив вас за дверь, он побледнел, обхватил голову руками и проговорил: «Иффет меня добил. Даже мой сын презирает меня», – и я увидел, что он плачет.
Нет, я не жалею, что посвятил отцу эти два с половиной года, – они были очень важны для моего будущего.
Глава пятнадцатая
Мне уже исполнился двадцать один год, когда я вернулся в Стамбул. Я остался один в этом городе, никаких средств к существованию не имел. Старший брат затеял тяжбу из-за нашего поместья и особняка. Но надежд выиграть процесс было очень мало. Даже если бы он его и выиграл, дело это всё равно могло решиться только через несколько лет. К тому же от брата, да и от других родственников я не ждал никакой помощи.
Лицея я так и не закончил. Пока мы жили на Митилене, я прочел уйму разных книг, – только по нынешним временам это оказалось никому не нужной роскошью. Однако я не терял ни надежды, ни мужества. Мне чужда была страсть к накопительству, я с равнодушием относился к деньгам. А вот к работе у меня была великая страсть. И я готов был делать любое дело, лишь бы оно было честным.
Махмуд-эфенди и Джеляль помогли мне. Они настояли, чтобы я поступил на юридический факультет, и даже обещали подыскать мне работу, чтобы я мог и учиться, и зарабатывать себе на жизнь.
Поступить в университет не составило для меня особого труда. Я сразу начал усердно заниматься.
По возвращении с Митилены мне пришлось поселиться у брата, который жил на Принцевых островах. Его жена встретила меня весьма радушно, и тёща приняла как родного. В доме были мне рады и отнеслись ко мне с участием. Но я чувствовал себя у них, скажем прямо, не в своей тарелке: мне всё казалось, что я всех обременяю, что я прихлебатель, и потому с нетерпением ждал того дня, когда смогу найти хоть самую пустяковую работу и стану наконец сам себе господин.
Махмуд-эфенди и Джеляль делали всё возможное, чтобы устроить меня куда-нибудь секретарем, репортёром или учителем.
Наконец счастье как будто нам улыбнулось. Однажды Махмуд-эфенди прибежал ко мне прямо в университет и радостно сообщил:
– Мы подыскали вам, Иффет-бей, прекрасное место. Два раза в неделю будете давать уроки детям депутата Джемиля Керим-бея. И жалованье вполне приличное.
Джемиль Керим-бей был когда-то соседом моего учителя. До девятьсот четвёртого он служил правительственным чиновником в провинции. Когда объявили конституцию, его выдвинули депутатом от того санджака[17]17
…его выдвинули депутатом от того санджака… – Санджак – административная единица в султанской Турции, соответствовавшая округу, промежуточное между губернией (вилайет) и уездом (каза).
[Закрыть], где он раньше занимал должность мутасаррифа[18]18
…раньше занимал должность мутасаррифа… – Мутасарриф – начальник округа.
[Закрыть].
Вот уже третий год, как он переехал в Стамбул и жил с семьёй на своей вилле в Бебеке, на берегу Босфора.
Глава шестнадцатая
Став учителем, дающим частные уроки, я первым делом перебрался с Принцевых островов обратно в Стамбул и поселился в небольшом пансионе на Гедикпаша.
Семья брата не одобряла моего решения жить отдельно от них, но я выдвинул довольно веский довод: ездить каждый день, и в дождь и в снег, с островов в Стамбул, а из Стамбула – в Бебек и обратно мне будет трудно, и я буду очень уставать.
Я снова почувствовал вкус к жизни, который совсем, было, утратил за последние годы. Каждое утро я отправлялся в университет, после обеда ехал в Бебек, а если же у меня не было уроков, то, уединившись в своей комнате, читал книги.
Хозяйка пансиона, добрая армянка, в своё время была вхожа во многие богатые дома Стамбула. Она отвела мне лучшую комнату с окнами на Босфор, заботилась обо мне по-родственному и величала не иначе как «ваша милость».
И зажил я припеваючи, ни в чём не нуждаясь. У меня даже появилась «сердечная привязанность».
В доме напротив жила симпатичная девушка с большими красивыми глазами и вьющимися волосами. Она была дочерью портного. Сидя у окна, девушка всегда что-то шила, напевая звонким, прозрачным, как хрусталь, голоском весёлые или печальные песни.
Мы познакомились, и наша дружба с каждым днём становилась всё крепче. Однажды лунной ночью мы с ней даже гуляли. Взявшись за руки, мы спустились к самому берегу моря.
* * *
Отцу моих учеников было за пятьдесят. Помимо того что Керим-бей состоял депутатом, он занимался ещё торговлей и собирался, по его словам, в скором времени совсем бросить политику.
Возможно, Джемиль Керим-бей был и неплохим человеком, однако уж чересчур корыстолюбивым, – откровенный материалист, он во всём искал выгоду. Себя он ставил превыше всего на свете и, как все разбогатевшие выскочки, отличался удивительной заносчивостью. Эта черта мне особенно не пришлась по душе.
Мои подопечные, Хандан и Кемаль, в чём-то походили на своего отца. Но что касается занятий, я остался доволен их прилежанием и воспитанностью. Я, как умел, старался быть с ними обходительным и ласковым. И, в общем, мы зажили в дружбе и согласии.
Четырнадцатилетняя Хандан, умная, но очень впечатлительная и нервная девушка, быстро ко мне привязалась и стала посвящать меня даже в семейные тайны.
Девять лет назад у них умерла от туберкулеза родная мать. Не прошло и трёх месяцев, как отец женился на дочке одного измирского купца. Мачеха ещё с осени жила в Измире – её отец был тяжело болен. Судя по этим рассказам, Хандан не очень жаловала свою мачеху.
Более того, я чувствовал, что девушка несчастна, что в сердце она затаила обиду на эту женщину, и если я не обману её доверия, она скажет о мачехе ещё много злых слов. Я понял, что в доме эту женщину не любили. О скором её возвращении в Стамбул все говорили как о надвигающейся беде. Общее настроение невольно передалось и мне. И когда однажды Кемаль сказал, что на этой неделе возвращается мачеха, я почему-то вдруг приуныл.
Глава семнадцатая
За виллой Керим-бея раскинулся большой сад. У самых садовых ворот был построен небольшой павильон – словно специально для меня. Здесь я занимался се своими учениками и здесь же, когда не уезжал в город, спал.
Ведия-ханым возвратилась из Измира совсем больная. Как мне рассказала Хандан, смерть отца потрясла её. Она не выходила из своей комнаты, ни с кем не разговаривала. Прошёл месяц: мне так и не удалось её увидеть.
Однажды, приехав на виллу, я, как обычно, направился прямо к павильону. В комнате, отведённой для занятий, я застал своих учеников и их мачеху. Когда Хандан, представляя меня, назвала её «мамой», я подумал, уж не шутит ли она, и невольно посмотрел в лицо гостьи. Я представлял почему-то Ведия-ханым женщиной крупного сложения, дородной, величественной и властной; такая должна гордиться своей красотой, а красота её – в телесах да в ярком цвете лица. Но передо мной была маленькая, хрупкая и даже невзрачная женщина с бесцветным лицом, бледность которого ещё больше подчёркивали строгое чёрное платье и гладко причёсанные, туго завязанные сзади волосы, стягивавшие кожу лица. Она скорее напоминала девицу, засидевшуюся в невестах, нежели молодую даму.
– Я привела вам нового ученика, эфенди, – сказала она, показывая на своего шестилетнего сына. – Нихад хочет учиться вместе с Хандан и Кемалем. Я надеюсь, что он будет вести себя хорошо. Только на этом условии я могу просить вас принять его.
Мне уже приходилось встречать Нихада в саду, и я даже пробовал заговорить с ним. Но он дичился меня. Стоило его позвать, он тут же пускался наутёк.
И теперь одной рукой он крепко уцепился за мать, а другой – закрывал лицо. Чуть не силой я оторвал его от матери. Потрепав его курчавые волосы, я усадил мальчика рядом с собой и начал урок.
Ведия-ханым побыла в классе минут десять. Сначала она неподвижно и безмолвно сидела в кресле. Потом несколько раз прошлась, полистала книги, заглянула в тетради и тихонько удалилась.
С того дня я стал встречать её довольно часто. Иногда мы сталкивались в саду, когда она гуляла с детьми. Обменявшись несколькими ничего не значащими словами, мы расходились в разные стороны. Порой она заходила к нам во время урока. Всегда в одном и том же чёрном платье, медлительная и молчаливая, она появлялась и исчезала, точно привидение: придёт, посидит в углу и, не сказав ни слова, незаметно уйдёт.
Мало-помалу я стал чувствовать себя в их семье своим человеком. Раза два в неделю я оставался ночевать. Если ждали гостей, то непременно приглашали и меня.
Когда приезжали гости, Ведия-ханым нисколько не менялась – была так же спокойна и молчалива. Я ни разу не видел, чтобы она первая с кем-нибудь заговорила, от души рассмеялась, заинтересовалась бы чем-нибудь или проявила к кому-то участие. Это было замкнутое и гордое существо, подверженное меланхолии и грусти. И внешность её соответствовала характеру: прозрачное, бледное лицо с тонкими чертами, бесцветные губы, опущенные вниз глаза, всегда прикрытые густыми ресницами, и брови, доходящие чуть ли не до висков.
При беглом взгляде такое лицо ничем не могло привлечь внимания.
Я, например, долгое время думал, что у неё чёрные глаза. Но как-то во время разговора я вдруг заметил, что они жёлто-зелёные и в то же время удивительна ясные и глубокие. Стоило только увидеть эти глаза, как лицо её казалось уже совсем другим: тонкие черты преображались, удивляя своей еле уловимой, очень своеобразной красотой, губы оживали и становились нежно-розовыми, словно влажные лепестки после дождя.
Почему в доме не любили эту женщину и жаловались на неё – я никак не мог понять.
Глава восемнадцатая
– Иффет-бей, вы, наверное, очень весёлый человек?
Я объяснял детям какую-то трудную задачку по арифметике. Они никак не могли её понять, путались ещё больше и терялись. Спокойно, не раздражаясь, я повторял свои объяснения, а чтобы подбодрить ребят, приводил смешные примеры и не скупился на всякие шутки и прибаутки.
Я чувствовал, что Ведия-ханым, сидевшая в углу в своей обычной позе с книгой на коленях, не сводит с меня глаз. Когда урок закончился, у меня невольно вырвался вопрос:
– Чему вы так удивлялись, ханым-эфенди?
– Удивлялась? Нет. Я только…
Ведия-ханым слегка покраснела и не закончила фразы.
Порой у меня бывает отличное настроение, и тогда всё мне нравится, я доволен собой и окружающими, с надеждой смотрю в будущее, радуюсь оттого, что живу и дышу в этом мире. И сердце моё наполняется нежностью и состраданием к людям. Я готов открыть его первому встречному. В такие минуты я не способен ни на что дурное.
В тот день у меня было именно такое настроение. Нисколько не стесняясь, я заговорил свободно и вдохновенно:
– Возможно, вы и правы, ханым-эфенди. Только моё теперешнее положение вряд ли может располагать к веселью. Когда-то я был избалованным мальчишкой, который жил припеваючи, не зная забот. По правде говоря, я и в старые времена не был приверженцем султана. Я рос самым обыкновенным ребёнком, чистосердечным и наивным. Можно сказать, я был демократом от рождения.
– Вот этого бы я не сказала, Иффет-бей. Наоборот, вы производите впечатление человека властолюбивого. Я обратила внимание, что вы даже и просите так, будто приказываете.
Я рассмеялся:
– Что вы говорите, ханым-эфенди? Это я-то? Да совсем нет! Я маленький человек; я понимаю своё положение и мирюсь с ним. Вы, возможно, заметили, что я не позволяю себе даже высказывать собственное мнение и спорить с кем-либо, кроме моих учеников?
– Нет, нет, Иффет-бей! Может быть, вы сами того не замечаете, но вы человек очень гордый.
– Ваш покорный слуга, ханым-эфенди, – улыбаясь, возразил я, – считает себя всего лишь благоразумным человеком. Достаточно благоразумным, чтобы не переоценивать своих возможностей. Меня никогда не мучила жажда счастья и успеха, поэтому, попадая в беду, разочаровываясь, я никогда и не унывал, даже на мгновение. Знаете, когда я буду гордиться собой? Когда сумею доказать себе и людям, что и я могу самостоятельно прожить в этом мире, когда собственными силами создам себе положение. Разве человек, рассуждающий вот таким образом, не подлинный демократ?
– Почему же вы в таком случае сторонитесь людей?
– Я?
– Может быть, я неправильно выразила свою мысль? Я хочу сказать: почему вы не такой, как все? Почему же вы не считаете себя равноправным в обществе, ну хотя бы среди людей, которые бывают в доме у Джемиля Керим-бея? Почему в своей стране вы чувствуете себя иностранцем или гостем?
В растерянности я посмотрел на неё, не зная, что ответить. Странно было слышать подобные слова от этой тихой и, казалось бы, совсем простой женщины.
Однако я быстро овладел собой и, собравшись с мыслями, сказал:
– Видите ли, ханым-эфенди, и на это имеются особые причины. Вы знаете, что, по нынешним понятиям, имя нашей семьи опозорено. Позор этот волей или неволей падает и на мою голову. Ведь я не оставил своего отца и последовал за ним в ссылку. Это был мой долг. И будь я теперь таким, как все, мне могут сказать, что я лицемерю. Если быть откровенным, к новому порядку я не питаю никакой ненависти или неприязни.
При упоминании о долге перед отцом Ведия-ханым, очевидно, вспомнила о своём горе, ведь она всё ещё носила траур. Я заметил, как она сразу погрустнела. Она переменила разговор, стала рассказывать мне о своём отце, о его болезни с такими подробностями, словно была убеждена, что я непременно её пойму. Я понимал, что эта исповедь приносит ей утешение; мне почему-то казалось, что никому, даже своему мужу, который должен был быть для неё ближе, чем кто-либо другой, она ничего этого не рассказывала!