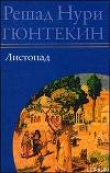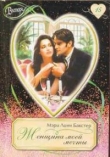Текст книги "Клеймо. Листопад. Мельница"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
XXIV
ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ
Едва закрылась дверь за председателем управы, ветер подул с другой стороны. Хамид-бей вдруг понял, что дружеская беседа с каймакамом затянулась, и сразу посуровел. Пальцы его по привычке стали искать пуговицу на воротничке рубашки и, не найдя ее, застегнули пуговицу пижамы.
– Однако вернемся к нашим делам, каймакам-бей, – сухо сказал мутасарриф.
Халиль Хильми-эфенди все еще улыбался счастливой улыбкой – так он был рад удивительной новости, что у мутасаррифа не оказалось детей. Но, услышав слова Ха– мид-бея, сразу пришел в себя, сдвинул ноги и сложил руки на коленях, подобно школьнику, оказавшемуся перед экзаменатором.
– Не знаю, что и сказать, господин мутасарриф, – произнес он и замолчал.
Говорить друг другу было нечего, и тут, наверное, им следовало бы распрощаться и разойтись. К сожалению, сделать это было невозможно!..
Хамид-бей возвел глаза к потолку, подумал и сказал:
– Во всяком случае, ясно одно: дела обстоят скверно, каймакам-бей. Получив несколько тревожных сообщений, оказавшихся впоследствии ложными, мы были крайне обеспокоены и послали к вам комиссию для оказания помощи. Стамбульские газеты, в свою очередь, раздули полученные ими сообщения, вследствие чего в стране возникло мнение, будто в Сарыпынаре камня на камне не осталось. А на самом деле? Это же буря в стакане воды! Иначе не назовешь… Да, дела обстоят из рук вон плохо. Думаю, вы и сами не станете отрицать этого, каймакам-бей?
Халиль Хильми-эфенди по личному опыту знал, чем может обернуться в подобных случаях нечаянно выскочившее «да!» или «нет!». Он судорожно проглотил слюну, развел руками и изобразил на лице неподдельное огорчение, которое могло означать только одно: «Такова, видно, судьба!»
– Правда, вы были ранены и не могли исполнять свои служебные обязанности, однако…
– Точно так, господин мутасарриф. Согласно диагнозу нашего доктора, я, можно сказать, подвергся смертельной опасности. Господь свидетель: несколько дней я был совсем не в себе!..
– Между тем не вы ли в своей телеграмме сообщили, что с вами ничего серьезного не случилось?
– Но ведь сие как раз и указывает на то, что я не ведал, что творю. У меня даже мысли не возникало, что ранение может помешать мне исполнить служебный долг. Несмотря на жар и сильные боли во всем теле, я объехал город и окрестные деревни…
Последовало еще несколько ничего не значащих вопросов и таких же ответов.
Халиль Хильми-эфенди делал все, чтобы застраховать себя: он неназойливо подчеркивал положительные стороны своей деятельности, а недостатки и промахи сваливал на болезнь, которая, в свою очередь, подтверждалась заключением уездного врача.
Сознавая, что все эти пустые разговоры ни к чему не приведут, мутасарриф начал злиться. Надо заставить каймакама признать вину!.. Иначе губернатор всю вину возложит на него. Этот иттихадист – мастер находить виноватых. Да и должен в конце концов быть козел отпущения, которому полагается нести наказание за все учиненные безобразия.
Господи, до чего ж тяжело! Проникнуться к каймака– му чувством симпатии и тут же хватать его за шиворот и вести на расправу. Просто удивительно: впервые за четыре года он встретил в Анатолии человека, который ему приятен, и теперь он должен собственной рукой затянуть петлю на его шее!.. Тьфу ты, пропасть! Но что остается делать? Служба есть служба!..
И Хамид-бей продолжал задавать вопросы, все с той же невозмутимой вежливостью каждый раз переспрашивая: «Не так ли, бей-эфенди? Ведь правда?..»
Если бы Халиль Хильми-эфенди подтвердил: «Так точно, вы правы!» – все сразу встало бы на свои места. Разве что страдала бы нежная и сердобольная душа мутасаррифа… Однако признание вины из уст самого каймакама могло бы уменьшить эти страдания наполовину.
Или уж пусть бы Халиль Хильми-эфенди возмущался, протестовал, утверждал с наглым видом: «Нет! Вы не правы!» Такой поворот дела тоже облегчил бы решение вопроса, – тогда у Хамид-бея был бы повод рассердиться.
Но каймакам догадывался, что происходит в душе его собеседника, и никак не желал брать вину на себя. Весь его несчастный вид, большое, доброе лицо, так похожее на лицо старого гувернера, и крупные капли пота, возбуждавшие жалость больше, чем слезы, – все взывало к совести мутасарриф-бея.
Безвыходность положения, казалось, усиливала невыносимую духоту в комнате с плотно закрытыми окнами, и бедного мутасаррифа уже прошиб пот, И тут его охватил страх, что он может заболеть воспалением легких, а потом страх превратился в гнев на Халиля Хильми-эфенди, который был этому причиной и виновником всех бед. Вот она – спасительная волна гнева! Только гнев способен был вернуть мутасаррифу силы и энергию, столь необходимые в трудную минуту, только гнев мог помочь ему быть беспристрастным и судить виновного по всей строгости.
– Прекрасно, бей-эфенди! Все – хорошо, все – отлично. Однако что вы скажете по этому поводу? А?
Халиль Хильми-эфенди надел очки и стал рассматривать три листка, протянутые ему мутасаррифом. Это были обыкновенные канцелярские бумаги: препроводительная записка к ежемесячному отчету и еще какие-то документы.
Каймакам, не понимая, чего от него хотят, удивленно моргал глазами.
– Дата подписи двадцать седьмое июля, иными словами, тот самый день – следующий после землетрясения, – когда вы, по вашему утверждению, пребывали вследствие ранений в тяжелом состоянии… Ежели здоровье позволяло вам просматривать документы и подписывать их, то почему же тогда вы не сообщили мне о положении дел хотя бы телеграммой в четыре слова? Ежели вам не на что было расходовать посланные нами деньги, почему же тогда вы не сообщили мне об этом телеграммой в две строки, вместо того чтобы создавать в городской управе комиссию и устраивать вокруг нее суматоху?..
Вопросы мутасаррифа, начинавшиеся с «ежели» и «почему же тогда», сыпались с угрожающей быстротой, без всяких пауз. Они загнали Халиля Хильми-эфенди в тупик. Пока он собирался ответить на один, вдогонку летел следующий, а за ним еще и еще. Потеряв надежду выбраться из этого тупика, бедняга камнем застыл на месте.
Каймакама пугали не сами вопросы, – на них можно было найти ответ, – страшен был голос: от человека, который кричит истерическим бабьим голосом, пощады ждать бесполезно…
Хамид-бей кричал все пронзительнее, и голос его становился все тоньше, а когда он выкрикивал «почему же?», то слова эти звенели, словно тетива лука. И чем пронзительнее кричал мутасарриф, тем уже становились щелочки его глаз, в которых бегали два жалких, растерянных огонька, две ртутные капельки, готовые вот-вот пролиться…
Несчастный Халиль Хильми-эфенди понял: песенка его спета!..
А мутасарриф уже не мог остановиться, он устремился вперед или, точнее сказать, вернулся назад – к событиям, предшествовавшим землетрясению:
– И потом, как вы, бей-эфенди, объясните вечеринку, состоявшуюся в ту самую ночь? Простите, но для меня это просто загадка. Не сама вечеринка, разумеется, а то, что в ней принимал участие солидный, немолодой, высокопоставленный чиновник… Вся беда отсюда и идет. Выходит, что пострадавшие, во главе с самим каймакамом, получили свои ранения именно в этом доме. Не берусь, конечно, утверждать, что ежели бы вы, ваша честь, не были в числе гостей, то и самого происшествия не случилось бы. Но, по крайней мере, в числе раненых не оказалось бы нашего каймакама. Он остался бы в строю и мог бы сообщить нам о действительном положении дел. И тогда в эту историю не впутались бы посторонние лица, не пошли бы пересуды и не было бы всех этих безобразий. Вы понимаете, что, обманутый ложными сообщениями, я всполошил губернатора, понапрасну послал деньги, а потом еще и комиссию для оказания помощи. Из-за вас я попал в скверную историю! Вам это понятно?!
Халиль Хильми-эфенди тяжело вздохнул. И правда, разве не по его вине произошли все эти неприятности? В отчаянии он уже готов был сказать: «Не расстраивайтесь, бей-эфенди… я виноват, все это правда!..» – и положить конец пытке, но чиновничья осторожность – выработавшийся инстинкт самосохранения – помешала сделать такое признание. Вместо этого он сказал:
– Не расстраивайтесь, бей-эфенди. Да хранит вас аллах… Разве я посмею вам слово возразить. Право же, не волнуйтесь, ваша милость. Увольнение вашего покорного слуги разрешит все вопросы. Зачем так расстраиваться? Вам же нездоровится. С вашего разрешения, я дам вам сейчас родниковой воды. Где ваш ташделен? Кажется, вот в этой бутыли?
Халиль Хильми-эфенди направился к оплетенной четверти, стоявшей на полу, около кровати. Он шел, намеренно припадая на одну ногу.
– Прошу вас, садитесь на свое место, каймакам– бей! – строго сказал мутасарриф. – Это не ваша обязанность. А потом, да будет вам известно, я так вспотел, что не могу пить…
Голос Хамид-бея был еще суров, но в нем затеплились уже мирные нотки.
Халиль Хильми-эфенди остановился как вкопанный.
– Простите меня, ваша милость… я не подумал. И правда, вы вспотели. Вам непременно следует сменить рубаху. Еще раз простите меня за дерзость, но я бы вам посоветовал растереться сухим полотенцем. Каковы бы ни были наши служебные отношения, существуют еще и человеческие – мы ведь с вами земляки… Прикажете, я выйду. Подожду в гостиной, покамест вы переоденетесь…
И, не дожидаясь ответа, Халиль Хильми-эфенди вышел, по-прежнему прихрамывая, и осторожно прикрыл за собой дверь.
О, господи, до чего же он похож на гувернера! Хамид– бей с трудом разыскал в чемодане рубаху. Дай бог здоровья Налан-калфе, это она уложила столько пар белья. За это время чистых рубах сильно поубавилось – когда роешься в чемодане, под руку попадаются одни кальсоны.
Но какая прекрасная мысль: прежде чем сменить рубаху, растереть потное тело пушистым полотенцем! Ни он сам, ни Налан-калфа никогда об этом не подумали бы. Право же, есть в бедняге каймакаме что-то располагающее… Однако…
Когда мутасарриф вновь пригласил Халиля Хильми– эфенди в комнату, он чувствовал себя очень слабым: полный упадок сил, как всегда после нервного перенапряжения. От недавнего возмущения не осталось и следа; более того, душа Хамид-бея, полная раскаяния и печали, жаждала согласия и даже взаимного понимания.
После столь трудно давшейся ему вспышки гнева и строгого внушения, которое внесло ясность в их отношения, не следовало, конечно, проявлять мягкосердечие к каймакаму, – это Хамид-бей прекрасно понимал, только совладать с собой был не в силах. Ему захотелось сказать несколько теплых слов, чтобы ободрить Халиля Хильми-эфенди, и, помимо своей воли, он наговорил их без всякой меры. Все закончилось трогательной сценой: оба старика, чуть не плача, готовы были кинуться друг другу в объятия.
И, уже провожая Халиля Хильми-эфенди к двери, Хамид-бей не удержался и дрожащей рукой провел по его печальному лицу, так похожему на лицо старого гувернера. Конечно, если бы каймакам размяк вдруг от неожиданной к нему перемены и вздумал искать снисхождения, пришлось бы выразить недовольство и сказать ему, что дружба дружбой, а служба службой. Но все обошлось, и потому мутасарриф на прощание сказал Халилю Хильми-эфенди несколько обнадеживающих слов, в которых слышалось подлинное сострадание.
Не будь Халиль Хильми-эфенди столь многоопытным чиновником, перевидавшим всякого на своем веку, он еще мог бы поверить этим словам. Но он понимал, что вызвало недолгую вспышку начальственного гнева, подобного волне на озере, которая вскипает вдруг, а потом затихает сама собой. Ему понятны были причины гнева, заставившие этого слабого и совсем не злого человека наброситься на него. И поэтому, вернувшись к себе домой, каймакам горестно вздохнул и произнес:
– Да, видно, плохи мои дела… Погубит он меня, скотина.
XXV
«В РАЗРУШЕННОМ ДОМЕ…»
И началась для Халиля Хильми-эфенди жизнь человека, уволенного в отставку, разжалованного в рядовые… Он редко выходил из дому, с утра до позднего вечера слонялся по комнатам в шелковом халате и ночных туфлях, изредка выходил на раскаленную крышу и ложился, как некогда его больная жена.
Теперь уже никто, кроме Хуршида, не навещал его. Разве что доктор Ариф-бей заглянет изредка.
В беседе с разными людьми мутасарриф допустил кое– какие неосторожные высказывания о каймакаме. Его слова моментально облетели город, и никто не сомневался, что каймакам будет смещен и на этом все кончится.
Как обычно бывает в подобных случаях, сплетни вокруг имени Халиля Хильми-эфенди множились с удивительной быстротой. Больше всего, разумеется, старались те, кто хоть как-то пострадал во время правления каймакама или же был обманут в своих ожиданиях, не получив от него желаемых выгод. К ним присоединились люди, не таившие обид, но которым не нравилась физиономия Халиля Хильми-эфенди, а также те, кто испытывает зависть к любому должностному лицу.
И все они жаловались на старого каймакама. Написал жалобу человек, у которого два года тому назад государ– ство отобрало дом, заплатив слишком мало. Жаловался сторож, которого выгнали за кражу арбузов. Плакалась женщина, требовавшая, чтобы мужа ее, чиновника, бросившего семью с тремя детьми, сняли с должности, – и еще многие, многие другие. Сводились старые счеты. Халиля Хильми-эфенди обвиняли и в том, в чем он действительно был виноват, и в том, что не имело к нему никакого отношения, и в том, что властью каймакама никак не могло быть разрешено, – и обо всем этом немедленно докладывали мутасаррифу.
Хамид-бей, в свою очередь, обо всем докладывал губернатору, отправляя, согласно приказу, по нескольку шифрованных телеграмм в день. Расследовать больше было нечего, все было совершенно ясно, однако разрешение мутасаррифу и членам комиссии вернуться в санджак пока не было получено.
Туманные ответы губернатора, вроде: «Считаю целесообразным и вполне уместным задержаться в Сарыпы– наре еще на несколько дней», – начинали бесить Хамид– бея. И, как назло, рядом ни одного родного человека, которому можно было бы излить душу: Налан-калфа еще не приехала, хотя уже второй день находилась в пути; а Халиль Хильми-эфенди, единственный, кто пришелся ему здесь по сердцу, благодаря роковому стечению обстоятельств оказался главным врагом – надо же, чтобы так случилось! И мутасаррифу приходилось волей-неволей жаловаться Николаки-бею, доверять ему самые что ни на есть сокровенные мысли:
– Нет, ты мне только скажи, доктор, – как-никак ты мне тут самый близкий, – что на уме у этого господина, который зовется губернатором? В прятки он вздумал со мной играть? Ради аллаха, объясни мне, зачем ему надо держать меня здесь? Чего он хочет добиться? Я не мнителен, но мне кажется, тут какой-то подвох… Или он решил сварить меня заживо? Право, не знаю, что и думать… Хотя документ секретный, я тебе его прочту. Знаю, ты не станешь болтать…
В общем-то, мутасаррифа можно было понять. Когда хочешь поскорее вернуться в санджак или попросту домой, а тебе не разрешают неизвестно почему – поневоле на стену полезешь. Правда, дома не найдешь ни такого почета, ни такого покоя, как здесь… Там постоянно надо быть начеку: того и гляди, больная супруга взбеленится и запустит тебе в голову чернильницей или стаканом. Трудно, очень трудно жить все время в напряжении, – просыпаться под крики домашних и засыпать в страхе, что в следующий раз проснешься и увидишь, как жена болтается в петле: глаза выкатились, распухший язык торчит… Все это так, но помимо семейных неурядиц есть и милые сердцу привычки: утренний кофе, который подает Налан-калфа в чашке, привезенной из Мекки; и клистир, который он ставит себе каждые три дня; и любимый стакан, который может однажды угодить ему в висок и стать причиной его смерти, и даже привычный страх, что в любую минуту в него могут полететь кастрюли…
И потом, для столь нервного человека, как Хамид-бей, сама мысль, что он прикован к месту, словно заключенный, и не может уехать, когда ему вздумается, – была невыносима до слез. Хотя, если припомнить, не так уж много времени прошло с тех пор, когда у себя дома, в санджаке, он плакал ночью по той же причине, уткнувшись в подушку, точно мальчик, которого впервые отправляют в пансион. Правда, за последние четыре года он сумел совладать с ночными приступами тоски.
Никаких существенных дел в Сарыпынаре у мутасар– рифа не осталось, однако Хамид-бей предпочитал об этом помалкивать. Кроме того, опасаясь назойливых приглашений, перед которыми трудно устоять, и обильных трапез, он все чаще запирался у себя в комнате и проводил время за чтением жалоб, продолжавших поступать на Халиля Хильми-эфенди. И пусть жалобы были написаны совсем малограмотно или, хуже того, в выражениях непристойных, – они все равно доставляли мутасаррифу удовольствие. Как бы там ни было, жалоба всегда остается жалобой!
Каждая новая бумажка будто изгоняла из его сердца частицу сострадания, которое он еще испытывал к этому человеку с приятным и грустным лицом, напоминавшему ему старого гувернера.
– Ай-ай-ай! Подумать только!.. – восклицал Хамид– бей, перебирая бумаги, на которых были написаны жалобы. – Право же, у этого негодяя грехов больше, чем волос в бороде… Ишь что натворил, бесстыдник. И мне да жалко тебя, эфенди, ты сам во всем виноват… Вот теперь и расплачивайся… Нет, такого человека нельзя защищать…
У мутасаррифа был странный метод проверки жалоб. Он считал, что надо выслушать того, на кого жалуются, и потому время от времени приглашал каймакама для объяснений.
Халиль Хильми-эфенди, получив приглашение, всякий раз сердился и, меняя шелковый халат на цивильное платье, громко возмущался:
– Знаю, проклятый, ты мне все равно башку оторвешь! Ну и ладно, убей, только отвяжись!.. И какого рожна ему еще нужно, окаянному? А впрочем, чего дохлому ишаку волка бояться? Клянусь великим и всемогущим аллахом, на этот раз я ему все, как есть, выложу!
Он плелся по улице, прихрамывая и бормоча под нос. Встречные, видя его сердитое лицо, не осмеливались подойти к нему и быстро сворачивали за угол.
Стоило, однако, Халилю Хильми-эфенди очутиться перед мутасаррифом, как… от его негодования не оставалось и следа.
Впрочем, и Хамид-бей всякий раз намеревался при встрече быть сухим и сдержанным, как того требовал служебный долг. Он даже считал, что в обращении с Халилем Хильми-эфенди необходима подчеркнутая суровость. Но стоило ему увидеть каймакама, как настроение его тотчас же менялось. «Вот чертовщина, приворожил он меня, что ли?» – удивленно думал мутасарриф.
Каймакам осторожно, боком присаживался на предложенный ему стул и, сколько мутасарриф его ни уговаривал расположиться поудобнее, оставался сидеть в той же позе. Только теперь его прихрамывание и манера сидеть не были дипломатической хитростью. Просто на левой ягодице у Халиля Хильми-эфенди вскочил огромный чирей – надо думать, от душевной тоски! И доктор Ариф– бей ни за что не соглашался его вскрыть, пока он не созреет.
– Садитесь поудобнее, бей-эфенди. Не стесняйтесь, прошу вас.
– Не извольте, ваша милость, беспокоиться. Премного вам благодарен. Однако сидеть иначе никак не могу по причине своего нездоровья.
– Ай-ай-ай! А мы вас опять побеспокоили. Но дела того требуют! К сожалению, эфенди, я вновь вынужден вас немного огорчить.
Ну вот! Точь-в-точь Ахмед Масум – его любимое выражение. От этих слов у каймакама начинался приступ бешенства, он готов был кричать истошным голосом, словно стамбульский сторож, возвещающий ночью о пожаре. Ему хотелось возопить; «Послу-у-у-шай! Перестань меня мучить, ради аллаха!..» Только великое самообладание помогало ему сдержаться…
– Итак, эфенди, – продолжал Хамид-бей, – может быть, это не столь уж серьезно, но, сами понимаете… Имеются сведения, что здешние бездельники с давних пор лазают по садам, пользуясь тем, что калитки не заперты, и наносят материальный ущерб владельцам. Несмотря на то что вам неоднократно жаловались на сии действия…
Или:
– Несмотря на то, что вас уже несколько раз ставили в известность о том, что молодые люди беспутного поведения шатаются по вечерам около начальной женской школы, пристают к девочкам и молодым учительницам…
И так далее и тому подобное…
Когда это ему жаловались на бездельников, лазающих по садам, которых он, оказывается, не призвал к порядку? Что это за молодые люди беспутного поведения, которым он, видите ли, не запретил шататься по вечерам около женской школы? Ничего об этом он, разумеется, не знал, но хорошо понимал, что защищаться бесполезно, со всем соглашался и устало кивал, приговаривая: «Да, да…»
И правда, что могло измениться, если на воз, который все равно не в состоянии был потянуть старый, беззащитный человек, взвалить еще нескольких бездельников и шалопаев? И он говорил: «Да, да…» Но однажды, не в силах совладать с собой, вдруг добавил:
– А что мне остается делать, как не соглашаться, ваше превосходительство бей-эфенди… На мне места живого не осталось…
Мутасарриф насторожился. Что это? Каймакам ответил дерзостью?! Дерзкие слова нельзя оставлять безнаказанными!.. За это следует дать строгий нагоняй. Впрочем, что толку ругать безответного и немощного?.. Нагоняем его не проймешь, а лежачего – не бьют. Да и зачем понапрасну беднягу мучить? Не сегодня-завтра его и так со свету сживут…
Да, каймакам ответил дерзостью, и оставлять безнаказанными дерзкие слова не следует. Но ведь Халиль Хильми-эфенди все упущения по службе формально принял на себя. Что ж, тем легче на сердце у мутасаррифа. А может, было бы лучше, если бы каймакам покричал немного, душу отвел… К сожалению, он способен лишь прислуживать да угодничать, оскорбляй его смертельно, все равно в ответ будет только печально глядеть, – до чего же он труслив, услужлив и благовоспитан. Это у него в крови, таков его характер, и единственно, кем он может быть, – это гувернером… Его, Хамид-бея, гувернером, – даже теперь, спустя сорок с лишним лет, мутасарриф словно наяву видит его лицо, слышит его голос…
Ах, если бы мог Хамид-бей открыть каймакаму душу! В сердце этого человека нашлось бы куда больше понимания и сочувствия, чем у доктора Николаки-бея. И уж, наверно, Халиль Хильми-эфенди сумел бы успокоить его, рассеять опасения. Бедное дитя Стамбула, беспомощный шестидесятилетний ребенок, заброшенный на чужбину, оставленный здесь без своей няньки, старухи Налан-калфы… До чего же он несчастен, – ну точно пичужка под чужим небом, под чужим солнцем – и гнезда-то у него нет, и голову приклонить негде!.. А сидит напротив в неудобной позе другой несчастный – родственная душа. Но не смеет мутасарриф искать у него сочувствия, даже о воде или погоде поговорить не может: ведь неизвестно, к чему такой разговор приведет. Как это печально! Комок к горлу подступает – до того себя жалко…
Хамид-бей проводил каймакама и дрожащим голосом сказал ему на прощание добрые напутственные слова, а потом погрузился в долгое раздумье, лишь изредка прерывая его, чтобы вслух прочесть полюбившуюся ему строчку:
В разрушенном доме жена и малые чада…
А, на улице другой старик, понурившись, опустив долу глаза, вторил ему, будто печальное эхо:
В разрушенном доме…