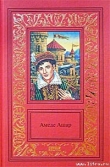Текст книги "Королевская примула
Роман"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Почему не три?
– В третьем жил несчастный человек…
– Что же не помогли ему?
– Тот несчастный человек имел много денег и давал их в рост.
– То есть приходил людям на помощь в трудную минуту?
– Ну это как рассуждать. Мы все приходим друг к другу на помощь. Но только такого обычая нет, чтобы из этого выгоду себе извлекать.
Вообще Джекоб Харрисон любил споры и считал, что умеет спорить, отстаивать свое мнение, опровергать доводы противника. Это искусство он начал постигать на первых студенческих диспутах, а потом оно не раз помогало ему, когда приходилось сталкиваться с людьми, равными по положению и по знаниям. Но тогда, разговаривая с крестьянином, он не без огорчения понял, что в этом споре перевешивает не его чаша, он вдруг почувствовал, что вынужден пасовать перед бесхитростной житейской правдой немолодого баска.
…Праздник в доме крестьянина длился несколько дней.
Харрисон и Луис много бродили по деревне, и Харрисон делал записи в большом блокноте, еще хранившем торопливые предотъездные лондонские заметки: что не забыть купить, что взять с собой, кому нанести прощальные визиты.
«Дома у басков прямоугольные, первый этаж каменный, второй – деревянный. Крыши черепичные. По дому не отличишь – бедный или богатый человек живет в нем (странная особенность, к которой следует приглядеться). Кукурузу хранят в деревянных амбарах на высоких столбах. Поднимаются в амбары по бревнам, в которых вырублены ступеньки».
«Дома – кассерио – лежат разбросанно; в центре – церковь, Луис говорит, что и другие селения выглядят так же: в середине, на холме или пригорке церковь, а вокруг нее кассерио».
«На некоторых домах – фамильные гербы, некая композиция из четырех картинок. Часто встречается котелок на цепочке над очагом, символ домовитости. Церковь (в этом селении ее называют „иглесия“, в других – „елиза“) украшена каменным орнаментом, выполненным, должно быть, шесть или семь веков назад (постараться расспросить старосту и крестьян, когда построена церковь). Космические мотивы баскских орнаментов; солнце с изогнутыми лучами, луна в различных фазах. Кстати, луна по-баскски „илларги“, а смерть – „ил“. По преданиям души басков после смерти переселяются на луну. У кого читал об этом предании? Проверить».
Время от времени Харрисон просил у Луиса извинения, тот молча подставлял спину; положив на нее блокнот, Джекоб аккуратным неторопливым почерком вписывал наблюдения. Однажды они остановились недалеко от мальчишек, игравших в чехарду. Те сразу забыли про игру и, окружив незнакомцев, молча уставились на них. Мальчишки стояли вокруг Джекоба Харрисона и Луиса и с каким-то равнодушным любопытством слушали, о чем они друг с другом говорили.
– Приятель, – сказал одному из них Харрисон, – так долго смотреть на меня бесплатно нельзя. Вон там, за углом, продают билеты, пойди купи и тогда смотри сколько хочешь.
Прежде чем произнести эту баскскую фразу, Харрисон несколько раз повторил ее про себя, чтобы не ошибиться, была у него такая симпатичная привычка.
Но мальчишка, к которому он обратился, продолжал стоять как ни в чем не бывало.
Тогда самый старший из ребят сказал:
– Он вас не понял. Он из другой деревни, вон оттуда. – И показал на вершину крутой горы, увенчанной полуразрушенной крепостью.
– А что, разве в той деревне живут не баски? – спросил Харрисон.
– Баски, баски, но они говорят по-другому, там начинается другая провинция.
Луис с улыбкой слушал беседу. Потом сказал:
– Этот малыш из Герники. Из той самой Герники, где рос дуб…
– Неужели это так близко, я много слышал о вашем знаменитом дубе, почему бы нам не сходить туда? А разве там говорят на другом языке?
– Нет, на другом диалекте. Но к нему можно быстро привыкнуть. Я думаю, что хозяин, если его как следует попросить, отпустит нас туда на день, на два.
Харрисон хорошо помнил ту поездку.
Пара быков безропотно и отрешенно тащила коляску в гору по неширокой каменистой колее. Шли быки со скоростью трех или четырех километров в час, повозка немилосердно подпрыгивала и скрипела. Харрисон попробовал было пойти пешком, но метров через шестьсот остановился перевести дух, быки величественно прошли мимо него; Луис подвинулся, освобождая место для англичанина.
Был жаркий октябрьский день, после недолгого своего путешествия Харрисон вспотел и сейчас, полулежа на свежей соломе, мечтал о прохладной ванне или душе. Харрисон не любил жары, с трудом переносил ее; он начал уже жалеть о поездке, как вдруг за поворотом открылась деревушка, утопавшая в садах, поворот кончился, повеяло свежим ветерком.
Луис показал на церквушку, видневшуюся в километре, и заметил, что в той церкви можно встретить одного просвещенного монаха, с которым было бы. небезынтересно познакомиться Харрисону.
Старец сидел в тени за деревянным столом, на котором были четыре тарелки, кувшин с вином, круг белого сыра, огурцы, вареные яйца и еще не остывшая кукурузная лепешка размером с хорошую сковороду.
Харрисону показалось, что они приехали не вовремя, что хозяин кого-то ждет, и он спросил по-английски Луиса, удобно ли им останавливаться здесь.
– Вполне удобно, – как ни в чем не бывало ответил монах, – это я вас жду.
– Как же вам сообщили? У вас что, радио или телефон?
– У нас свое радио, – с улыбкой ответил монах. – Старое, старое радио, которому не нужно электричества. Мне просвистели снизу, что к нам едет Луис, к кому же он должен был приехать первым делом, как не ко мне? Он сам виноват, что никого не послал предупредить… А теперь буду угощать вас чем бог послал.
Звали монаха, как и отца Луиса, Мелитоном.
«Старику лет за семьдесят», – подумал поначалу профессор. Но оказалось, что монаху почти девяносто, потому что он, между прочим, упомянул, что помнит первую карлистскую войну и сам участвовал во второй. Харрисон хорошо знал, чем обернулось поражение карлистов в 1876 году для басков, потерявших все свои фуэрос – привилегии: таможенные, налоговые и прочие – и слегка удивился, увидев книгу, которую читал хозяин, ожидая гостей. «Жизнь и деяния Альфонса Двенадцатого» – было написано на обложке. Альфонс и был тем королем, который, мстя баскам за преданность Карлу, лишил их старых вольностей.
Словно бы прочитав его мысли, монах сказал:
– А он был большой пройдоха, нет, нет, я не о короле, король само собой, я о достославном отце Игнасио, который взял на себя труд описать жизнь короля. Если верить отцу Игнасио, ни до, ни после Альфонса не было на земле столь просвещенного, гуманного и прозорливого правителя. Все его поступки продиктованы высшими идеалами, а все его речи – благородными побуждениями. Сам же Игнасио был пьяницей, какого свет не видел. Но имел почет и уважение при дворе. А сейчас его книга читается как веселый анекдот. Люблю такие книги.
Мелитон подождал, пока погонщик распряжет быков и задаст им корм, пригласил его к столу, тот из-за приличия несколько раз отказался, давая понять, что не место ему за одним столом с такими высокочтимыми господами. Луис недовольно буркнул: «Ну бросай свои церемонии, дай кусок хлеба съесть, не томи, присаживайся». Погонщика уже дожидался стакан белого вина, гость, не зная, куда девать большие руки, положил их на стол, убрал, преодолевая стеснение, взял стакан, приподнял его и со словами: «Да будет мир в твоей обители, отец», неторопливо выпил.
– Заспиак бат, – проговорил монах и пригубил из стакана.
– Заспиак бат, – откликнулся Луис.
– Ваше здоровье, – произнес Харрисон, не зная, пристало ли ему, чужеземцу, повторять баскскую здравицу.
Этот древний клич: «семь как один!» – родился когда-то здесь, в Гернике, и был связан с национальной святыней басков – Герникским дубом.
Харрисон вспомнил гимн:
Могучий дуб
растет в наших горах,
семь ветвей у дуба:
три во Франции расцвели,
четыре – в Испании,
а корень у них один.
После трапезы они направились к месту, где когда-то рос дуб.
– Пять человек с трудом обхватывали его, а лет ему было много раз по сто, – произнес Мелитон. – Вот здесь когда-то, под ветвями, собирались старейшины нашего рода – вырабатывали законы, судили, и их суд был для басков высшим на земле. Теперь времена немного не те, но и сейчас сходятся здесь старики, когда надо всем миром что-то решить. И из дальних краев приезжают баски поклониться святому месту. В прошлом году из Мексики приезжали. Некоторые плакали. Взяли с собой землю. Щедрую лепту оставили церкви… Эх, где только не живут сегодня баски… Разнесло по свету. Пусть будут вместе душой. Заспиак бат!
Они беседовали за кувшином вина до позднего вечера, а утром проснувшийся раньше других монах принес весть о том, что приехал отец Луиса Мелитон Эчебария с двумя незнакомыми людьми. Кажется, из России…
Тогда и познакомился Харрисон с профессором Георгием Девдариани и его сыном Давидом.
Помнил Харрисон, как удивленно говорил молодой гость монаху:
– Ну почему зовут Мелитоном моего друга Эчебария, я еще могу догадаться… У него в роду были рудокопы и мастера-металлисты… Ну откуда, извините меня, это имя у вас, у служителя церкви? Дело в том, что по-нашему, по-грузински «мелитоне» – «человек, имеющий дело с металлом».
– Если судить по церковным книгам, мои не такие уж далекие предки тоже добывали железо. Собственно, как и большинство жителей этих мест. Баскония – это железо.
…С Эчебария Харрисон поддерживал связь все последние годы. А от Девдариани-старшего получил только одно письмо. Узнал, что он эмигрировал во Францию, а сын его стал революционером и погиб в гражданскую войну.
Харрисону были нужны союзники на Кавказе. До войны он мечтал о широкой комплексной экспедиции, в которой были бы антропологи, этнографы, лингвисты… Эта экспедиция должна была провести несколько лет в Грузии, а потом несколько лет в Басконии… Далеко уносили мечты.
У него не осталось сына. Не осталось жены. Дело, которому он служил столько лет, не дало плодов.
Старый друг, чтобы скрасить горечь его поражения, сказал, что науке нужны и такие бесплодные труды. Какое дело ему, Харрисону, до других! Чем жить ему, во что верить?
Он собирался в Бомбей, в университет, где открылась вакансия на кафедре английского языка.
Он хотел плыть морем, потом раздумал и решил первый раз в жизни полететь самолетом.
В тот самый день, когда он обратился в контору, занимающуюся перевозкой вещей на большие расстояния, радио сообщило из Испании: 16 июля 1936 года там вспыхнул мятеж. Харрисон читал сообщения агентства Гавас о том, что немецкие летчики разбомбили несколько деревень в баскских провинциях. Харрисон вспомнил монаха Мелитона и ребятишек, игравших на площадке у церкви.
Через несколько дней в английской газете появилось обращение, подписанное священниками, художниками, писателями, – помочь сиротам Испании.
Профессор Харрисон позвонил в транспортную контору и вежливо уведомил ее, что раздумал уезжать в Индию. Путь его лежал в Испанию, где шла гражданская война.
Глава вторая. Ожидание
Через два дня после сдачи государственных экзаменов я переехал к старикам Пуни. У дядюшки Диего что-то с сердцем, а у Кристин – с ногами: распухли, ходит с трудом. Диего держался, крепился и вдруг сдал, слег в постель.
Мы с Шалвой приглашены в аспирантуру, у нас около двух свободных месяцев. Старики обрадовались: не так им будет одиноко. Они преданы друг другу, как Филемон и Бавкида из древнего мифа, и не смогут друг без друга. Мне жаль их старость без детей. У Пуни неплохой приемник, в первую же ночь мы слушали французское радио.
Париж сообщал, что в испанский порт прибыли советские корабли с медикаментами, продовольствием, самолетами, танками и пушками. А еще прибыли добровольцы, которые поведут эти танки и самолеты в бой.
Я знал, что придет такой час. Рад, что он пришел. Итальянские и немецкие фашисты послали свои войска на помощь Франко. «Что же мы? Когда же мы?» – думал не раз.
Я оттягивал принятие окончательного решения до той поры, пока не узнаю, что кто-то из наших поехал туда. Теперь такая пора пришла.
Меня принял заместитель военкома и, когда узнал, по какому я делу, посоветовал прийти поздно вечером, когда военком будет менее занят делами.
Военком сказал мне так, как говорил, должно быть, уже многим:
– Я не могу ничего обещать. Я не имею на этот счет никаких указаний. Я советую написать вам в Москву, в «Правду» или в «Известия» и высказать свой про-тест против фашистского вмешательства в Испанию. Больше ничем помочь не могу.
Я ответил, что мог бы быть полезен там.
– Все так говорят, – хмуро парировал военком.
– Да, но я знаю испанский, немного, но знаю и уже давно изучаю историю басков…
– Для того чтобы сражаться в Испании, нужно владеть не языком, нужно владеть оружием, там насмерть бой.
– Знаю об этом. Что вам показать – значки Ворошиловского стрелка, ГТО или, может быть, ПВХО? Но, если бы я сказал вам, что владею немецким, вы бы приняли от меня заявление?
– Не знаю… может быть, и принял бы… если бы получил указание.
– Послушайте, товарищ военком… Я с вами разговариваю как комсомолец с коммунистом. Я потерял в гражданскую войну отца, он был командиром красной роты. Другим я не рассказывал об этом… Но вам, товарищ военком, говорю, чтобы вы поняли, что привело меня сюда. Я должен поехать в Испанию, и я поеду туда. Посоветуйте, что я должен сделать… Я могу принести рекомендации…
– Так какими языками владеешь?
– Немецким, думаете, не будет нужды в переводчике? Ведь там батальон немецких антифашистов, и испанским.
– А как испанский изучал?
– С одним испанцем. И по учебникам.
– А знаешь что, давай-ка твой адрес, а вдруг удастся.
– Можно зайти к вам, дорогой товарищ военком?
– Сам вызову, если понадобишься. Пока никому не говори, да и потом тоже.
Через неделю я получил повестку. Военком вызвал меня и долго беседовал в присутствии незнакомого человека с двумя шпалами на петлицах. Попросил ненадолго выйти. Минут через пять пригласил снова и предложил пройти медицинскую комиссию. Во всех графах-медицинской карты стояло: «Здоров, жалоб нет».
Военком сказал, что мои дела идут нормально.
Был первый час ночи, мама стирала на кухне, Мито сладко посапывал в кроватке, по радио передавали сообщения о битве под Мадридом. Тенгиз отвинтил один наушник, протянул его мне. Диктор читал кольцовские строки:
«На фронте у Мадрида относительная тишина. Зато фашисты снова перенесли огонь прямо на город. Сегодня ночью артиллерийский обстрел, какого уже не было добрых два месяца. От полуночи до двух с половиной часов утра я подсчитал свыше двухсот пятидесяти разрывов, на этот раз в центре города… Никогда еще артиллеристы не имели перед собой такой огромной и выгодной мишени, как в 1937 году, в Испании».
– Слышишь, – негромко произнес Тенгиз, – какой город уничтожают. Что же там творится такое? Немцы со своими танками, итальянцы со своими пушками, а мы что смотрим? Двинуть бы туда пару дивизий…
Незадолго до того прошли маневры Белорусского военного округа, два или три раза мы видели их в киножурналах, танки бесстрашно и стремительно шли на «вражеские» укрепленные пункты и сметали их огнем и гусеницами; много других фильмов о маневрах я видел, но никогда еще не испытывал такой уверенности, что нет в мире армии, которая могла бы сравниться с нашей. Стране нужны были такие фильмы и такая уверенность. И не один Тенгиз думал, а почему не двинуть те танки и тех танкистов в Испанию на помощь братьям-испанцам.
Диктор продолжал читать корреспонденцию Михаила Кольцова: «Один взрыв сверкнул где-то совсем рядом; в нашем доме вылетело несколько окон; утром невозмутимые мадридские уборщицы, оживленно болтая, убирали щебень от непрочной штукатурки.
В мадридских больницах и моргах новая сотня раненых и убитых. Безвинные жертвы, они отдали свою кровь и жизнь только за то, что осмеливаются жить и дышать в республиканском антифашистском Мадриде».
Я положил на стол наушник и сказал негромко, чтобы не разбудить Мито и чтобы не услышала мама:
– Я еду туда, Тенгиз. Кажется, еду. Только никому ни слова.
Тенгиз никогда ничему не удивлялся, будто слово такое дал – не удивляться, не изумляться, не волноваться – не к лицу это невропатологу, который должен уметь успокаивать других. Он и сейчас не удивился. Неторопливо снял с головы дужку с наушником, подошел к розетке, вытянул штепсель, спросил:
– Мама знает?
– Нет.
Ему было приятно услышать это «нет». Значит, доверяю, и не матери родной, а ему говорю первому о своем решении.
– Все хорошо взвесил? Значит, наши все же там есть? – огорчился вестью о возможной разлуке и обрадовался неожиданной мысли: «Значит, наши там есть!» – А что будешь делать?
– Главное, умею стрелять… Кроме того, испанский и немецкий… Там в интернациональных бригадах полно немцев из разных стран, язык может пригодиться.
– И давно начал это самое?.. Давно подал заявление?
– Примерно месяц назад, но не хотел говорить до поры до времени никому, пока не получу ответа.
– А как отнесется к этому делу мама?
– Поймет меня. Смогу убедить.
– Да… То есть нет… Дело, по-моему, предстоит тебе не из самых легких. А что, надолго собираешься?
– Разве знаю? Хочу верить, что до победы, что мне доведется попасть к баскам.
– А как Шалва?
– Он не едет, со зрением у него сам знаешь как. Но на меня не в обиде.
Предстояла долгая разлука с дорогим человеком, ставшим мне вторым отцом. Хотелось сказать Тенгизу, как давно вынашивал эту мысль, откуда узнал о наших добровольцах, с кем беседовал. Хотелось сказать многое…
– А Циала? Как с Циалой?
С Циалой предстоял нелегкий разговор.
За несколько месяцев до того, в ноябре 1936 года, мы получили приглашение на ртвели – сбор винограда – к Варламу. Приехали гости из Кутаиси, Тифлиса, Хашури. Ртвели – повод для встречи старых друзей и родственников. Мы с Циалой привезли нехитрые подарки детишкам. Оказалось, что приехали позже других. Гости, собрав первые корзины, сидели за столами, накрытыми во дворе под большим ореховым деревом. Нас встретили старым приветствием: «Пусть здравствует, кто прибыл», дали по стакану вина и по куску хачапури: мы выпили, но не присели, и никто нас не уговаривал – обычай есть обычай, – каждый прибывший должен собрать свою корзину винограда.
Мы взяли корзины и отправились в виноградник.
Солнце садилось. Мы срезали по нескольку гроздей, положили их в корзину и уселись рядом. Я молча протянул Циале большую гроздь, она, не взяв ее из рук, потянулась к ней губами, я отодвинул гроздь и поцеловал ее. Я сделал это не очень смело. Помнил день, когда поцеловал ее первый раз. Это было перед похоронами Мелко, мы шли к станции под проливным дождем, платье Циалы словно было приклеено к телу. Я поцеловал ее, и она поцеловала меня. Нас догнал жулик-фотограф Леван, мы обменялись с ним двумя-тремя фразами, отстали от него. Циала еще раз поцеловала меня и бросилась бежать. Я догнал ее. Она посмотрела на меня строго и приказала не подходить. После этого она долго не разговаривала со мной. С тех пор у меня был условный рефлекс, я много раз целовал ее во сне и ни разу наяву, я подумал, что сейчас она убежит опять… Сердце запрыгало. Циала не отпрянула, не закрыла лица рукой.
Я вспомнил старую песенку;
Поцелую, и что будет.
Не поцелую, но как?
Меня уносило далеко, далеко. Я слишком любил, слишком дорожил этим человеком, я не имел права переступить какой-то черты, я понимал это. Но где мне было взять силу не переступить ее?
Я первый раз увидел, нет, почувствовал тугие груди Циалы. Вдали пролетел светлячок. Циала гладила горячей и чуть влажной рукой мое лицо, шею. На противоположном склоне под крепостью зажглись огоньки. Начали концерт цикады. Время проносилось мимо. Над нами было светлое лунное небо, и на его фоне таинственно темнела крепость Мелискари. Прогрохотал поезд. Где-то далеко послышалась песня. Время постепенно обретало привычный ход. Мы ничего не говорили друг другу. Мне хотелось плакать. Или петь. Циала гладила меня.
Откуда-то сверху раздался голос Наны:
– Циала, Отар, где вы там пропали, не заблудились?
Приставив руки рупором ко рту, я прошептал:
– Мы пропали, мы пропали!
– Мы заблудились, – в тон мне ответила Циала. – Люди, помогите нам…
– Помогите нам собрать эти две корзины винограда. Что вы подумаете о нас, если увидите, что наши корзины пусты?
– Боже, на кого я похожа? – с ужасом спросила Циала.
– На богиню, – ответил я.
В театре Руставели – «Отелло» с Хоравой и Васадзе. У меня два билета в партер. Первый раз в жизни я буду сидеть в партере. На дальних подступах к театру нас с Циалой встречают заискивающими улыбками.
– У вас, конечно, нет лишнего билета.
– Вы, разумеется, не хотите никому продать билет.
В нашем городе просят без вопросительных интонаций: чтобы не огорчаться отказом, спрашивающий заранее настраивает себя, да и вам приятней сказать «да», чем «нет».
Ко мне подошло человек пятнадцать. Я раз пятнадцать сказал;
– Да, я не имею билета, – и сожалеюще пожимал плечами.
Когда играли два знаменитых тезки, Акакий Алексеевич Хорава и Акакий Алексеевич Васадзе, когда они играли один – Отелло, а другой – Яго, Тбилиси немного сходил с ума.
Сзади нас сидел Керим Аджар с женой, мы приветливо поздоровались и уступили им место, те никак не соглашались наконец с миллионом извинений пересели вперед.
Я не думаю, что в мире есть много таких театров, где переживания, боль, ревность и ненависть Отелло принимаются к сердцу столь близко, как в тбилисском театре.
Не только пылкие юноши – самые степенные и рассудительные граждане, привыкшие держать в узде свои страсти, готовы крикнуть Отелло: не верь этому поганцу Яго, Дездемона не виновата, понимаешь, не виновата! Это все Яго подстроил с платком!
Когда играют Хорава и Васадзе, мне тоже хочется помочь этому несчастному Отелло, любовь ослепляет так же, как и ненависть. Когда Отелло душит Дездемону, Циала тайком вытаскивает платок.
– Смотри, – говорю я тихо, – я скоро могу уехать, чтобы с этим платком ничего не произошло.
Я долго думал, как начать разговор с Циалой об отъезде; ее платок неожиданно помог мне.
Циала ничего не ответила, но, когда мы вышли из театра, она взяла меня под руку и, глядя снизу вверх в глаза, спросила:
– Куда ты собрался, милый? Один? Без меня?
– Я не сказал тебе, что обязательно уеду. Я сказал, что могу уехать. И если уеду один, без тебя, ты лучше, чем кто-нибудь другой, сможешь понять…
– Куда же ты?
– Не могу говорить.
– Кому, мне не можешь?
– Ни тебе, ни маме. Я связан обязательством.
– То есть ты хочешь сказать, что принял решение единолично, ни с кем не посоветовавшись, никому ничего не сказав. По-моему, так поступают только самонадеянные и, не сердись, очень самолюбивые люди. Ты что, в Испанию собрался?
– Я могу никуда не поехать. Меня могут никуда не взять. Но если возьмут, я буду счастливым человеком. Как бы тяжела ни была разлука с тобой.
– Слова… А с Шалвой ты говорил?
– С Шалвой говорил. Еще до того, как написал заявление.
– Ну и что он?
– Он считает, что один из нас должен был сделать это. Он знал, что у него с его… этой самой близорукостью было меньше шансов.
Мы шли по проспекту Руставели, и молодые люди, подпирающие стены домов (поэтому так долго держатся дома на этом проспекте), провожали ее взглядами и с завистью посматривали на меня; мне всегда было приятно так вот ходить с ней, чувствовать ее руку, ее тепло, ее обволакивающий взгляд. Это друг. Как друг она должна понять, что есть причина, заставляющая меня поступить так, как я поступил.
Циала шла большими плавными шагами, стараясь подстроиться под мой шаг. Она плотно прижалась ко мне и спросила топом тихим и спокойным:
– А как бы ты поступил, если бы я сказала тебе, что жду ребенка? Мне кажется… возможно, это и не так (она постаралась произнести эти слова с моей интонацией), но, мне кажется, я жду ребенка.
Я хотел сказать: «Циала, жизнь моя, радость моя!»
Но ничего не сказал. Я подхватил ее на руки, она отчаянно замахала ногами, стараясь высвободиться; на нас с удивлением смотрели прохожие, милиционер попробовал сделать мне внушение, я поцеловал Циалу крепко-крепко и опустил на землю.
– А если тебя убьют?
Я почему-то никогда не думал об этом. Знал, что еду туда, где бой, где стреляют, где разрываются снаряды и где бомбы падают с неба на мирных жителей. Но только сейчас, только в эту минуту, посмотрел на себя со стороны, начал думать не о том, что будет со мной, если меня тяжело ранят. Что будет с Циалой, не стану ли я ей обузой на всю жизнь? А если убьют?
Может быть, сейчас, в эту минуту, я был бы счастлив, если бы мне отказали в поездке? Так спросил я себя и ответил без раздумий – нет, я не был бы счастлив, я сделал бы все, чтобы поехать. Это мой долг, моя обязанность перед тем, что для меня свято, что составляет мою сущность, я могу так думать и не имею права никому об этом говорить. Не потому только, что моя поездка засекречена. А потому еще, что есть вещи, о которых нельзя говорить громко.
– Меня не убьют, Циала. Я знаю, не убьют.
– Успокаиваешь меня или себя?
Когда мы вернулись из Харагоули, я спросил: «Мог бы я поговорить с твоим отцом?» – «О чем?» – спросила она. «Ну, как по-твоему, о чем я собираюсь поговорить». – «Перестань, я не хочу связывать тебя семьей. Ты мой, и этого мне достаточно… Пока…»
Я не думаю, что многие так поступают на ее месте.
– А если тебя убьют? Что будет со мной, что будет с малышом?
– Циала, мы завтра пойдем с тобой в загс.
– Разве загс дает охранную грамоту? Разве эта грамота защищает от пуль?
В загсе было торжественно. За коричневой скатертью из марли сидел пожилой, исполненный достоинства субъект в дореволюционном пенсне. Он, не сказав ни слова, протянул два бланка, пока мы писали, сменил воду в блюдце с бумагой-мухомором, потом, получив бланки, подозрительно оглядел нас и предложил пройти в соседнюю комнату.
В соседней комнате сидела пучеглазая дама, водившая пальцем левой руки по разграфленному листу, а правой щелкавшая на счетах. Она что-то шептала про себя. Чувствовалось, что это была натура цельная, способная с головой окунаться в работу. Из таких часто вырастали гении.
Мы вошли и сиротливо выстроились у стены, не считая удобным отрывать человека от работы. Всем своим видом пучеглазая дама показывала, какое у нее важное и неотложное дело. Она подсчитала числа сверху вниз, под чертой написала сумму, потом стала складывать те же числа снизу вверх, я подумал, хорошо бы, сошлось. Но у нее что-то там не сошлось. Дама слегка чертыхнулась и, обведя нас невидящим взглядом, снова принялась за подсчеты. Она водила пальцем сверху вниз, не дождавшись, пока палец упрется в последнюю цифру, к ней подошел Шалва (я не могу сказать, что это был самый выдержанный член нашей компании; он вечно торопился и старался показать всему миру свою принципиальность в борьбе с бюрократизмом и волокитой). Он с трудом сдерживал себя.
– Эти граждане пришли сюда, чтобы с вашей помощью засвидетельствовать самое приятное и значительное событие в своей жизни. Мы уже пятнадцать минут ждем, когда вы кончите считать. Если у вас что-нибудь не получается, я с удовольствием вам помогу.
– Мне не требуется ничьей помощи, – в тон ему ответила дама. После этого она стала еще важнее; – Я не занимаюсь личным делом. До вас приходило шесть человек регистрировать браки и смерть, и никто не торопил меня.
Циала начала слегка постукивать носком туфли по полу.
– Но вы могли бы завершить эту работу, когда мы уйдем? – неприязненно спросил Шалва. Он явно шел на скандал.
– У меня квартальный отчет: понимаете, я не в игрушки играю, – отчеканила дама.
– Сколько же нам ждать?
– Послушайте, вы кто, жених?
– Нет, я невеста, – торопливо ответил Шалва.
– Пришли хулиганить? Кто здесь жених?
Я сделал несмелый шаг вперед.
– Вот вы и останьтесь с невестой. А остальных прошу выйти.
– Я лично никуда не выйду, – вызывающе произнес Шалва.
– Ах не выйдете? Прекрасно. А я не буду оформлять брака, пока вы не уйдете.
В комнату начали заглядывать посторонние. Пока шли подсчеты и дебаты, выстроилась очередь человек из восьми, им не терпелось быстрее покончить с делами, напрасно искал среди них сочувствия Шалва. Идя в бой, он никогда не думал о тыле и о своих резервах. Вот и сейчас он обратился к тем, кто был за нами, ища сочувствия.
Народ зароптал и вылил на голову бедного Шалвы ушат презрения.
– Чего человека зря от работы отвлекаете? Вы что здесь, одни, что ли? Не обращайте на него внимания, гражданка. Он не виноват, это родители виноваты, что так его воспитали, – произнес квадратный гражданин с огромной палкой и перстнем – череп и кости – на среднем пальце.
Я боялся испорченного вечера. Я хотел быть миролюбивым и терпеливым, надеясь, что эти качества пригодятся определенным образом в семейной жизни. Я многое бы дал, чтобы быстрее уйти отсюда. Но, видимо, в моей книге судеб было предначертано иначе.
– Шалва, неужели ты его не знаешь? Это бригадир носильщиков на вокзале. Рекомендую тебе не связываться с ним. При мне он нес три чемодана и два мешка.
– Ах это я носильщик? Я сейчас этой палкой твою пустую голову пробью. Ты знаешь, кто я? – оппонент полез в карман за удостоверением.
Пучеглазая гражданка ничуть не жалела, что события приняли такой оборот. В ее глазах появилось нечто отдаленно напоминающее интерес к жизни. Она четко, определила свою роль в начинавшемся конфликте и, как показалось мне, многое бы дала, чтобы он не заглох. Вздохнув, она обратилась к компании квадратного человека:
– Вот в такой обстановке я вынуждена работать. Руки опускаются, ей-богу.
– А вы не регистрируйте их, – посоветовала очередь. – Давайте, проходите следующие.
– Нет, нет, не держите меня, – уговаривал неизвестно кого гражданин с палкой. Я никак не мог понять, какая роль принадлежит ему в той компании. Он не был похож годами на отца и не был похож на жениха.
До этой минуты стоявший недалеко от меня Федя был молчалив и задумчив, но тут не выдержал, подошел к квадратному гражданину и, дыхнув ему в лицо, чтобы лишить сил и уверенности в себе, угрожающе прошептал:
– А ну пойдем, товарищ носильщик, я немного поучу, как вести себя в интеллигентном обществе. – Не ожидая согласия оппонента, Федя дернул его за лацкан.
Тот обвел беспомощным взглядом тех, перед кем так хотел покрасоваться, но среди ближних не нашлось желающих вступиться за него. Увидев якорь на руке Феди и признав в нем бывшего представителя Военно-Морского Флота, квадратный гражданин сник:
– Да вы что? Вы словами говорите, а рукам воли не давайте. Я ведь рукам воли не давал. Посмотрите на этого джигита. – И оппонент льстиво глянул на Федю.
Федя стушевался. Он подготовил себя к иному обороту и теперь просто не знал, как быть. Он вопросительно посмотрел на меня, я взглядом попросил его подойти к даме за столом.