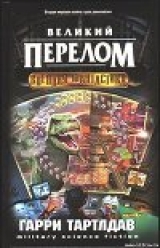
Текст книги "Великий перелом"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 43 страниц)
Мордехай Анелевич снова щелкнул пальцами, на этот раз расстроено.
– Нет, но я должен был сообразить, – сказал он, рассердившись на себя. – Бордель вполне мог стать для него хорошим укрытием, не так ли? – Он слегка поклонился Ягеру. – Благодарю. Сам я об этом не подумал.
Людмила до этого тоже не додумалась бы. Мир за пределами Советского Союза, помимо роскоши, имел и неизвестные ей формы разложения. «Декаденты», – снова подумала она. Что ж. Ей надо привыкать к этому. На родину ей не вернуться, ни теперь, ни когда-либо – если только она не предпочтет бесконечные годы в гулаге или, что более вероятно, быстрый конец от пули в затылок. Она отбросила прежнюю жизнь так же бесповоротно, как Ягер – свою. Оставался вопрос: смогут они вместе построить новую жизнь здесь? Другого выбора у них не было?
Если они не остановят Скорцени, ответ окажется удручающе очевидным.
Анелевич сказал:
– Я возвращаюсь в помещение пожарной команды: мне надо выяснить некоторые вопросы. Меня не особенно беспокоят «нафкех»… проститутки, – уточнил он, когда увидел, что ни Людмила, ни Ягер не поняли слово на идиш, – но кто-то займется и ими. Мужчины – эго мужчины, даже евреи. – И он вызывающе посмотрел на Ягера.
Немец, к облегчению Людмилы, не стал возмущаться.
– Мужчины – это мужчины, – миролюбиво согласился он. – Разве я был бы здесь, если бы думал иначе?
– Нет, – сказал Анелевич. – Мужчины – это мужчины, даже немцы.
Он прикоснулся пальцем к полям своей шляпы, взял на плечо винтовку и поспешил прочь.
Ягер вздохнул.
– Похоже, легко не будет, как бы сильно мы этого ни желали. Даже если мы задержим Скорцени, мы все равно останемся изгнанниками. – Он рассмеялся. – Мы окажемся в гораздо худшем положении, чем изгнанники, если ко мне снова привяжется СС.
– Я только что подумала то же самое, – сказала Людмила. – Только имела в виду не СС, а НКВД, конечно.
Она весело улыбнулась. Если два человека подумали одновременно об одном и том же, значит, они хорошо подходят друг другу. Для нее в Генрихе Ягере сосредоточился весь мир, и она не верила, что если двое так хорошо подходят друг другу, то она может остаться в одиночестве. Ее взгляд скользнул в сторону постели. Улыбка чуть изменилась. Здесь они хорошо подходили друг другу, это точно.
Затем Ягер сказал:
– Что ж, это неудивительно. У нас нет ничего другого, кроме предположений, не так ли? Мы здесь – и Скорцени.
– Да, – сказала Людмила, раздосадованная своим плохим немецким, и перешла на русский. То, что она приняла за добрый знак, для Ягера было лишь банальностью. И ей стало досадно, что она не смогла скрыть, как закружилась ее голова.
На столе лежал ломоть черного хлеба. Ягер отправился в кухню и возвратился, держа нож с костяной ручкой, которым разделил хлеб надвое. Он протянул Людмиле половину и без малейшей иронии сказал:
– Германский сервис во всей красе.
Это он пошутил? Или ожидал, что она поймет его буквально? Она размышляла все время, пока ела свой завтрак. Ее тревожило, как, в сущности, мало знает она о человеке, которому помогла спастись и чью судьбу она связала со своей Ей не хотелось думать об этом.
Когда она улетела вместе с ним, он чудом вырвался из лап СС. Конечно, тогда у него не было оружия. После того как он попал в Лодзь, Анелевич дал ему «шмайссер» – в знак доверия, причем даже большего, чем он мог бы допустить. Ягер потратил много времени, используя масло, щетки и тряпки, чтобы привести автомат в состояние, которое он счел достойным боевых условий.
Теперь он начал проверять его снова. Наблюдая за тем, каким напряженным стало его лицо, Людмила фыркнула – и от восхищения, и от досады. Поскольку он не поднял взгляда, она фыркнула снова и громче. Это отвлекло его и напомнило, что он не один. Она сказала:
– Иногда я думаю, что вы, немцы, должны жениться на машинах, а не на людях. Шульц, сержант, – ты ведешь себя точно так же. как он.
– Если ты заботишься о своих инструментах как следует, то они позаботятся о тебе, когда это понадобится, – автоматически проговорил Ягер, будто рассказывал таблицу умножения. – Если они нужны тебе, чтобы остаться в живых, то лучше как следует позаботиться о них, а иначе будет поздно упрекать себя за небрежение.
– Дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, как ты это делаешь: словно в мире нет больше ничего, только ты и машина, какая бы она ни была, и ты слушаешь только ее. За русскими я никогда такого не замечала. Шульц все делал точно так же. Он хорошо думал о тебе. Возможно, он старался быть похожим на тебя.
Похоже, это позабавило Ягера, проверявшего действие взводного механизма: он кивнул сам себе и надел «шмайссер» через плечо.
– Ты как-то говорила мне, что он тоже нашел русскую подругу?
– Да. Я не думаю, что у них все получилось так хорошо, как у нас, но все равно – да.
Людмила не стала рассказывать ему, сколько времени потратил Шульц, пытаясь стянуть с нее брюки, до встречи с Татьяной. Она не намеревалась рассказывать ему об этом. Шульц ничего не добился, и ей даже не понадобилось врезать ему по морде стволом пистолета, чтобы он убрал от нее свои лапы.
Ягер встал:
– Пойдем-ка и мы в помещение пожарной команды. Я хочу кое-что сказать Анелевичу. Не только в борделях – Скорцени может найти убежище и в церкви. Он – австриец, а значит, католик или, вероятно, воспитан как католик, но вообще это человек наименее набожный из тех, кого я знаю. Значит, появляется еще одно или несколько мест, где надо его искать.
– Сколько у тебя разных идей! – Людмила и не подумала бы о чем-то, связанном с религией. А здесь это устаревшее учреждение оказалось стратегически важным. – Да, я думаю, стоит проверить. Та часть Лодзи, которая нееврейская, как раз католическая?
– Да.
Ягер направился к двери. Людмила последовала за ним.
Держась за руки, они спустились по лестнице. Пожарная команда находилась всего в нескольких кварталах – надо было пройти по улице, повернуть на Лутомирскую – и вы уже на месте.
Они пошли по улице. Они собирались повернуть на Лутомирскую, когда сильный удар, похожий на наступление конца света, сотряс воздух. В этот страшный момент Людмила подумала, что Скорцени взорвал свою бомбу, несмотря на все то, что они сделали, чтобы остановить его.
Но затем, когда стекла вылетели из окон, она поняла, что ошиблась. Этот взрыв произошел неподалеку. Как взрывается бомба из взрывчатого металла, она видела. Если бы она находилась так близко от места ядерного взрыва, то была бы мертвой прежде, чем поняла, что произошло.
Люди кричали. Некоторые убегали от места, где взорвалась бомба, другие бежали к нему, чтобы помочь раненым. Среди последних были и они с Ягером, они бежали, расталкивая мужчин и женщин, бегущих навстречу.
Уши заложило, но она слышала обрывки фраз на идиш и на польском: «…повозка перед… остановилась там… человек ушел прочь… взорвалась перед…»
Затем она подошла достаточно близко, чтобы увидеть, где была взорвана бомба. Здание пожарной команды на Лутомирской улице превратилось в кучу обломков, сквозь которые начало пробиваться пламя.
– Боже мой, – тихо сказала она.
Ягер смотрел на ошеломленные и истекающие кровью жертвы с мрачной решимостью на лице.
– Где же Анелевич? – спросил он, словно желая, чтобы боевой лидер евреев возник из развалин. Затем добавил еще одно слово: – Скорцени.
Глава 20
Ящер по имени Ойяг кивнул головой, изображая покорность.
– Будет выполнено, благородный господин, – сказал он. – Мы будем выполнять все нормы, которые вы требуете от нас.
– Это хорошо, старший самец, – ответил на языке Расы Давид Нуссбойм. – Если так, ваши пайки будут увеличены до нормальных ежедневных норм.
После смерти Уссмака ящеры из барака-3 стали работать, так сильно не дотягивая до нормы, что голодали – а точнее, стали еще более голодными. Теперь наконец новый старший самец, хоть и не обладавший высоким статусом до пленения, начал силой заставлять их выполнять норму.
Ойяг, по мнению Нуссбойма, мог бы стать лучшим старшим самцом для барака, чем Уссмак. Этот последний, может быть, потому, что был мятежником, старался вызвать возмущение и в лагере. Если бы полковник Скрябин не нашел способа сорвать голодную забастовку, которую начал Уссмак, неизвестно, сколько беспорядка и нарушений это вызвало бы.
Ойяг повращал глазами во все стороны, убедившись, что никто из самцов в бараке не проявляет ненужного внимания к его разговору с Нуссбоймом. Он понизил голос и заговорил на ломаном русском:
– Есть еще одно дело, и я сделаю, если вы скажете, что вам это нравится.
– Да, – сказал Нуссбойм.
Он вышел из барака и направился к штабу лагеря. Удача была на его стороне. Когда он подошел к кабинету полковника Скрябина, секретарь коменданта отсутствовал. Нуссбойм остановился в двери и стал ждать, чтобы его заметили.
И действительно, Скрябин поднял взгляд от донесения, над которым работал. После того как началось перемирие, поезда приходили в лагерь регулярно. И бумаги теперь хватало, поэтому Скрябин наверстывал бюрократическую переписку, которую ему пришлось отложить просто потому, что не на чем было писать.
– Входи, Нуссбойм, – сказал он по-польски, положив ручку.
Чернильные пальцы на его пальцах показывали, насколько он был занят. Казалось, он обрадовался возможности сделать перерыв. Нуссбойм поклонился. Он надеялся застать полковника в добродушном настроении, и его надежда осуществилась. Скрябин указал на стул перед столом.
– Садись. Ты ведь пришел ко мне не без причины?
«Лучше, чтобы ты не тратил зря моего времени» – означали его слова.
– Да. гражданин полковник. – Нуссбойм с благодарностью уселся. Скрябин был в хорошем настроении: не каждый раз он предлагал стул и не всегда говорил по-польски, заставляя в таких случаях Нуссбойма разгадывать указания на русском. – Я могу доложить, что налажено сотрудничество с новым старшим самцом ящеров. У нас будет гораздо меньше неприятностей от барака-3. чем было в прошлом.
– Хорошо. – Скрябин сжал испачканные в чернилах пальцы. – Это все?
Нуссбойм поспешил ответить:
– Нет, гражданин полковник.
Скрябин кивнул – если бы его прервали только для такого пустякового доклада, он заставил бы Нуссбойма пожалеть об этом. Переводчик продолжил:
– Другой вопрос, однако, настолько деликатен, что я колеблюсь представить его вашему вниманию.
Он был рад, что может говорить со Скрябиным по-польски: по-русски он бы так выразиться не смог.
– Деликатный? – Комендант лагеря поднял бровь. – Мы редко слышим подобные слова в этом месте.
– Я понимаю. Однако… – Нуссбойм оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что стол позади него все еще не занят, – это относится к вашему секретарю Апфельбауму.
– В самом деле? – Скрябин придал голосу безразличие. – Хорошо. Продолжай. Внимательно слушаю. Так что там насчет Апфельбаума?
– Позавчера, гражданин полковник, мы с Апфельбаумом и Ойягом шли возле барака-3, обсуждая способы, с помощью которых пленные ящеры могли бы выполнять норму. – Нуссбойм подбирал слова с большой осторожностью. – И Апфельбаум сказал, что жизнь каждого стала бы легче, если бы великий Сталин – должен сказать, он использовал этот титул саркастически, – если бы великий Сталин так же беспокоился о том, сколько советские люди едят, как он беспокоится о том, насколько упорно они работают для него. Это в точности то, что он сказал. Он говорил на русском, а не на идиш, так что и Ойяг мог понять его, а поскольку я понял с трудом, то попросил его повторить Он это сделал, и во второй раз это прозвучало еще более саркастически.
– В самом деле? – спросил Скрябин. Нуссбойм кивнул. Скрябин почесал голову. – И ящер тоже слышал это и понял? – Нуссбойм кивнул снова. Полковник НКВД посмотрел на дощатый потолок. – Я полагаю, он может сделать заявление об этом?
– Если потребуется, гражданин полковник, я думаю, что он сделает, – ответил Нуссбойм. – Вероятно, мне не следовало упоминать, но…
– Но тем не менее, – тяжко сказал Скрябин. – Я полагаю, ты считаешь необходимым написать формальное письменное обличение Апфельбаума.
Нуссбойм изобразил нежелание.
– Я бы не хотел. Как вы помните, когда-то я обличил одного из зэков, с которым прежде работал, так вот теперь мне этого не хотелось бы делать. Меня осенило, что так будет…
– Полезнее? – предположил Скрябин.
Нуссбойм посмотрел на него широко раскрытыми глазами, радуясь тому, что тот не может прочитать его мысли Нет, Скрябина не случайно поставили начальником лагеря. Полковник полез в свой стол и вынул бланк с непонятными указаниями, сделанными русскими буквами.
– Напиши, что он сказал. Можно по-польски или на идиш. Мы будем хранить его в деле. Я полагаю, что ящер может говорить об этом всем и каждому. А ты, конечно, таких вещей допускать не должен.
– Гражданин полковник, эта мысль никогда не могла бы прийти мне в голову. – Нуссбойм блестяще изобразил потрясенную невинность.
Он сознавал, что лжет, как лжет и полковник Скрябин. Но здесь, как и в любой другой игре, существовали свои правила. Он взял ручку и принялся быстро писать. Поставив подпись в конце доноса, он протянул бумагу Скрябину.
Он предположил, что Апфельбаум и сам придет с доносом. Но он выбрал свою цель предусмотрительно. Клерку Скрябина придется туго, когда он станет переубеждать своих политических друзей, отвергая выдвинутые обвинения: они недолюбливали его за то, что он подлизывался к коменданту, и за привилегии, которые он получал как помощник Скрябина. Обычные зэки презирали его – они презирали всех политических. И он не знал никого из ящеров.
Скрябин сказал:
– Если бы это я узнал от другого человека, то мог бы подумать, что цель этого изобличения – занять место Апфельбаума.
– Вряд ли вы можете так говорить обо мне, – ответил Нуссбойм. – Я не могу занять его место и никогда не подумал бы, что смогу. Если бы в лагере использовался польский язык или идиш, то да, вы могли бы так подумать обо мне. Но я недостаточно знаю русский, чтобы делать эту работу. Все, что я хочу, – чтобы стала известна правда.
– У тебя добродетельная душа, – сухо сказал Скрябин. – Однако замечу, что добродетель не всегда является достоинством на пути к успеху.
– Именно так, гражданин полковник, – сказал Нуссбойм.
«Будь осторожнее», – намекнул ему комендант. Он и намеревался быть осторожным. Если он добьется того, что Апфельбаума выгонят с должности, отправят с позором в более жуткий лагерь, здесь все может сдвинуться. Его собственное положение улучшится. Теперь, когда он признан таким же, как политические[32]32
Автор находится в странной уверенности, что политические заключенные находились в лагерях в лучших условиях, нежели уголовники. – Прим. ред.
[Закрыть], и связался с администрацией лагеря, он задумался, как лучше использовать преимущества ситуации, в которой он находится.
В конце концов, если вы не позаботитесь о себе, кто позаботится о вас? Он чувствовал себя жалким после того, как Скрябин заставил его подписать первый донос – против Ивана Федорова. Но на этот раз донос не беспокоил его вовсе.
Скрябин небрежно сказал:
– Завтра прибудет поезд с новой партией заключенных. Мне дали понять, что целых два вагона будет с женщинами.
– Это очень интересно, – сказал Нуссбойм. – Спасибо, что вы сказали мне.
Разумные женщины пристроятся к наиболее влиятельным людям в лагере: в первую очередь к администрации и охранникам, затем к заключенным[33]33
Еще одно странное заблуждение автора – Прим. ред.
[Закрыть], которые в силах сделать их жизнь сносной… или что-то в этом роде. Те, которые не сообразят, что для них хорошо, отправятся валить деревья и рыть канавы, как прочие зэки.
Нуссбойм улыбнулся про себя. Наверняка человек такой… практичный, как он, сможет найти такую же… практичную женщину для себя – может быть, даже такую, которая говорит на идиш. Где бы вы ни были, вы делаете, что можете. Главное – выжить.
* * *
Ящер с фонарем приблизился к костру, за которым Остолоп Дэниелс и Герман Малдун тешились байками.
– Это вы, лейтенант Дэниелс? – спросил он на приличном английском языке.
– Это я, – согласился Остолоп. – Подходите ближе, лидер малой боевой группы Чуук. Садитесь. Вы собираетесь завтра утром покинуть эти места – это верно?
– Истинно так, – сказал Чуук. – Мы больше не будем в Иллинойсе. Мы двигаться прочь, сначала главная база в Кентукки, затем прочь из этой не-империи Соединенные Штаты. Я говорю вам две веши, лейтенант Дэниелс. Первая вещь есть: я не сожалею уходить. Вторая вещь есть: я пришел сказать прощайте.
– Это очень любезно, – сказал Остолоп. – Прощайте и вы тоже.
– Сентиментальный ящер, – сказал Малдун, фыркнув от смеха. – Кто бы подумал, а?
– Чуук – неплохой парень, – ответил Дэниелс. – Как он сказал, когда было заключено перемирие с ним и с ящерами, которыми он командовал, у нас с ним больше общего, чем с нашими же начальничками.
– Да, это, пожалуй, правильно, – ответил Малдун одновременно с Чууком, который снова произнес свое «истинно».
Малдун не унимался:
– Было похоже на прежнюю войну, не так ли? Мы и немцы в окопах, и мы были похожи друг на друга, будь я проклят, как это верно. Покажи этим парням в чистеньком вошь – и они упадут замертво.
– Я также имею для вас вопрос, лейтенант Дэниелс, – сказал Чуук. – Вам не будет досадно, что я спрошу вас это?
– Что именно? – сказал Остолоп. Затем он сообразил, что имел в виду ящер. Английский Чуука был приличным, но далеким от совершенства. – Валяйте, спрашивайте, о чем хотите. Вы и я, мы оба в довольно хороших отношениях, раз уж прекратили лупить друг друга по голове. Ваши заботы очень похожи на мои, как в зеркале.
– Вот что я хочу спросить тогда, – сказал Чуук. – Теперь, когда эта война, эта битва сделана, что вы будете делать?
Герман Малдун тихо присвистнул сквозь зубы. Остолоп тоже.
– Вот это вопрос, – сказал он. – В первую очередь, я думаю, надо посмотреть, сколько времени еще армия захочет содержать меня. Меня ведь уже не назовешь молодым человеком. – Он потер свой щетинистый подбородок. Большая часть щетины была белой, а не каштановой.
– Что вы будете делать, если вы не солдат? – спросил ящер.
Остолоп объяснил, что, может быть, снова станет бейсбольным менеджером. Он подумал, не следует ли ему рассказать о бейсболе, но не стал.
Чуук сказал:
– Я видел тосевитов, некоторые почти детеныши, некоторые больше, играющие эту игру. Вам платить за возглавление команды их? – Он добавил вопросительное покашливание. Когда Остолоп подтвердил, что так и будет, ящер сказал: – Вы должны быть очень искусен быть способным делать это за деньги. Будете это снова во время мира?
– Не знаю, – ответил Дэниелс. – Кто скажет, что будет с бейсболом, когда все выправится? Я полагаю, что первое, что я сделаю, когда уйду из армии, так это отправлюсь домой в Миссисипи, чтобы посмотреть, остался ли кто-нибудь в живых из моей семьи.
Чуук издал звук, выражающий удивление. Он показал на запад, в сторону великой реки.
– Вы живете на лодке? Ваш дом есть на Миссисипи?
Остолопу пришлось объяснить разницу между Миссисипи-рекой и штатом Миссисипи. Когда он закончил, ящер сказал:
– У вас, Больших Уродов, временами для одного места больше чем одно имя, иногда у вас больше чем одно место на одно имя. Это сбивает с толк. Я скажу небольшой секрет, что одна или две атаки были неправильны из-за этого.
– Может быть, нам стоило назвать каждый город в сельской местности Джоунсвиллем, – сказал Герман Малдун и расхохотался собственной шутке.
Чуук тоже расхохотался, открыв рот так, что отражение пламени костра заблестело на его зубах и змеином языке.
– Вы не удивили меня, вы, тосевиты, если вы будете делать эту вещь. – Он показал на Дэниелса. – Тогда прежде, чем вы стали солдат, вы командовать бейсбольные люди. Вы есть лидер от детеныш?
И снова Остолопу потребовалось время, чтобы понять ящера.
– Прирожденный лидер, вы имеете в виду? – И он снова расхохотался и хохотал громко и долго. – Я вырос на ферме в Миссисипи сам по себе. Там были негры-арендаторы, которые обрабатывали поля больше, чем были у моего папочки. Я стал менеджером потому, что мне не хотелось вечно ходить за мулом, а потому я сбежал и стал играть в мяч. Я никогда не был великим, но был очень неплохим.
– Я слышать прежде такие рассказы о неповиновении властям от тосевиты, – сказал Чуук. – Мне они очень странны. Мы не любим таких среди Расы.
Остолоп задумался над этим: целая планета ящеров, каждый занимается своей работой и проживает свою жизнь по указке. Получается очень похоже на то, что хотели сделать с народом красные и нацисты, только еще хуже. Но для Чуука этот порядок вещей казался таким же естественным, как вода для рыбы. Он не задумывался над плохими сторонами системы просто потому, что она наполняла его жизнь порядком и значением.
– А как насчет вас, лидер малой боевой группы? – спросил Дэниелс Чуука. – После того как вы, ящеры, уйдете из США, что вы будете делать дальше?
– Я останусь быть солдат, – отвечал ящер. – После этого перемирия с вашей не-империей я отправляюсь в другую часть Тосев-3, где перемирия нет, я воюю дальше с Большие Уроды, пока раньше или позже Раса победит там. Затем я иду на новое место и делаю то же самое. Все это на годы до прибудет флот колонизации.
– Значит, вы стали солдатом, как только вылупились? – спросил Остолоп. – Вы не могли делать что-нибудь еще, когда ваши большие боссы решили захватить Землю и просто призвали вас на войну?
– Так было бы сумасшествие! – воскликнул Чуук. Может быть, он понял Остолопа слишком буквально, а может быть, и нет. – Сто и пять десятков лет назад Шестьдесят Третий Император Фатуз, который правил тогда, а теперь помогает наблюдать за душами наших умерших, установил Солдатское Время.
Остолоп смог по звучанию почувствовать в словах заглавные буквы, но не мог понять, что они означают.
– Солдатское Время? – переспросил он.
– Да, Солдатское Время, – сказал ящер. – Время, когда Расе требуются солдаты. Вначале подготовить самцов, которые пойдут флот вторжения, потом в моей группе возраста и группа до моей – самцы, которые будут снаряжать флот.
– Минутку. – Остолоп поднял негнущийся скорченный указательный палец. – Вы хотите сказать мне, что когда у вас не Солдатское Время, то у вас, ящеров, нет солдат?
– Если мы не строить флот вторжения принести новый мир в Империю, какая нужда мы имеем солдаты? – Чуук обернулся. – Мы не воюем сами с собой. Работевляне и халессианцы есть разумные субъекты. Они не тосевиты, буйствовать, когда захотят. У нас есть данные делать самцы-солдаты, когда Император, – он опустил взгляд к земле, – решает: мы нуждаемся в них. За тысячи лет времени мы не нуждаемся. У вас, Больших Уродов, другое? Вы воевали свою войну, когда мы прибыли. Вы имеете солдаты во время между войны?
Это прозвучало так, словно он спросил: когда вы сморкаетесь, то вытираете руки о штаны? Остолоп посмотрел на Малдуна. Малдун уже смотрел на него.
– Да, когда мы не воюем, то содержим парочку-другую солдат, – сказал Остолоп.
– На случай, если они нам понадобятся, – сухо добавил Малдун.
– Это растрата ресурса, – сказал Чуук.
– Еще более расточительно – не иметь солдат наготове, – сказал Остолоп, – на тот случай, когда их у вас нет, а у страны за соседней дверью есть, и тогда они отобьют у вас имущество, возьмут то, что было вашим, чтобы использовать для себя.
У ящера язык выскочил наружу, метнулся в воздухе и снова спрятался во рту.
– А, – сказал он. – Теперь я имею понимание. Вы всегда имеете врага у соседняя дверь. У нас в Расе вещь другая. После того как Императоры, – он снова посмотрел в землю, – сделали весь Родина одним под их правление, какая нужда нам солдаты? Мы имеем нужда только во время завоевания. Тогда правящий Император объявил Солдатское Время. После конец завоевание мы больше солдаты не нуждаемся. Мы их на пенсию, дадим им умирать и готовить новых не будем до нового времени нужды.
Остолоп тихо и удивленно присвистнул. А Герман Малдун пропел с удивительно хорошим акцентом кокни:
– Старые солдаты никогда не умирают. Они только исчезают. – Он повернулся к Чууку и объяснил: – У нас есть такая песня. Я слышал ее во время последней большой войны. Но у вас, ящеров, получается так, будто вы на самом деле поступаете, как в этой песне. Разве не чепуха?
– Мы так поступаем на Родине. Мы так поступаем на Работев-2. Мы так поступаем на Халесс-1, – сказал Чуук. – Здесь, на Тосев-3, кто знает, как мы поступаем? Здесь, на Тосев-3, кто знает, как поступать? Может быть, один день, лейтенант Дэниелс, мы воевать снова.
– Но только не со мной, – сразу сказал Остолоп. – Когда меня уволят из армии, то обратно уже не возьмут. А если они это сделают, результат им не понравится. Все те бои, через которые я прошел, выжали меня. Лидер малой боевой группы Чуук, вам надо выбрать кого-нибудь помоложе.
– Двоих помоложе, – согласился сержант Малдун.
– Я желаю вы оба хорошей удачи, – сказал Чуук. – Мы воевали один с другим. Теперь мы не воюем, и мы не враги. Пусть остается так.
Он повернулся и вышел из круга желтого света костра.
– В самом деле так? – удивленно спросил Малдун. – Я имею в виду, такое может быть на самом деле?
– Да, – ответил Остолоп, точно понимая, о чем тот говорит. – Когда они не ведут войну, у них нет солдат. Хотите, чтобы у нас было так же, не правда ли? – Он не стал дожидаться, когда Малдун кивнет, это произошло автоматически, как дыхание. Он просто заговорил мечтательным голосом: – Никаких солдат, на сотни, может быть, тысячи лет…
Он сделал длинный выдох, мечтая о сигарете.
– После этого вы, может, пожелаете, чтобы они победили, не так ли? – сказал Малдун.
– Да, – сказал Остолоп. – Может быть.
* * *
То, на чем лежал Мордехай Анелевич, никак не могло быть мягкой постелью. Он поднялся на ноги. Что-то текло по щеке. Когда он провел по ней рукой, ладонь оказалась красной.
Берта Флейшман лежала на улице среди разбросанных кирпичей, с которых он только что поднялся. У нее был порез на ноге и еще один, гораздо худший, на голове сбоку, кровь пропитала волосы. Она стонала: слов не было, только стон. Глаза ее были затуманены.
Охваченный страхом, Мордехай нагнулся и поднял ее на руки. Его голова была наполнена шипящим шумом, как будто гигантский воздушный шланг шипел между ушами. Сквозь этот шум он не слышал не только стонов Берты, но и криков, воплей, стонов десятков, может быть, сотен раненых людей.
Если бы он прошел еще полсотни метров, он не был бы ранен. Он был бы мертв. Понимание этого медленно вошло в его оцепеневший мозг.
– Если бы я не остановился, чтобы побеседовать с тобой… – сказал он Берте.
Она кивнула, все еще с отсутствующим выражением лица.
– Что произошло? – Ее губы произнесли эти слова, но они не прозвучали – а может быть, Анелевич оглох сильнее, чем ему казалось.
– Какой-то взрыв, – сказал он, затем, гораздо позднее, чем следовало, он сообразил: – Бомба.
Ему понадобилось еще несколько секунд, прежде чем он выпалил:
– Скорцени!
Берта Флейшман услышала только это имя.
– Боже мой! – сказала она так громко, что Анелевич услышал и понял. – Мы должны остановить его!
Это сущая правда. Они должны остановить его, если смогут. Ящерам это никогда не удавалось. Анелевич подумал, по силам ли это кому-то вообще. Так или иначе, требовалось найти способ.
Он осмотрелся. Среди всего этого хаоса сидел на корточках Генрих Ягер, вытягивая бинт из аптечки на своем поясе. Старый еврей, который протянул ему поврежденную руку, не знал и не беспокоился о том, что перед ним танкист, полковник вермахта. И Ягер – судя по тому, как умело и осторожно он работал, – не беспокоился о религии человека, которому он помогал. Рядом с ним его русская подруга – еще одна история, о которой Анелевич знал меньше, чем ему хотелось бы, – перевязывала окровавленное колено маленького мальчика чем-то похожим на старый шерстяной носок.
Анелевич хлопнул Ягера по плечу. Немец крутнулся на месте, схватив автомат, который он положил на мостовую, чтобы помочь старику.
– Вы живы! – сказал он с облегчением, узнав Мордехая.
– По крайней мере, я так думаю. – Анелевич обвел рукой окружающий хаос. – Ваш друг грубо играет.
– Это то самое, о чем я говорил вам, – ответил немей. Он тоже посмотрел по сторонам, но очень быстро. – Это, вероятно, диверсия – и вероятно, не единственная. И где бы ни находилась бомба, правильнее думать, что Скорцени уже близко от нее.
И, как по команде, еще один взрыв потряс Лодзь. Звук его прикатил с востока: прикинув направление, Анелевич решил, что он произошел неподалеку от разрушенной фабрики, где прятали украденную бомбу. Он не сказал Ягеру, где находится фабрика, потому что не вполне доверял ему. Теперь этим придется поступиться. Если Скорцени где-то там, ему пригодится любая помощь, которую он сможет получить.
– Идемте, – сказал он.
Ягер кивнул, быстро закончил бинтовать и схватил свой «шмайссер». Русская девушка – летчица Людмила – достала свой пистолет. Анелевич кивнул. Они отправились в путь. Мордехай обернулся к Берте, но она снова повалилась на мостовую. Ему хотелось взять ее с собой, но идти она не могла, а ждать нельзя было. Следующий взрыв может случиться уже не в пожарном депо, не в каком-то отдельном здании. Это может быть вся Лодзь.
От помещения пожарной команды не осталось ничего. Пламя от торящего бензина высоко поднималось над обломками – это горела пожарная машина. Мордехай пнул изо всех сил кусок кирпича, попавший под ногу. Здесь был Соломон Грувер. Потом – если он остался жив – он будет очень недоволен.
Винтовка «маузера» колотила в плечо, когда он спешил. Это его не беспокоило – он замечал ее только временами. А вот патронов у него в карманах осталось маловато. В винтовке была полная обойма, пять патронов, в карманах – еще на одну или две обоймы. Он не собирался сегодня идти в бой.
– Сколько у вас патронов? – спросил он Ягера.
– Полный магазин в автомате и еще один здесь. – Немец показал на свой пояс. – Всего шестьдесят штук.
Это уже лучше, но все же не так хорошо, как надеялся Мордехай. Магазин автомата можно выпустить за несколько секунд. Он напомнил себе, что Ягер все-таки полковник-танкист. Если германский солдат – а тем более германский офицер – не способен соблюдать дисциплину огня, то кто же?
Наверное, никто. Когда пули летят над головой, поддерживать любую дисциплину становится трудно.
– И еще у меня есть патроны в пистолете, – сказала Людмила.
Анелевич кивнул. Она шла с ними. Казалось, что Ягер согласен, что она имеет право идти с ними, но Ягер ведь спал с нею, поэтому его мнение пристрастно. С другой стороны, она советская летчица и партизанила здесь, в Польше, так что, в конце концов, она может оказаться полезной. Его собственные бойцы-женщины доказали, что могут выполнять работу, которую не способны выполнять некоторые мужчины.
Он прошел мимо многих собственных бойцов, когда вместе с Ягером и Людмилой спешил к разрушенной фабрике.








