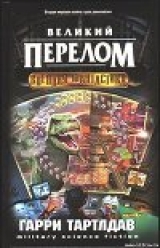
Текст книги "Великий перелом"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)
– По сравнению с маленькими чешуйчатыми дьяволами реакционеры гоминьдана прогрессивны. Я отмечаю это, хотя и не люблю их. По сравнению с маленькими чешуйчатыми дьяволами более прогрессивны даже вы, японские империалисты. Я тоже отмечаю это.
– Аригато[25]25
Спасибо (яп.) – Прим. перев.
[Закрыть], – сказал майор, вежливо и сардонически поклонившись.
– Мы раньше выступали вместе против чешуйчатых дьяволов. – Нье знал, что это, мягко говоря, преувеличение. Но японцы, все вместе и каждый в отдельности, были гораздо лучшими солдатами, чем солдаты и Народно-освободительной армии, и гоминьдана. Если бы отряд Мори вступил в местный народный фронт, то маленьким чешуйчатым дьяволам не поздоровилось бы. Поэтому Нье сделал еще одну попытку:
– Артиллерийские снаряды, которыми вы снабдили нас. сослужили хорошую службу, и маленькие дьяволы понесли большие потери.
– Лично я рад, что это так, – ответил Мори. – Но в то время, когда вы получали от меня эти снаряды, маленькие дьяволы и Япония находились в состоянии войны. Сейчас, похоже, положение другое. Если мы присоединимся к нападениям на чешуйчатых дьяволов и нас опознают, то все шансы на мирный договор будут уничтожены. Без прямого приказа с Родных Островов я этого делать не буду, что бы я ни чувствовал сам.
Нье Хо-Т’инг поднялся на ноги.
– Тогда я возвращаюсь в Пекин.
В этих словах сквозило скрытое предупреждение: если японцы не позволят ему вернуться или застрелят его, то целью китайских атак станут они, а не маленькие дьяволы.
У Мори, хоть он и был всего лишь восточным дьяволом, хватило мозгов понять предупреждение. Он тоже встал и поклонился Нье.
– Как я сказал, я лично желаю вам удачи в борьбе против маленьких чешуйчатых дьяволов. Но когда речь идет о нуждах страны, личные желания должны отступить.
Будь он марксистом-ленинцем, он выразился бы другими словами, но смысл остался бы прежним.
– Я тоже не испытываю к вам личной неприязни, – попрощался Нье.
Он выбрался из японского лагеря, расположенного где-то в сельской местности, и направился в Пекин.
Земля на дороге рассыпалась под его сандалиями. Стрекозы пролетали мимо, выполняя маневры, недоступные никакому истребителю. Крестьяне и их жены гнули спины на пшеничных и просяных полях, занимаясь бесконечной прополкой. Если бы Нье был художником, а не солдатом, он остановился бы, чтобы сделать наброски.
Но он думал вовсе не об искусстве. Он думал о том, что японцы майора Мори слишком долго находятся поблизости от Пекина. Маленькие чешуйчатые дьяволы, если бы когда-нибудь им пришло такое в голову, могут использовать японцев против народного фронта точно так же, как гоминьдан использовал войска ящеров против Народно-освободительной армии. Это позволит маленьким дьяволам воевать с китайцами, не подставляя под пули свои войска.
Он ничего не имел против японского майора, нет. Он уважал его, как солдата, но это лишь ухудшало ситуацию: потенциально японец представлял большую опасность. Острая, как бритва, логика диалектики вела к неизбежному заключению: гнездо Мори должно быть ликвидировано как можно скорее.
– Это даже к лучшему, – громко сказал Нье.
Никто его не слышал, кроме пары уток, плававших в пруду. Если маленькие чешуйчатые дьяволы имеют достаточно соображения, чтобы понимать косвенные намеки, то исчезновение возможных союзников даст им понять, что народный фронт ведет против них не только пропагандистскую кампанию, но и активно действует.
Он добрался до Пекина к полуночи. Вдали слышались выстрелы. Кто-то боролся за дело прогресса.
– Что вы делаете здесь в столь поздний час? – спросил охранник-человек у ворот города.
– Иду к своему кузену.
Нье протянул фальшивое удостоверение личности и сложенную банкноту.
Охранник вернул удостоверение, но не деньги.
– Тогда проходите, – сипло сказал он. – Но если я увижу вас поблизости в поздний час, то подумаю, что вы вор. Тогда вам плохо придется.
Он взмахнул дубинкой с шипами, наслаждаясь своей крохотной властью.
Нье изо всех сил старался не рассмеяться в лицо охраннику. Вместо этого он нагнул голову, словно испугавшись, и поспешил мимо стража в город. До общежития было недалеко.
Когда он пришел к себе, Лю Хань гонялась за Лю Мэй по пустой столовой. Лю Мэй визжала от восторга. Она принимала это за веселую игру. Лю Хань выглядела так, словно вот-вот упадет. Она погрозила дочери пальцем:
– Ты пойдешь спать, как хорошая девочка, или я отдам тебя обратно Томалссу.
Лю Мэй не обращала внимания. По усталому вздоху Лю Хань было видно, что она не ожидала от Лю Мэй такого неповиновения.
Нье Хо-Т’инг спросил:
– Что ты собираешься делать с маленьким чешуйчатым дьяволом по имени Томалсс?
– Я не знаю, – сказала Лю Хань. – Хорошо, что ты вернулся, но трудные вопросы задашь в другой раз. А сейчас я слишком устала не только чтобы думать, но даже смотреть. – Она подбежала и выдернула Лю Мэй из-под опрокидывающегося стула. – Невозможная дочь!
Лю Мэй решила, что это забавно.
– Как там чешуйчатый дьявол, достаточно наказан? – настаивал Нье.
– Он никогда не будет наказан достаточно за то, что он сделал со мной, с моей дочерью, с Бобби Фьоре и другими мужчинами и женщинами, имен которых я даже не знаю, – яростно выкрикнула Лю Хань. Затем она несколько успокоилась. – Почему ты спрашиваешь?
– Потому что вскоре может быть полезно предъявить самого маленького дьявола или его тело их властям, которые обосновались здесь, в Пекине.
– Это должно быть решение центрального комитета, а не только мое, – сказала, нахмурившись, Лю Хань.
– Знаю.
Нье смотрел на нее с настороженностью. Она далеко ушла от крестьянки, горюющей из-за украденного ребенка. Когда стирались классовые различия, когда предоставлялись и поощрялись возможности развить свои способности, занять более высокий пост в Народно-освободительной армии, – случались удивительные вещи. Примером была сама Лю Хань. Вряд ли в своей деревне она вообще знала о существовании центрального комитета. Теперь она умела манипулировать им не хуже, чем ветеран партии.
– Я не стал поднимать этот вопрос перед комитетом. Я хотел вначале узнать твое мнение.
– Благодарю за заботу о моем личном мнении, – сказала она и посмотрела на Нье, размышляя. – Я не знаю. Полагаю, что я могла бы согласиться с любым решением, если оно поможет нашему делу против маленьких чешуйчатых дьяволов.
– Говоришь как женщина партии! – воскликнул Нье.
– Может быть, и так, – сказала Лю Хань. – Я должна согласиться с общим решением. Разве не так?
– Так, – согласился Нье Хо-Т’инг. – Ты получишь инструкции, раз ты этого хочешь. Я буду горд проинструктировать тебя лично.
Лю Хань кивнула. Нье сиял. Вовлекая в партию нового члена, он испытывал такие же ощущения, как миссионер, привлекший в лоно церкви новообращенного.
– Однажды, – сказал он ей, – ты займешь достойное место и будешь давать инструкции, а не получать их.
– Это было бы прекрасно, – сказала Лю Хань.
Она смотрела сквозь него – видимо, заглядывая в будущее. От этого взгляда Нье занервничал: не видит ли она, как приказывает что-то ему?
Его улыбка сползла с лица. Если она будет прогрессировать с прежней скоростью, такая перспектива не кажется совсем уж невероятной.
* * *
Топот конских копыт и стук железных шин двуколки всегда возвращали Лесли Гровса во времена до Первой мировой войны, когда эти звуки были обычными при перемещении из одного места в другое. Когда он отметил это, генерал-лейтенант Омар Брэдли покачал головой.
– Не совсем так, генерал, – сказал он. – В те времена дороги на удалении от городов не были замощены.
– Вы правы, сэр, – согласился Гровс. Он нечасто уступал в спорах кому-либо, даже атомным физикам, которые временами приходили скандалить в управление Металлургической лаборатории, но на этот раз должен был согласиться. – Я вспоминаю, тогда маленькие городки считали себя средними, а средние города – большими, если у них были замощены все пригородные дороги.
– Именно, – сказал Брэдли. – Ведь когда я был мальчишкой, а вас еще не было, никто и не знал ни об асфальте, ни о бетоне. Грунтовые дороги гораздо лучше для лошадиных копыт. Это было более легкое время во многих отношениях. – Он вздохнул, как любой человек средних лет, вспоминающий о днях своей юности.
Почти любой. Лесли Гровс был инженером до мозга костей.
– Грязь, – сказал он, – Пыль. Фартуки на коленях, чтобы не измазаться по уши, пока добираешься до нужного места. Навоза столько, что не отгребешь палкой. А сколько мух! Мне бы в то в старое доброе время – нормальный закрытый «паккард» на хорошем, ровном и прямом отрезке шоссе!
Брэдли хмыкнул:
– У вас нет уважения к старым добрым временам.
– К черту добрые старые времена, – сказал Гровс. – Если бы ящеры явились в старые добрые времена, они разметали бы нас на кусочки так быстро, что и не заметили бы.
– Не стану спорить. А уж выходить среди зимы из домика с двумя дырками и окошком в форме полумесяца было совсем не забавно. – Он наморщил нос. – А если подумать, то и в жару тоже было не лучше. – Он громко расхохотался. – Да, генерал, к черту старые добрые дни. Нам и сегодняшних забот хватит. – Он показал вперед, поясняя, что он имеет в виду.
Гровс никогда раньше не посещал лагеря беженцев. Конечно, он знал о них, но не больше. Он не чувствовал за собой вины: он делал очень много и еще сколько-то сверх того. Если бы не он, США к этому времени уже проиграли бы войну и уж точно не сидели бы почти как равные с ящерами за столом переговоров.
Но жизнь в лагерях легче не становилась. Гровс был защищен от тяжелой жизни тех, кто попал в жернова войны. Благодаря важности Металлургической лаборатории он всегда имел в достатке еду и крышу над головой. Большинство людей не были так удачливы.
О войне часто судят по кинохронике. Но в ней худшее обычно не показывают. Люди на экране – черно-белые. И вы не ощущаете их запаха.
Ветер дул им в спину, но от лагеря пахло так, как от многократно увеличенного домика, о котором вспомнил Брэдли.
Люди в кадрах кинохроники не бегут к вам, как стадо живых скелетов, с огромными глазами на лице, кожа на котором натянута, как на барабане, и с вытянутыми просящими руками.
– Пожалуйста, – звучало снова, снова и снова. – Еды, сэр? Денег, сэр? Чего-нибудь, что у вас есть, сэр?
От просьбы истощенной женщины у Гровса покраснели уши.
– Можем ли мы сделать для этих людей хоть что-то в дополнение к тому, что мы уже делаем, сэр? – спросил он.
– Не представляю, – ответил Брэдли. – Вода им подается. Но я не знаю, как снабжать их пищей, если у нас ее нет.
Гровс посмотрел на себя. Его живот был по-прежнему объемистым. Все, что поступало сюда, в первую очередь шло армии, а не беженцам и не жителям Денвера, работа которых не имела значения для военной машины. Этого требовал здравый, холодный, логический расчет. Рациональный, как он знал. Но быть рациональным трудно, в особенности здесь.
– Но ведь теперь перемирие. Как скоро мы начнем привозить зерно с севера? – спросил он. – Ящеры не станут бомбить товарные поезда, как они это делали раньше.
– Это так, – согласился Брэдли, – но во время наступления на город они превратили железные дороги в кашу.
Инженеры до сих пор стараются исправить положение. Но даже если поезда и пойдут, то возникает вопрос, где взять зерно. Ящеры до сих пор удерживают большую часть нашей хлебной корзины. Может быть, у канадцев есть запасы. Чешуйчатые ублюдки, похоже, не так сильно тряхнули их, как нас.
– Им нравится теплая погода, – сказал Гровс. – Есть места получше, чем север штата Миннесота.
– Вы правы, – сказал Брэдли. – Но наблюдать, как умирают люди, здесь, в центре Соединенных Штатов, это самое последнее дело, генерал. Никогда не думал, что доживу до дня, когда мы, для того чтобы доставить то малое, что можем, будем использовать вооруженную охрану против воров. И это ведь на нашей территории! А что творится в районах, которые ящеры удерживали последние два года? Как много людей умерло только потому, что ящеры и не подумали накормить их?
– Слишком много, – сказал Гровс. – Сотни тысяч? Должно быть. Миллионы? Меня это не удивит.
Брэдли кивнул.
– Если даже мы выдавим ящеров из США и они оставят нас на время одних – это самое большое, на что мы можем надеяться, – какая страна нам достанется? Меня это очень беспокоит. Помните Хуай Лонг, отца Кофлина и технократов? Человек с пустым желудком будет слушать любого дурака, который пообещает ему трехразовое питание, а у нас таких людей множество.
Как бы иллюстрируя его слова, к лагерю беженцев подъехали три телеги, запряженные лошадьми. Люди в хаки и касках со всех сторон окружили телеги. Примерно у половины из них были автоматы, у остальных – винтовки с примкнутыми штыками. Волна голодных людей остановилась на приличном расстоянии от солдат.
– Трудно отдать приказ стрелять на поражение в голодающих людей, чтобы предотвратить разграбление ваших телег с продовольствием, – угрюмо сказал Брэдли. – Если я такого приказа не отдам, продовольствие получат быстрые и сильные, а больше никто. Не могу этого допустить.
– Да, сэр, – согласился Гровс,
Под жесткими и внимательными взглядами американских солдат их штатские сограждане встали в очередь, чтобы получить по пригоршне зерна и бобов. По сравнению с этой пайкой суповые кухни времен Великой депрессии были пятизвездочными ресторанами с фирменными блюдами на голубых тарелках. Тогда еда была дешевой и простой, но ее было много – если только вы могли перебороть свою гордость и принять благотворительный дар.
Теперь же… Глядя на изгибающуюся змеей очередь, Гровс задумался. Он был так занят делом спасения страны, что высказанный генералом Брэдли вопрос никогда не возникал у него: какую же страну он спасал?
Чем больше смотрел он на лагерь беженцев, тем меньше ему нравился ответ, к которому он пришел.
* * *
Впервые в жизни Вячеславу Молотову понадобились все силы, чтобы сохранить каменное выражение лица.
«Нет! – хотелось ему закричать на Иоахима фон Риббентропа. – Пусть все идет, как идет! Нам надо решить так много вопросов! Если ты нажмешь слишком сильно, то станешь жадной собакой из сказки, той, что бросила кость в реку, чтобы схватить ее отражение в воде».
Но германский министр иностранных дел поднялся на ноги и заявил:
– Польша была территорией германского рейха до того, как Раса пришла в этот мир, и потому должна быть возвращена рейху. Так сказал фюрер.
Гитлер всегда был очень похож на собаку из сказки. Он понимал только свои интересы, все остальное для него исчезало из реальности. Если бы он довольствовался миром с Советским Союзом, пока не покончит с Британией, он мог бы дурачить Сталина еще какое-то время и только потом неожиданно напасть и таким образом не ввязываться в войну на два фронта. Но он не стал ждать. Он не мог ждать. За СССР ему пришлось расплачиваться. Разве он не видит, что за ящеров придется расплачиваться куда страшнее?
Очевидно, что он этого не видит. Здесь находится его министр иностранных дел, выжимающий из себя слова, обидные для его противников-людей. Сказанные в адрес ящеров, гораздо более могущественных, чем Германия, эти слова поразили Молотова своим буквально клиническим безумием.
Через своего переводчика Атвар сказал:
– Это предложение неприемлемо для нас, потому что оно неприемлемо для многих других тосевитов, беспокоящихся об этом регионе. Оно только разожжет конфликт в будущем.
– Если вы немедленно не вернете нам Польшу, то это разожжет конфликт сейчас, – воскликнул фон Риббентроп.
Главнокомандующий ящеров издал примерно такой же звук, какой издает проколотая камера.
– Можете передать фюреру, что Раса готова испытать удачу.
– Я так и сделаю, – сказал фон Риббентроп и выскочил из зала заседаний в отеле «Шепхед».
Молотову захотелось побежать за ним и позвать его назад.
«Подожди, дурак!» – безмолвный крик отдавался в его голове.
Мегаломания Гитлера может утянуть на дно, где вскоре окажется Германия, и всех остальных. Даже страны, обладающие бомбами из взрывчатого металла и ядовитым газом, могут причинить ящерам всего лишь большие неприятности – пока не научатся доставлять это оружие дальше линии фронта.
Советский комиссар иностранных дел колебался. Может быть, наглое поведение Риббентропа означает, что гитлеровцы располагают таким методом? Он не верил в это. Ракеты их лучше, чем у кого бы то ни было, но настолько ли они мощны, чтобы забросить десять тонн на сотню, а может быть, и на тысячу километров? Советские ракетные специалисты заверили его, что нацисты не могут опередить их настолько.
А если они ошибаются… Молотов не задумывался над тем, что случится, если они ошибаются. Если немцы научатся забрасывать бомбы из взрывчатого металла на сотни и тысячи километров, то они с одинаковым успехом смогут бомбить и Москву, и ящеров.
Он переборол свое нарастающее возбуждение. Если бы у нацистов были такие ракеты, они не были бы такими настойчивыми в вопросе с Польшей. Они могли бы запускать свои бомбы из Германии и затем захватить Польшу просто на досуге. На этот раз ученые, пожалуй, правы.
Однако… Гитлер в своих действиях руководствовался скорее эмоциями, чем здравым смыслом.
Что, если нацистская доктрина – всего лишь извращенная романтика? Если вам чего-то хочется, это означает, что вещь должна стать вашей, а это, в свою очередь, означает, что у вас есть право – и даже обязанность – пойти и забрать ее. А если кто-нибудь имеет наглость сопротивляться, вы растопчете его. Имеет значение только ваша воля.
Но если человек ростом в полтора метра и весом в пятьдесят килограммов захочет того, что принадлежит человеку ростом в два метра и весящему сто килограммов, и попытается взять это, результатом будут его расквашенный нос и выбитые зубы – независимо от силы желания. Гитлеровцы этого не поняли, хотя нападение на Советский Союз должно было их чему-то научить.
– Заметьте, товарищ адмирал, – сказал Молотов, – что уход германского министра иностранных дел не означает, что остальные участники переговоров отказываются обсуждать с вами остающиеся расхождения.
Яков Донской перевел эти слова на английский, Уотат – на язык ящеров.
Если повезет, то чужаки втопчут гитлеровцев в грязь и избавят СССР от большой проблемы.
* * *
– Ягер! – закричал Отто Скорцени. – Тащи сюда свой тощий зад. Надо кое о чем поговорить.
– О чем с тобой говорить, кроме твоих манер медведя, мучающегося зубной болью? – парировал Ягер.
Он не поднялся с места. Он был занят штопкой носка, и это была трудная работа, потому что приходилось держать его дальше от лица, чем он привык. За последнее время он стал более дальнозорким. Рано или поздно человек рассыпается, даже если его и не подстрелят. Это происходит само собой.
– Извините меня, ваше великолепное полковничество, милорд фон Ягер, – сказал Скорцени, наполняя свой голос густым сахарным сиропом, – не будете ли вы так милостивы и благосклонны, чтобы удостоить вашего покорного и послушного слугу кратчайшим отрезком вашего драгоценнейшего времени?
Ругаясь, Ягер поднялся на ноги.
– Знаешь, Скорцени, а мне больше понравилось: «Тащи сюда свой тощий зад».
Штандартенфюрер СС хмыкнул.
– Я так и думал. Идем. Прогуляемся немного.
Это означало, что у Скорцени есть новость и он не хочет, чтобы ее услышал кто-то еще. И она предположительно означает, что где-то должен разверзнуться очередной ад, причем, скорее всего, прямо здесь. Почти плачущим голосом Ягер протянул:
– А мне так нравилось перемирие.
– Жизнь трудна, – сказал Скорцени, – и наша работа состоит в том, чтобы делать ее еще труднее – для ящеров. Твой полк ведь все еще силен, правда? Как скоро вы можете быть готовы врезать нашим чешуйчатым приятелям в рыло?
– Мы отправили примерно половину «пантер» в ремонтный центр для восстановления, – ответил Ягер. – Топливопроводы, новые люки для башен, прокладки топливных помп… Мы воспользовались перемирием, чтобы заменить все, что успеем, но поскольку оно продлилось, мы стали ремонтировать все остальное. Никто не говорил мне, что оно будет нарушено.
– Я тебе говорю, – сказал эсэсовец. – Сколько времени нужно группе, чтобы выйти на полную боевую готовность? Вам ведь нужны эти «пантеры», так ведь?
– Да, пожалуй, – ответил Ягер. – Они вернутся через десять дней – или через неделю, если кто-то, умеющий раздавать затрещины, навалится на ремонтников.
Скорцени закусил губу.
– Доннерветтер! Если я насяду на них как следует – как думаешь, за пять дней танки вернутся на фронт? Это мой крайний срок, и у меня нет возможности нарушить его. Если к этому времени «пантер» здесь не будет, ты, старик, двинешься без них.
– Двинусь – куда? – спросил Ягер. – Почему ты мне приказываешь? В смысле почему ты, а не командир дивизии?
– Потому что я получаю приказы от фюрера и от рейхсфюрера СС, а не от генерал-майора в жестяной каске, командующего ничтожным корпусом, – самодовольно ответил Скорцени. – Вот что произойдет, как только вы будете готовы выступить, а артиллеристы займутся своим делом: я взорву Лодзь к чертовой матери, а вы – и все остальные – наброситесь на ящеров, которые будут стараться понять, что произошло. Другими словами, война возобновляется.
Ягер подумал, попало ли его сообщение евреям в Лодзи? Если так, интересно, смогли они отыскать бомбу, которую эсэсовец спрятал где-то там? И главное:
– Что сделают ящеры, если мы взорвем Лодзь? Они отвечали городом на каждую бомбу, которую мы взрывали в ходе войны. Сколько городов они разрушат, если мы применим такую бомбу, нарушив перемирие?
– Не знаю, – ответил Скорцени. – Я знаю, что никто не просил меня беспокоиться по этому поводу, а потому и не собираюсь. У меня есть приказ взорвать Лодзь в ближайшие пять дней, так что целая толпа длинноносых жидов улетит в небо вместе с ящерами. Мы научим ящеров и тех, кто к ним подлизывается, тому, что мы слишком страшные, чтобы препятствовать нам.
– Если взорвать евреев, то чему это научит ящеров? – Ягер почесал голову. – Почему ящеры станут беспокоиться о том, что случится с евреями? И с кем мы воюем – с евреями или с ящерами?
– Черт возьми, мы находимся в состоянии войны с ящерами, – ответил Скорцени, – и мы всегда воюем с евреями, так ведь? Ты это знаешь. Ты достаточно плакал и стонал об этом. Поэтому мы взорвем кучу жидов и кучу ящеров, и фюрер будет так счастлив, что станцует джигу, как он сделал, когда мы свалили лягушатников в девятьсот сороковом году. Итак – максимум пять дней. Ты будешь готов выступить?
– Если мои танки вернутся из мастерских, то да, – сказал Ягер. – Как я сказал, кто-то должен подстегнуть механиков.
– Я позабочусь об этом, – пообещал эсэсовец, широко и злобно улыбаясь. – Как думаешь, они не зашевелятся быстрее, если под ними загорится земля?
Ягер не рискнул бы биться об заклад, ставя на то, что Скорцени не высказался в буквальном смысле слова.
– Я им разъясню, что если они не обрадуют меня, то будут отвечать перед Гиммлером. С кем лучше иметь дело, со мной или с маленьким школьным учителем в очках?
– Хороший вопрос, – сказал Ягер.
Если рассматривать Скорцени просто как человека, то он куда страшнее Гиммлера. Но Скорцени – всего лишь Скорцени. Гиммлер же олицетворяет организацию, которую возглавляет, и эта организация придает ему устрашающие черты совсем другого масштаба.
– Правильный ответ: лучше, чтобы никто из нас двоих не разозлился, не говоря уже о том, чтобы разозлились оба вместе, – сказал Скорцени, и Ягер вынужден был согласиться. – Как только бомба взорвется, вы двинетесь на восток. Кто знает, ящеры могут удивиться так сильно, что ты ухитришься раньше времени посетить свою русскую подругу. Как тебе это нравится? – Он покачал бедрами вперед и назад, намеренно неприлично.
– Мне доводилось слышать идеи, которые мне нравились меньше, – сухо ответил Ягер. Скорцени гулко расхохотался.
– Бьюсь об заклад, так и было. На самом деле. – И без предупреждения он задал совершенно другой вопрос. – Она еврейка, эта твоя русская?
Он спросил это самым обычным тоном, каким полицейский сержант интересуется у подозреваемого в краже, где он был в одиннадцать часов ночи.
– Людмила? – спросил Ягер, испытывая облегчение оттого, что может говорить правду. – Нет.
– Хорошо, – сказал эсэсовец. – Я так и думал, но хотел знать наверняка. Значит, она не рассердится на тебя, если Лодзь взлетит на воздух, правильно?
– Не думаю, – ответил Ягер.
– Это прекрасно, – сказал Скорцени. – Да, это прекрасно. Тогда и тебе будет хорошо. Помни, пять дней. Ты получишь свои танки, или кто-то пожалеет, что вообще родился на свет.
Посвистывая на ходу, он направился в лагерь.
Ягер последовал за ним, но медленнее, стараясь не выдать своей задумчивости. СС разрубила на части польского фермера, узнав, что он был замешан в передаче сведений евреям в Лодзь. А теперь Скорцени спрашивает, не еврейка ли Людмила. Скорцени, конечно, не знает всего, иначе некто Ягер уже не был бы командиром полка. Но подозрения росли, как ростки, пробивающие толщу гнилых листьев.
Ягер подумал, не следует ли передать в Лодзь еще одно сообщение через Мечислава, но решил, что сейчас не стоит испытывать судьбу. Он надеялся, что евреи уже получили его предупреждение и нашли бомбу. Надежда эта частично родилась из стыда за позорное отношение к евреям, которое практиковал рейх, а частично из страха: что ящеры сделают с Германией, если немцы взорвут атомную бомбу в то время, когда идут переговоры о перемирии? Сказать, что они воспримут это с неудовольствием, было бы очень мягко.
Познакомившись с Мордехаем Анелевичем, Ягер понял, что евреи нашли в нем прекрасного руководителя. Если он узнал, что Скорцени спрятал в Лодзи бомбу, он перевернет землю и небо, чтобы отыскать ее. Ягер сделал все, что только было в его силах, чтобы предупредить евреев.
Через пять дней Скорцени нажмет кнопку. Может быть, покажется, что поднялось новое солнце – как это было под Бреслау. А может быть, вообще ничего не произойдет.
И что тогда сделает Скорцени?
* * *
Разгуливать в полный рост на виду у ящеров казалось неестественным. Остолоп Дэниелс обнаружил, что непроизвольно подыскивает ближайшую воронку от снаряда или кучу обломков, за которой можно укрыться, если снова раздастся стрельба.
Но стрельба не возобновлялась. Один из ящеров помахал ему чешуйчатой рукой. Он ответил тем же. Такого перемирия на его памяти еще не было. Тогда, в 1918-м, стрельба остановилась из-за того, что бошей сильно прижали. Теперь не то – ни одна сторона не уступила другой. Он думал, что бои могут возобновиться в любое время. Но пока они не начинались и, возможно, и не начнутся. Он надеялся, что не начнутся. Он уже навоевался на две жизни.
Двое его людей купались в речке неподалеку. До перемирия в течение длительного времени ни у кого не было возможности поддерживать чистоту. В условиях фронта вы остаетесь грязным, в основном из-за опасности быть подстреленным, когда вы открываете свое тело воде и воздуху. Через некоторое время вы перестаете ощущать запах, который исходит от вас: все остальные пахнут точно так же. Теперь Остолоп начал привыкать к отсутствию вони.
С севера, со стороны Кинси, донесся шум двигателя внутреннего сгорания. Остолоп обернулся и посмотрел на дорогу. К ним подъезжал большой штабной «додж», на таких имели привычку разъезжать офицеры, пока бензина не стало слишком мало, чтобы повсюду болтаться на автомобиле. Появление его было признаком уверенности начальства в том, что перемирие продлится еще.
Так же уверенно на антенне штабной машины трепетал трехзвездный флаг. У парня, стоявшего за пулеметом в задней части машины, на каске тоже были нарисованы три звезды. На поясе у него болтались два револьвера с костяными ручками.
– Выше головы, ребята, – воззвал Остолоп. – К нам с визитом пожаловал генерал Паттон.
Паттон славился своей жестокостью и любил демонстрировать ее всем и каждому. Дэниелс надеялся, что он не станет доказывать ее, выпустив пару пулеметных лент в сторону ящеров.
Штабная машина затормозила. Колеса еще не остановили вращение, а Паттон уже соскочил с машины и направился к Остолопу, который оказался ближе всех. Остолоп встал по стойке смирно и отдал честь, подумав, что ящеры наверняка взяли на мушку этого агрессивного вида пришельца.
Беда только в том, что, начав стрелять в Паттона, они выстрелят и в него.
– Вольно, лейтенант, – сказал Паттон сухим тоном. Он показал через линию фронта на пару ящеров, занимавшихся каким-то своим делом. – Значит, это враги, лицом к лицу. Уродливые дьяволы, не так ли?
– Да, сэр, – сказал Остолоп. – Конечно, то же самое они говорят о нас, сэр. Называют нас Большими Уродами, я имею в виду.
– Да, я знаю. Каждый видит свою красоту, как говорится. Мне они, лейтенант, кажутся уродливыми сукиными сынами, и если они называют меня уродом, что ж, слава богу, я считаю это комплиментом.
– Да, сэр, – снова ответил Остолоп.
Паттон, похоже, не был склонен к стрельбе по окружающему ландшафту, за что Остолоп был ему чрезвычайно благодарен.
– Они соблюдают правила перемирия в этом районе? – спросил генерал. Казалось, он может начать войну снова, если ответ будет отрицательным.
Но Остолоп отрапортовал:
– Так точно, сэр. Надо отдать справедливость ящерам: когда они берут обязательство, они исполняют его. Лучше, чем немцы и японцы, и, может быть, русские, насколько мне известно.
– Вы говорите так, словно уже сталкивались с этим, лейтенант…
– Дэниелс, сэр. – Остолоп едва не рассмеялся. Он был примерно в возрасте Паттона. Если ты не набрался опыта, приближаясь к шестидесятилетию, то какого черта ты жил? – Я прошел через мясорубку под Чикаго, сэр. Каждый раз, когда мы договаривались с ящерами остановить огонь, чтобы собрать раненых и все такое, они точно соблюдали договор. Может, они и ублюдки, но ублюдки честные.
– Чикаго. – Паттон сделал кислую мину. – Это была не война, лейтенант, это была бойня, она обошлась им дорого, еще до того, как мы применили против них атомное оружие. Их величайшее преимущество по сравнению с нами – быстрота и мобильность, и как они ими воспользовались? Никак, они их отбросили прочь, лейтенант, и увязли в бесконечных уличных боях, где человек с автоматом так же хорош, как ящер с автоматической винтовкой, а человек с бутылкой «коктейля Молотова» может разделаться с танком, который на открытой местности способен раздавить дюжину наших «шерманов», даже не вспотев. Точно так же воевали и нацисты в России. Они тоже были дураками.
– Да, сэр.
Дэниелс чувствовал себя мальчишкой, слушающим рассказы о том, как выбрать лучший момент для захвата мяча и пробежки. Паттон знал военное дело так, как Остолоп бейсбол.
Генерал принялся развивать тему:
– И ящеры не учатся на своих ошибках. Если бы не их нашествие и немцы прорвались бы к Волге, можете вы предположить, что немцы были бы такими глупыми, что стали бы пытаться захватить Сталинград, отвоевывая дом за домом? Как вы считаете, лейтенант?








