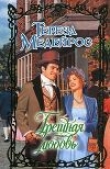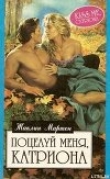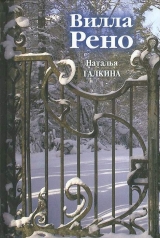
Текст книги "Вилла Рено"
Автор книги: Наталья Галкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Глава 12.
ПОХОРОНЫ КОНЯ
Конь Собакина по кличке Лось, после удачной операции возвращенный к жизни, прожил недолго. Прежним он так и не стал.
Лось часто пугался, шарахался, вскидывался, приходил в ужас от резкого шума, взлетающей птицы, промелькнувшей бабочки, упавшей шишки. Иногда боялся он вещей, ведомых одному ему.
Пускали Лося в шорах пастись на лужки, не стреножив, он далеко не уходил. И однажды, обуреваемый своим доисторическим паническим страхом, конь сорвался в овражек неподалеку от последнего пруда. Его нашел Медори, молодой пес садовника, созвавший заливистым лаем сначала братьев своих, а потом и людей. Конь лежал на боку, неловко сложив ноги, по его боку пробегала мелкая дрожь, словно волны по отмели; иногда большая волна судорог – все реже и реже – сотрясала его. Лось косил огромным глазом на склонившихся над ним; Татьяне казалось, что глаза коня полны слез. К еще живому животному стягивались муравьи и жуки, на соседних соснах и елях сидели вороны – чуяли смерть; только что игравшим в дебри Амазонки мальчикам слышались голоса шакалов, клекот стервятников. Небо быстро затягивалось облаками, солнце пропало, конь сдыхал долго, бесконечно долго.
– Он умирает? – спросил Освальд.
– Он подыхает, – сказал Ральф.
– Про коня говорят: «пал», – сказал Мими.
Пришел хмурый ветеринар, сделал Лосю укол, конь утих, уснул, перестал дышать. Собакин сидел на траве, гладил его гриву.
– Недосмотрел, недоглядел, надо было его стреножить, держать на привязи.
– Это, батенька, не коза, чтобы на приколе пасти, – сказал старик Шпергазе, – нет вашей вины, такова была у коня судьба.
Ветер пронесся, прошумел откачавшимися деревьями, облака унес, небо стало зеленоватым, темно-голубым, уже и звезды показались. Собакин зажег два костра, сказал: похоронит Лося немедленно, не дожидаясь, пока слетятся на падаль мухи. Мальчики побежали за лопатами и заступами.
– Я пойду принесу цветы, – сказала Маруся.
– Зачем? – спросил Мими.
– На похороны коня. На его могилу.
Мими внезапно разозлился.
– На похороны коня?! Там, в России, люди гибли и гибнут сотнями, их закапывают во рвах, как собак, не отпевая, а вы тут, сидя в заповедном углу, коня торжественно хороните.
Он быстро ушел, почему-то резко захромав.
Садовник, Вышпольский и Ясногорский помогали Собакину копать яму, копать было трудно: дерн был цепок, земля полна корней. Костры пылали, взлетали вверх искры, лес придвинулся стеной мрака, в лесу началась ночная нечеловеческая жизнь, полная шорохов, шелеста, хруста веток, шажков, криков ночных птиц. У четвертого пруда светились фонари: белый и зеленый. Освальд и Ральф зажгли свои фонарики, у Освальда на шее висел барабан, под барабанный бой опускали тело коня в яму, от теней и отблесков костров казавшуюся бездонным провалом. Постоянно путающийся у всех под ногами Тойво бросил в конскую могилу специально для того принесенную дохлую мышку: чтобы конь не скучал; Таня кинула охапку сена, Маруся – цветы и горсть овса, Собакин опустил в яму вслед за конем его сбрую. Яму зарыли, дерн вернули на место, положили сверху привезенный на тачке белый камень, Освальд вывел на камне кисточкой букву «Л», Вышпольский начал было гасить костер, но Собакин сказал: идите, я еще посижу, сам присмотрю за огнем.
В ближайшую зиму после Рождества Собакин, распрощавшись с отцом, ушел по льду в Петроград. Десять лет прожил он безлошадником, служил в конных частях, в меру любил закрепленного за ним жеребца, но своего коня не заводил. А потом, переехав в Стрельну, завел жеребенка, вырастил, воспитал, вышел красавец конь, веселый, ласковый, огненного нрава. С этим новым конем, Орликом, Собакин пошел в 1941-м на войну, в конные войска; и послали его на Карельский перешеек, где был он сравнительно легко ранен в руку. Он лежал в госпитале, никто не сомневался, что он поправится; но стали ему сниться похороны любимого его Лося, огни костров, барабанный бой, немолчное журчание ручья, огромные хищные птицы, парящие над белым камнем конской могилы, он бредил, его лихорадило, рука отекла, опухоль поднималась все выше, к горлу, он не просыпался вовсе, спал целыми сутками, пока не уснул навсегда.
Глава 13.
«СЕДУМ, СЕДУМ, АГЕРАТУМ!»
Академик Петров устал.
После многолетнего перерыва совершил он поездку за океан, дальнюю, утомительную; сопровождал его в Америку любимый старший сын.
Прошло несколько лет с момента гибели среднего, выехавшего в девятнадцатом году из голодного Петрограда на юг – куда? – к тетушке за продуктами, как утверждали официально? в белую армию, как шепотом поговаривали? – заболевшего в пути тифом, ссаженного с поезда, сгинувшего на одном из полустанков (некоторое время академик был уверен, что его на этом полустанке попросту расстреляли); мальчик обещал стать прекрасным химиком, работал у Менделеева, очень его ценившего.
Петров никогда не мог примириться с гибелью детей. Даже смерть – такая давняя – первенца, а потом и второго малыша была свежей неутоляемой болью; а ведь лодочку Харона, увозящую малюток, отделяли от берега широкой полосой волн воды XIX столетия.
Теперь старший сопровождал его, они повидали Нью-Йорк, Нью-Хейвен, Бостон, на обратном пути задержались в Англии, где ожидал их в Эдинбурге большой международный конгресс. Лекции, встречи с биологами, с коллегами-физиологами, обилие речей, лиц, новостей почти не утомляли ученого; но неожиданный инцидент в поезде выбил его из колеи. На железнодорожном вокзале Нью-Йорка, куда прибыли они задолго до отхода поезда («Какой русский не любит быстрой езды?» – спросите вы, а я спрошу вас: какой русский не боится, что поезд его уйдет; что вся эта состоящая из долгих ящиков – под каждым ящиком у рельсов собачий ящик для собак и беглецов разного сорта – махина захлопнет двери свои и неумолимо тронется, подчиняясь железной логике железнодорожных правил, а ты останешься со своим жалким, бессмысленно собранным в узлы и баулы скарбом, останешься на русской заснеженной равнине, не пассажир, не житель оседлый, нелепая фигура из здешнего кошмарного сна? О, поезд, поезд! главный герой нашей бесконечно длящейся, глубоко географической страны! Рельсовая наша погремушечка! Мечта фельдъегеря! Обобществленное передвижное пространство, в коем тщетно пытаемся мы обрести покой, из личного пространства сваливая, затиснутые, утрясенные, облепленные вещами…), зашли они в пустой вагон. Сын стал раскладывать в купе чемоданы и саквояжи, это на полку, это под столик, это в ящик под диваном; отец остался стоять на площадке вагона. Двое неизвестных, неприметные шустрые люди, возникли безмолвно, набросились на Петрова, быстро обыскали, выворачивая карманы беззащитного, опешившего семидесятичетырехлетнего старика, выхватили бумажник, молниеносно скрылись; вся сцена происходила беззвучно, сын оторопел, увидев вошедшего в купе отца, оскорбленного, с трясущимися руками, с побелевшими губами. Да что это, правда что, за Железный Миргород, этот их Нью-Йорк?! С Нью-Йорком нобелеату Петрову не повезло дважды: на обратном пути в гавани стащили у него чемодан, посему в Англии на торжественном приеме пришлось ему фигурять в сером летнем костюме, при том что прочие приглашенные были в парадных черных, а иные и во фраках, никто, впрочем, и виду не подал, причуды убеленного сединами русского гения, загадочной русской ame slave не обсуждались.
Отец и сын гадали: кто напал на академика в тамбуре? Кем являлись чемоданные портовые воры? Свои ли, тамошние, нашенские путешествующие гэпэушники, странствующие энкавэдэшники? Или чужие, тутошние, случайная шантрапа? За всю жизнь академик ни разу не испытал оскорбления действием, на него никто никогда руки не поднимал; внезапно ощутив смертную тоску западни, он вернулся домой усталым, заметно сдавшим.
Жена стала думать: куда бы увезти его? где бы он мог лучше отдохнуть? Она спрашивала об этом у всех, кто ей встречался.
– Как куда?! – воскликнул друг ученика академика. – Как где?! Да конечно же, у Вандочки в Келломяках! В пансионате Виллы Рено.
– Как же мы туда поедем? – засомневалась она. – Ведь это теперь Финляндия, заграница.
– Ездить в Хельсинки, – возразил ей сам ученик, – академику нарком Луначарский разрешил в любое время, а Келломяки, чай, в пять раз ближе, от Сестрорецка рукой подать, перед Териоками.
Недолго думая, поехали.
Граница между советской Россией и Финляндией проходила по реке Сестре (чья она теперь была сестра? Стикса? Коцита? «Перевези меня, перевозчик, с мертвого берега на живой!» – «Обратной дороги нет!» – резонно отвечал перевозчик).
– Ну, черт, дьявол, вашу мать, где помреж?! – кричал режиссер. – Помреж! Где исторический консультант?! Где его носит нелегкая? Опять с Лялечкой на пляж поперся? Или к писателям поддавать пошел? Из-под земли достаньте! Я должен знать: как именно академик доехал из едренего Петрограда в хреновы Келломяки! На поезде через Белоостров? На поезде до Сестрорецка? А потом? На автомобиле типа «рено» с таксистом типа Гайто? Или на санях с вейкой-карьялайненом? Или опять-таки на поезде, только на другом?
– Что вы так страдаете? – лениво вопросил Урусов. – Снимать-то приезд будем зимой. Зимой, чай, приехал-то. До зимы можно много чего выяснить, да я сам вам все узнаю, е. б. ж. Для красотищи, как вы выражаетесь, пусть приедет на тройке с бубенцами.
– Мне нравится это множественное число! – вопил Савельев. – «Снимать будем»! Не «будем», а «буду»! Я буду снимать!
Тут из кустов выплыл пьяный Нечипоренко с парой пьяных писателей; обнявшись за плечи, они шли, качаясь втроем, непокоренные, с трудом вписываясь в аллею.
– А вот и деятели культуры в процессе приема недопинга на троих, – сказала с дерева Катриона.
– Та-ак, – прошипел Савельев, – у меня процесс прервался творческий, а исторический консультант, вместо того чтобы выдать нужные мне исторические сведения по части правды жизни, хлобыщет водяру с представителями массолита.
– Искусство выше истории, – молвил, икнув, правый пьяный писатель. – Художественный образ выше имитации действительности, истина выше правды жизни.
– Красивей звездите – и несудимы будете! – произнес левый писатель и попытался упасть.
– Три богатыря, – произнесла сверху Катриона.
– Кто шуганет эту сучку с дерева, – сказал Савельев, – получит ящик коньяку.
– Сидит сучка на сучке с телеграммою в руке, – сказал левый пьяный.
– Не слушайте его, он детский писатель, слушайте меня, я классик, – сказал правый пьяный.
– Нет, это надо же – так нажраться в полдень на жарище! – поразился Вельтман.
– Кто нажирался? – еле ворочая языком, проговорил Нечипоренко. – Посидели, поговорили.
На станции академика Петрова встречал на дровнях Собакин.
– Симпатичный извозчик, – шепнула жена академика, – молодой, кареглазый. Беззаботный. Лицо интеллигентное.
Дровни плыли медленно, плавно и неторопливо смещались придорожные сугробы, деревья в снегу; безлюдье, мороз, заколоченные дачи, дальний собачий лай. Холод был беззлобен, старинная дореволюционная тишина царила на Часовой горе.
– Приехали! – Извозчик соскочил с дровней, пошел отворять чугунные ворота.
– Матушки, да тут от станции два шага! – воскликнул академик. – Прекрасно пешком дошли бы. Вещей у нас немного.
– Должны у меня быть в жизни воспоминания? – Старики загляделись на белозубую улыбку Собакина и заулыбались в ответ. – Вот теперь век буду помнить: великого ученого вез. Ой, нет, нет, платы не берем, что вы, да я и не извозчик вовсе, я знакомый Ванды Федоровны, мой отец неподалеку дачу снимает.
Всем обитателям пансионата Виллы Рено хотелось посмотреть на нобелеата; кто не вышел встречать его на крыльцо, старался попасться ему на глаза в проходной гостиной при входе, иные глядели в окна. Постояльцы, хозяева, весь увиденный со стороны уклад здешней жизни поразили академика и жену его. Все тут было как в России прежней, время словно остановилось несколько лет назад. У этих переселенцев, вечных дачников, был свой, совершенно на особицу, жизненный опыт вести полуфермерскую-полуусадебную жизнь, они не претерпевали голода девятнадцатого и двадцатого годов, не ведали красного террора, волны эпидемий, насилия, убийств миновали их. Они мало знали о своей родине, помнили ее такой, какой оставили, как не видевшие покойника помнят его живым, они говорили на языке, почти несуществующем (на этом несуществующем, слегка подзабытом русском потом писал Набоков), прежнем, не слыхивали слов «Рабкрин» и «Наркомвнудел», например, им были неведомы новые праздники, для них не отменяли старых Здесь жили реликтовой русской жизнью, этнографический феномен, театр для актеров.
Но вот явились, приехали на дровнях зрители.
Какие чудные бутафорские уголки, мизансцены, радующие душу декорации были явлены им! Особым сиянием высвечивались в оранжерейном воздухе хранимые под колпаком виртуального вневременного шапито обычные предметы бытия: кухонная печь в голубых изразцах, чуть облупившийся толстобокий кувшин белой эмали, низкий потолок с укосами контрфорсов на мансарде, где коротали время зеленые, расписанные цветами и фигурами деревянные шкафы с сундуками да лежащие на полу в холоде померанцы, антоновка, ранет, белый налив. Алела рябина на мху между рам заклеенных окон, звучал девичий смех, высвечивало солнце снегирей на снегу.
– Маруся, правда академик Петров похож на Санта-Клауса? Такой же сияющий, великолепный, с ярко-белой бородой, а после лыжной прогулки румяный.
– Правда, Освальд.
– Он как рождественский подарок, – неожиданно сказала Таня, сосредоточенно надвигая перед зеркалом на лоб шляпку из выдолбленной тыквы.
Они переодевались и гримировались перед рождественским спектаклем. Решено было начать представление с «Гимна флоре, или Хвалебной песни овощам, цветам и травам». Гимн собирались исполнять на Пасхальной неделе, но в честь академика Петрова, великого огородника-любителя, почли за лучшее обнародовать песнопение зимой.
Зрители уже расселись в гостиной, занавес из занавесок трепетал, трижды отзвонили в колокольчик. Перед занавесом появилась Алиса, дочь садовника, в костюме лютика, в венке из бумажных лютиков (в трех магазинах ее отца, петербургском, выборгском и териокском, торговали не только настоящими цветами, но и искусственными) и, трепеща, громко произнесла:
– «Гимен Флоре»!
С боков из-за занавеса выскочили Таня-тыква и Освальд-репейник, выкрикнув: «Или Хвалебная песнь цветам, овощам и травам!», добежали до Алисы, то бишь до середины занавеса, и в четыре руки занавес открыли. Собакин-старший, встряхнув головою, ударил по клавишам пианино, ему вторили кларнет и гитара, Вышпольский и Ясногорский., а расположившиеся поначалу в виде живой картины (кто замер на одном колене, кто застыл, воздев руки, на корзине, кто полулежа) фрукты и овощи запели и заплясали:
Седум, седум, агератум,
Гипсофила, гравилат!
(Пели они на голоса, как заправский хор.)
Сан-ги-сор-ба, а-хи-ме-нес,
Ку-кур-би-та, фа-зе-о-люс,
Ци-пе-рус, и-рис!
Академик, знавший, в отличие от многих других слушателей, что «кукурбита» – это тыква, а «фазеолюс» – фасоль, не мог без смеха глядеть на уморительно серьезных исполнителей.
Меум, хибискум, дигиталис,
Ванда, любка, башмачок!
При слове «ванда» артисты простерли руки к обеим Вандам, а при слове «любка» – к Либелюль, находившейся на сцене и изображавшей вишню.
Слова второго куплета латыни не содержали, все по-русски, так и плясали, кто барыню, кто кадриль, все это с пением, не снижая темпа, в руках ветки, ботва, веник в бумажных цветах, голик, охапки сена:
Молочай, чубушник, хвостник,
Птицемлечник, долгоцветка!
Бас, то есть Собакин-младший, пел под Шаляпина, да еще и окал:
Молодило! Хрен! Пупавка!
Клещевина, клопогон!
Девясил, мордовник, шпорник,
Высколка, копытень, лютик,
Коровяк, котовник, лук.
На третьем куплете хор, миманс, танцоры разделились на две группы, славянофилы да западники, каждый выкрикивал свое в пику оппонентам:
Пипер, пипер, седум, седум,
Кровохлебка, пульсатилла,
Онцидиум, орхидея,
Пеларгония, герань!
Репейник с нарциссом уже тузили друг друга, не переставая петь.
Седум! Шпорник!
Пипер! Стенник!
Гипсофила! Молодило!
Кукурбита! Клещевина!
Тут замерли все; высочайшим дискантом вывела Ирис:
– Ту-бе-ро-за…
И, завершая, грянули хором, гаркнули, рявкнули, тряся головами, размахивая венками и вениками, топая ногами под музыку боевую, бравурную:
– Зве-ро-бой!
И опять замерли в живой картине, тяжело дыша, блестя глазами. Буря аплодисментов.
– Браво! – кричал академик.
– Брависсимо! – вторил Мими.
– Я себе все ладони отбила, – сказала Ванда-старшая.
Со сцены в зрительный зал с охапкой ненастоящих цветов, сухих колосьев, бессмертников, целым снопом выскочила Маруся, стала обходить зрителей, одаривая всех и каждую. Петрову преподнесла она темно-лиловую живую фиалку и неожиданно поцеловала его, еще раз сорвав аплодисменты.
Академику и жене его долго не спалось. Небо за окном было ясным, полным звезд.
– Какая красавица старшая дочь Ванды Федоровны, Маруся, – сказала жена.
– Мне кажется, – отвечал он, – ты думаешь о том же, о чем и я. Старший их сын был разведен, свободен, они хотели женить его, чтобы он был счастлив, чтобы были внуки.
– Я вызову его будто бы по делу. Сперва невзначай знакомство, а там, глядишь, и сватовство…
– Он сейчас не сможет приехать, он так занят на работе, а отпуск у него летом.
– Стало быть, мы вернемся летом вместе с сыном, – сказал академик тоном, не допускающим возражений, да жена и не собиралась ему возражать.
– Чудная будет невестка, красивая, веселая, талантливая, она ведь живописью занимается, говорят, Репин ее работы хвалил и писал ее портрет. Внуки будут – загляденье.
– К тому же она огородница, – Петров улыбнулся, – девушка неизбалованная, глупостей самоновейших не нахватавшаяся, в здешнем заповеднике-то находясь.
– Лучше бы нам вернуться весной, – озабоченно сказала будущая свекровь, – у Маруси, чай, от женихов отбоя нет.
Проснулась она ни свет ни заря в слезах:
– Дурной сон мне приснился, что старший наш умер.
– Матушка, полно тебе, – успокоил ее муж, – верная примета: во сне умер, стало быть, наяву точно женится.
Было время гаданий, святочных забот, момент окуривать курятники смолою с девясилом, что спасает, как известно, кур от домового да курьей чумки, дни смывания лихоманки, отлучения от коровников ведьм, когда в ход шли вернейшие средства: четверговая соль, зола из семи печей, земляной купальский уголь из-под чернобыльника, сальная заговоренная свеча, вощанки, принесенный на север с киевских полей чертополох.
Звезды блестели, горели ярко, предрекая плодородие ягнят. На стогах лежал волшебный снег, способный выбелить любую холстину так, как не умеют ни солнце, ни зола.
Рождественские морозы аукались с грядущими, крещенскими, сретенскими, власьевскими, со всяким крутым утренником, с обладающим целительной силой мартовским теплым снегом. Промерзшим воронам и совам чудились стаи благовещенских птиц. Льду снился водопол, сон был некрепок, подо льдом бежал ручей, весенние болезни еще сидели взаперти в снежных горах, и далек был соловьиный день, в который тульские оружейники отправляются на соловьиную охоту в носильские либо курские леса в надежде поймать приносящего счастье белого соловья.
Глава 14.
ЛИШНИЕ СВЕДЕНИЯ
– Знали бы вы, – сказал мечтательно Савельев, – как я люблю двойные фамилии. Они с детства очаровывают меня. С игры в «знаменитых людей». Что за игра? И вы не знаете? Дачная игра для детей и взрослых в плохую погоду. Назначают букву, каждый на своем листе бумаги пишет на эту букву начинающиеся фамилии знаменитых людей, мы даже мифологических персонажей и литературных героев включали. Можно единовременно, можно с утра букву назначить, а к вечеру списки оглашать. Повторяющиеся в разных кадастрах фамилии вычеркиваются. В чьей версии больше народу останется, тот и выиграл.
– Вебер, ван Гоц Ворошилов, Винер?
– Именно. Но я сейчас о двойных фамилиях как таковых говорю. Грумм-Гржимайло, Май-Маевский, Бонч-Бруевич, Корчагина-Александровская, Малевская-Малевич, Семенов-Тян-Шанский, Миклухо-Маклай…
– Знал я одного человека по имени Октябрь Бар-Бирюков.
– Красота какая! Вельтман, Урусов, введите в сценарий персонажа с двойной фамилией! Уважьте! Умоляю! Нечипоренко, вы знаете какую-нибудь нетривиальную двойную фамилию?
– Войно-Ясенецкий, – отвечал исторический консультант.
– Сочетание знакомое, хотя я не могу сообразить, кто это.
– Известный хирург, в двадцатом году принял сан священнослужителя, неоднократно бывал арестован, сидел в тюрьме, его ссылали, в том числе в Туруханский край, где бы ни находился, продолжал и оперировать, и проповедовать, за книгу «Очерки гнойной хирургии» получил в сорок шестом году Сталинскую премию. Профессор Войно-Ясенецкий, он же архиепископ Лука. Солженицын о нем писал в «Архипелаге ГУЛАГе».
– Жалко, что он к нашей Вилле Рено не имеет отношения.
– Не имеет? Не имеет? – забормотал Нечипоренко, листая одну из своих амбарных книг, – я посмотрю… свои записи…
У Нечипоренко была привычка выписывать в общие тетради большого формата, снабженных надписью на обложке «Амбарная книга», массу лишних сведений из разных источников. «Это исторический фон», – говаривал он важно; на самом деле ему нравилось писать, он страдал одной из форм графомании, к тому же ему казалось: запишет – и запомнит. Он записывал и забывал.
Вечером того же дня, в который заговорили было о двойных фамилиях, Нечипоренко вздумалось посмотреть на свое отражение в пруду. Он пытался посмотреться во второй пруд, как в зеркало, громко хохотал, болтал о зеркальных карпах и все не мог приладиться к воде, решить: встать ли на четвереньки за полоской ирисов над камнями бережка? Пробалансировать ли по узкой полоске запруды между зеркальной водою и водоскатом? Поскольку был он не вполне трезв после очередной беседы с писателями, сорвался он в воду. Стоя в пруду, бывшем ему по грудь, он возопил:
– Я знаю… я знаю, что за мальчики тонули в пруду! Даниил и Вадим Андреевы!
– Тронулся, – констатировал Савельев. – Что значит вожжаться с этими забулдыгами писателями.
– Сначала упал Даниил! – кричал Нечипоренко, не совершая ни малейшей попытки выйти на берег. – Он лежал на дне, Вадим видел его с крутого склона!
– Что за галиматья? Что за чушь собачья? – разозлился режиссер. – Визионер хренов! Мокрая курица! Вы исторический консультант, а не экстрасенс из Скворцова-Степанова. Как могли оказаться тут летом 1912 года Вадим и Даниил Андреевы? Я ничего такого в мемуарах Вадима Леонидовича не читал. Когда и где вы сие почерпнули?
– В ручье почерпнул сию минуту и знаю наверняка, – отвечал выбравшийся на карачках на берег Нечипоренко, стуча зубами.
– Из ботинок воду вылейте, – посоветовал Вельтман.
– Больше ничего из источника информации не извлекли? – поинтересовался улыбающийся Урусов.
– Академик Петров получил письмо от ссыльного на берегу этого пруда, – ответствовал трясущийся консультант, – Конверт был клеенчатый, зашит суровой ниткой. Возможно, плавал в воде.
– Ничего хорошего, – изрек Савельев, – с человеком, пьющим регулярно с писателями, произойти не может. Вы на пороге белогорячечного бреда. Идите быстрее наверх переодеваться, вода ключевая, ледяная. Заболеете – уволю.
Уходя, Нечипоренко обернулся и зубовной дробью простучал:
– И эт-тот ссыльный б-был В-войно-Яс-сенец-цкий.
– Ну, до чего упрямый хохол, – покрутил головою режиссер, – ну, сил нет.
Нечипоренко свято верил в исторические факты. Ему казалось: только собери их добросовестно, сложи, собери полный мешок, а потом разложи, распредели, как вещдоки, по кучкам – явится блистательная всеобъемлющая картина. Прочитав фразу известного парадоксалиста: «Факты часто заслоняют от нас действительность», Нечипоренко вознегодовал от такого глумления над своим домашним божеством. Хотя закрадывались и у него кое-какие робкие сомнения – уж больно нелепы были наборы событий; но он объяснял это тем, что фрагменты мозаики бытия в его наборе неполны, многих кусочков не хватает, потому полотно теряет цельность, круговая панорама перестает быть круговой.
Первое время его прямо-таки раздражало, почему академик Павлов в сценарии (как и в романе Урусова) назван Петровым.
– Он узнаваем, ясно, что о нем речь. Какого черта мы должны превращать его в какого-то Петрова?!
– А мы, как известно, – парировал Савельев, – не документальную лабуду снимаем, а художественный фильм. И, вообще, не ваше собачье дело. Идите и пишите свою амбарную книгу.
Записи в амбарной книге велись разноцветными фломастерами, карандашом, шариковой ручкой и авторучкой, в которую собиратель сведений набирал любимые свои фиолетовые чернила. Иногда попадались вклейки: вырезки из газет и журналов, ксерокопии., неаккуратно вырезанные и старательно наклеенные, снабженные заметками на полях.
«Когда подопытные собаки (и обезьяны?) вели себя не так, как должны были, по представлению Павлова, себя вести, он сердился и говорил, что они его разыгрывают».
«Когда Рахманинова спросили, что главное в искусстве, он отвечал: „В искусстве не должно быть главного“».
«Карл Теодор Казимир Мейерхольд при переходе в православие взял имя Всеволод в честь писателя Гаршина».
«Отец Павел Флоренский был расстрелян в соловецком лагере. Незадолго до своей гибели исследовал водоросли, агар-агар, занимался получением йода из водорослей и воды. Художник Нестеров, автор известного портрета Павлова в Колтушах, написал картину „Философы“, на которой изображены бредущие и беседующие отец Павел Флоренский и Сергей Булгаков».
«Хлысты обожествляли воду».
«Первоапрельская статья („Физики шутят“?) о том, что у воды есть память».
«Нетрадиционное (и успешное) лечение наркомании включает, кроме всего прочего, рассматривание родника».
«Текущий момент».
«Диалог двух советских ученых о науках.
– Науки бывают естественные и неестественные, – сказал первый.
– Науки, – парировал второй, – бывают общественные и антиобщественные».
«Павловская станция в Колтушах была создана в первую очередь для генетических исследований. Там была лаборатория экспериментальной генетики, перед которой стояли памятники Рене Декарту, Сеченову и Грегору Менделю».
Письмо из Туруханского края от Войно-Ясенецкого И. П. Павлову (написано на вырванном тетрадном листке, сверху чернилами поставлен крест):
«Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега Иван Петрович!
Изгнанный за Христа на край света (три месяца я прожил на 400 верст севернее Туруханска) и почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас. Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое.
Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами.
Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно).Туруханск, 28.8.1925».
«Кажется, – записал зеленым фломастером Нечипоренко, – Павлов тогда перед Советской властью вступился за детей священников, которым собирались запретить учиться в институтах: „Тогда и меня увольняйте, я сын священника“».
Ответ академика Павлова епископу Луке (в миру профессору хирургии Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому):
«Ваше Преосвященство и дорогой товарищ!
Глубоко тронут Вашим теплым приветом и приношу за него сердечную благодарность. В тяжелое время, полное неотступной скорби для думающих и чувствующих, чувствующих по-человечески, остается одна опора – исполнение по мере сил принятого на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве.
Искренне преданный Вам
Иван Павлов».
«Войно-Ясенецкий в тюрьме делал экстракцию катаракты рыбьей костью. Вместо ниток в тайге применял женские волосы – для швов. Первым пересадил больному почки теленка (в 1924 году). В 1925-м в разгар зимы отправлен в санях без теплой одежды из Туруханска за 1000 верст. Спасли его ссыльные социал-революционеры и местные жители. Узнав о предстоящей высылке Войно-Ясенецкого, эсер Розенфельд (еврей из Белоруссии, принципиальный атеист и материалист, вечно споривший с епископом Лукой) принялся обходить дома своих товарищей-эсеров и набрал в конце концов целую охапку теплых вещей, в том числе меховое одеяло и даже немного денег; а прихожане-пациенты встречали в пути батюшку-доктора с почетом и уважением. О возвращении епископа Луки в Туруханск хлопотал известный сибирский хирург профессор Владимир Михайлович Мыш».
«Даниил Андреев. „Роза мира“. Уничтоженный (исчезнувший?) роман „Странники ночи“, за который он и был арестован. В романе в тюремной камере по очереди, сменяя друг друга, молятся за всех священники разных конфессий».
«…Принцип совершенствования и трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудиями воли, чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь предметы трехмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление огромных расстояний, излечение неизлечимых и, наконец, как наивысшее, чрезвычайно редкое достижение – воскрешение мертвых. Здесь налицо овладение законами нашей материальности и подчинение низших из них высшим, нам еще неизвестным. И если в XX столетии большинство из нас успевает прожить всю жизнь, так и не столкнувшись с бесспорными случаями подобных явлений, то из этого вытекает не то, что этих явлений не бывает, и не то, что они принципиально невозможны, но лишь то, что условия безрелигиозной эры… сводят количество подобных случаев к немногим единицам» (Даниил Андреев. О чудотворчестве).
«Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячею ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, – именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания» (Даниил Андреев).
«На Карельском перешейке, – вывел исторический консультант авторучкой, наполненной черными чернилами и для начала влепившей в букву „а“ жирную кляксу, – жили на дачах Рерих, Барановский, Леонид Андреев, Тутолмины, Кипарские, Беранже, Репин, Павлов, Горький, Эдит Седергран, Парланды, Боткин, Крамской, Салтыков-Щедрин, Суворин и другие, и другие».