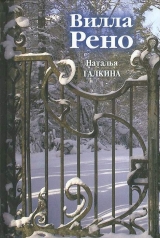
Текст книги "Вилла Рено"
Автор книги: Наталья Галкина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
В Хельсинки Ванда Орешникова получила от финского правительства компенсацию за некогда купленный у финнов в Келломяках дом, хорошую пенсию и комнату в центре города. Ей довелось пережить гибель Маруси и внуков под бомбами советских самолетов. Ей хотелось и самой погибнуть во время налета, но она осталась жива. Война закончилась через пять лет, она ничего не знала о младшей дочери: не погибла ли и та в блокированном Ленинграде; написала она письмо на известный ей адрес, в дом на Кировском проспекте. Письмо дошло. Владимир Иванович просил советское правительство, чтобы разрешили ему привезти из Хельсинки старую, больную, беспомощную тещу. Через полгода он ее привез.
После войны Владимир Иванович написал властям, что больше не претендует семья его на коттедж в научном городке в Колтушах, но просит разрешения вернуть им дачу в Келломяках, купленную академиком Петровым для Ванды Орешниковой. У Ванды на руках были документы на дом, бумага о купле-продаже. Поначалу отвечено было, что Келломяки ныне находятся на территории, принадлежащей военному округу, а в доме живет генерал В.; на самом деле в доме жил генеральский денщик, ежевечерне игравший на одном из крылечек на гармошке. Играл он, в частности, и марш Лебедева-Кумача «Принимай нас, Суоми-красавица».
Владимира Ивановича, Татьяну Николаевну и старшую дочь Милочку посадили в «газик» и долго возили по перешейку, предлагая выбрать любой дом вместо занятого генералом. На перешейке было пустынно, безлюдно; редкой красоты дома – в Териоках, Куоккале, Оллиле, в незнакомых поселках – показывали им, и деревянные, и каменные, особняки с башенками и флюгерами, северный модерн; стояли в цвету околдованные заброшенные сады. В конце концов Владимир Иванович поблагодарил правительство и военный округ за заботу, но попросил вернуть прежний их дом. И его вернули – неожиданно легко и без возражений. Денщик съехал. В пустые рамы веранд вставили стекла. Владимир Иванович вызвался летом работать на экзаменах в своем Технологическом институте, сперва сессия, потом приемные, – и на вырученные деньги поставил вокруг участка забор.
Ванда Федоровна медленно обошла вокруг дома, оглядела все внутри, потрогала дверные ручки, постояла возле крышки подвала. Потом они с Татьяной прошли по лесной дороге, по которой ездили на телеге за грибами, подошли к воротам Виллы Рено. Легко разъялись тронутые патиной лапки створок, ворота открылись. Дома не было, флигеля стояли на месте, клепсидры тоже не было. Они спустились к первому пруду, услышали шум ручья. И тут Ванда Орешникова заплакала – впервые за семь лет. Через год ее похоронили на Серафимовском кладбище Ленинграда.
– Все-таки существует закон парности случаев, – сказала старая женщина, старшая внучка Ванды Орешниковой, Катрионе, угощая ее чаем с вареньем из красной смородины. – Бабушка моя спряталась в подвал, чтобы ее не вывезли; а знакомая наша, старая финка, жившая в Ольгине, когда стали их выселять из-за того, что по плану дом подлежал сносу, через ее участок, да и через соседские, должна была пройти кольцевая дорога на Кронштадт, дамба то есть, забралась в подвал и заколотила там себя изнутри досками. Они жили на этом участке с начала века, куры, козы, огород, свиньи, корову снова разрешили, три войны миновали, если не четыре. Разумеется, доски отодрали, старушку вытащили. Но в голове у нее финская война и дамба соединились, дамбу войной прорвало, и поселилась старая финка, помешавшись вконец в одночасье, в больнице имени Скворцова-Степанова, где мой дедушка когда-то работал.
– Я не слышала о законе парности случаев, – отвечала Катриона.
– Я видела, как строят эту кольцевую дорогу, когда в последний раз ездила в город. Я туда редко выбираюсь и каждый раз вижу что-нибудь удивительное. Новую дорожную развязку, например, на которой стоят невесть куда обращенные пушки, чудо что такое. Или крыс на помойке в двух шагах от совершенно европейских магазинчиков и модных лавок. А недавно поехала навестить могилы родителей и дедушки с бабушкой. Какой навели порядок на мемориальном кладбище! Могилу великого поэта перенесли под большую березу. Для красоты. Могилу великого прозаика (у обоих классиков, конечно же, захоронения столетней давности) перенесли поближе к центральной аллее, кустов насажали, как в парке культуры и отдыха. Мы часто ходили раньше мимо старых надгробных плит, наползающих друг на дружку, обведенных высокой травою, чистотелом, лютиками; иногда дядька косил траву, темный, молчаливый, вне времени, дядька-смерть с косою; иногда мы раздвигали траву руками, читали фамилии, среди которых попадалось столько знакомых: по литературе, по истории, по петербургской жизни. Теперь эти плиты пропали, зато возле церкви, где прежде начинались ряды старинных памятников и плит в травах, красуется большое надгробие современного скульптора, а от него идет аллея, ну прямо Парк Победы. А мамина, неизвестно кем разбитая плита исчезла, и мамино имя почему-то приписали не к папиной плите, а к дядиной, дядю этого мы не знали, он погиб молодым в девятнадцатом году, то ли в белую армию ехал, то ли на юг за продуктами, то ли расстреляли его, то ли от тифа умер он, и похоронен на самом деле там, на дальней станции со странным названием, а тут только надпись, дедушка хотел, чтобы плита с именем любимого сына была рядом с его собственной. Так, знаете ли, легко могилы на кладбище перетасовали, словно порядок наводили вурдалаки.
– Я вам сейчас спою, – объявил Нечипоренко, откладывая тетрадь.
– Да, вы дивно поете, как все хохлы. Вот только почему сейчас? Мы все дослушали про зимнюю войну? И что будете петь? «Снег пушистый»?
Нечипоренко, не отвечая, запел, маршируя по лужайке, не ведомый никому марш:
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озер. —
Тут он сперва отдал честь, потом вскинул руку в пионерском салюте.
Ломят танки широкие просеки,
Самолеты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Пришедший в восторг Савельев стал подсвистывать разбойничьим, заливистым свистом.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот.
– Лебедев-Кумач! – кричал Нечипоренко, прыгая вокруг лужайки. – Слова Френкеля! Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии! Ленинградская фабрика грампластинок, 1939 год! А теперь я вам прочту стихи.
Тут он встал на пенек, вытянул руку.
На мирное наше
Спокойное слово
Ответили вы
Орудийным огнем.
Хоть память погибших
Взывает сурово,
Но мы еще терпим,
Но мы еще ждем! —
это Твардовский. А вот вам Михалков:
Так шире же сильные плечи
Расправьте, Суоми сыны!
По-братски идет вам навстречу
Правительство нашей страны!
Соскочив с пня, Нечипоренко прополз пару метров по-пластунски, встал на одно колено и стал прицеливаться из воображаемой винтовки, скорчив зверскую гримасу, при этом декламировал, слегка задыхаясь:
– «В снег зарылся финский егерь, злобным глазом ищет цель, но его сметет в набеге с неба бьющая метель! Наступай, стальная сила, с флагом Родины своей, штыковым советским шилом перешеек перешей!» – Семен Кирсанов, прошу любить и жаловать!
Исторический консультант запрыгал по траве, якобы разбрасывая что-то, аки сеятель зерна.
– А вот кому газету! Утреннюю газету! Раздаем бесплатно! Последние заголовки 29 октября 1939 года! «Грозное предупреждение», «Всегда готовы вступить в бой!», «Гнев и возмущение», «Советский Союз будет неприступен» (это будто бы финны хотят захватить Советский Союз, начиная с Ленинграда и далее до Курил), «Поджигатели войны будут биты», «Рассчитаемся с финскими головорезами», «Ждем сигнала боевой тревоги», «Держим порох сухим», «Враг будет уничтожен», «Сметем с пути все препятствия!» И – крупно – высказывание Клима (или Климента?) Ефремовича Ворошилова: «НАШ НАРОД НЕ ТОЛЬКО УМЕЕТ, НО И ЛЮБИТ ВОЕВАТЬ!» Теперь разбрасываю листовки! Вот, пожалуйста, листовки! С самолетов, дирижаблей и просто так! Листовки, господа товарищи, с комиксами, главный герой – Вася Теркин, впервые возник в газете «На страже Родины» в 1930-м, основной автор – Щербаков, соавторы – Твардовский, Тихонов, Солодарь и Маршак.
К самолету лезут гады,
Только сразу пыл остыл.
Вася меткою гранатой
Белофиннов угостил.
Отличился он в атаке —
С боевым своим полком
Брал деревню Питкамяки
Пулеметом и штыком.
– Ох, чуть не забыл, чуть не забыл! 1 января 1940 года «Красная звезда» восторженно публикует новогоднее воззвание Гитлера! Впрочем, это малость попозже. Ловите финские листовки! «Политрук хуже врага! Он стреляет тебе в спину!» Ну, и советская, с картинкой: «Кровавый наймит русского царя Николая, прислужник английских бандитов-толстосумов, вешатель крестьян, убийца финских рабочих палач Маннергейм». Далее должны выбежать еще пять Нечипоренок, они читают другие стихи других авторов, все очень художественное. Луч прожектора высвечивает бледное выразительное лицо известного актера, читающего голосом диктора Левитана напечатанное в «Ленинградской правде» 21 декабря приветствие под заголовком: «Великому другу финляндского народа товарищу Сталину». Голос чтеца с каждой фразой крепнет (или крепчает?): «Собравшись на многолюдные митинги для ознаменования шестидесятилетия великого вождя народов товарища Сталина, мы, сыны финского и карельского народов, охваченные пылом сегодняшней борьбы за освобождение финляндского народа от ига преступной плутократии и империализма, шлем вам, дорогой товарищ Сталин, проникнутый глубоким уважением наш пламенный привет!.. Привет вам, вождю-вдохновителю величайших побед советских народов и трудящихся всего мира! Привет вам, другу и освободителю финляндского народа!»
– После таких ушатов вранья хочется пойти и искупаться.
– Зато я знаю, что такое «пламенный привет»! Помните анекдот? «Чтоб вы сгорели!»
– Вас бы за такой анекдот тогда без суда и следствия в расход пустили.
– Нечипоренко, а что собирались взять к шестидесятилетию Сталина? Выборг?
– А сбоку, – продолжал, не слушая никого, исторический консультант, – выглядывает маленький черненький человечек, держа транспарант с цитатой: «Чтобы ложь воспринималась как правда, она должна быть чудовищной». И в итоге все участники художественно-политически-просветительского действа под названием «Литературно-художественный монтаж», являвшегося обязательным элементом любого концерта, особенно школьного либо студенческого, делают живую картину под названием «Выборг взят!». В центре пять дылд изображают башню замка Выборга, а на самом верху самый маленький и легкий олух стоит у них на головах и машет красным знаменем, уф. Нечипоренко был бледен, пот лил ручьями по лицу его.
– Где вы откопали сии стихи, песни и тексты? – озабоченно спросил Савельев.
– В сборнике «Принимай нас, Суоми-красавица», составитель Евгений Балашов, коллектив авторов.
– Не читал, не попадалось.
– А он еще не вышел, – беззаботно заметил Нечипоренко. – В проекте. В латентном, так сказать, периоде пребывает.
Тут с дерева скатилась Катриона. Вот она-то была красная как рак, щеки ее пылали.
– Сволочи вы, сволочи! – кричала она, – Поганые, проклятые киношники! Вы мне все испортили! Это было мое место, мой замок Спящей Красавицы с прудами и ручьем! Мой заколдованный сад! И вот вы явились, приперлись, наставили бумажных цветов, картонных домов, захватили всё, как крысы, захватчики, оккупанты! Да я столько пакостей и столько вранья про вашу поганую, преступную «правду жизни» отродясь не слыхивала! Вы… вы… вы трупоеды!
Выхватив кусок травы с землей, швырнула она его в Савельева, кидалась горстями песка и дерна, залепила Вельтману в лоб, Тхоржевскому за шиворот.
– Да поймает ли кто эту проклятую бешеную сучку?! – вопил Савельев, уворачиваясь от комьев мокрой земли (Катриона отступила к верхнему фонтану). – Где помреж?! Его вечно нет, этой твари, когда он нужен! Мерзкая чокнутая девка!
В довершение Катриона подскочила к Нечипоренке, выхватила из рук его амбарную книгу и зафитилила ее, замахнувшись изо всех сил, в клепсидру; книга клепсидру миновала, скатилась по лестнице в воду. Нечипоренко с неожиданной для грузного, нетрезвого, задыхающегося человека не первой молодости прытью помчался вслед за своим сокровищем, выловил книгу из воды и только хотел промокнуть рукавом косоворотки страничный разворот, как из текста выросли маленькие человечки в белом снегу; крошечный политрук говорил внемлющим замерзшим солдатам:
– А вот это, товарищи, художественное здание в лесу – дача палача и наймита Маннергейма. Будьте, товарищи, бдительны. И ежели какой из домов занимаемого нами населенного пункта не сожжен, а стоит целехонький, двери настежь, не входи и ничего не бери, все заминировано: и патефон, и часы, и игрушки. А ежели на каком чердаке яблоки лежат, не ешьте, все яблоки отравлены, сплошной яд.
Нечипоренко попытался дрожащей ладонью смахнуть белых чертенят со страницы; не тут-то было; маленький политрук пальнул в воздух, Нечипоренко почувствовал жар укола, холод снега.
– Господи… – шептал исторический консультант, – помилуй мя, грешного…
Неожиданно для себя он перекрестился, рука вспомнила заученное от бабушки в детстве движение крестного знамения. Белые чертенята исчезли.
Поднимаясь по лестнице, он поднял глаза: белое облако медленно плыло в синеве, с облака кивали ему два бело-золотых ангела и маленький священник с нимбом над головою.
– Летит, летит! – вдруг закричал Тхоржевский.
Нечипоренко было решил, что и оператор увидел ангелов со святым на облаке, но, обернувшись на звук мерных выхлопов, усиливающихся и приближающихся, узрел красный монгольфьер с нарисованной на боку белой насканской птицею.
Шар опускался на лужайку.
Все разбежались, как стайка вспугнутых птиц. Монгольфьер приземлился аккуратненько, ни одно плетеное кресло не задел. Позже, давая показания следователю, свидетели происшествия путались, каждый говорил свое, следователь терялся в догадках: то ли все врут и не договорились толком, что врать, то ли врет каждый, то ли пьяны были в стельку. Аэронавтов было то ли трое, то ли двое. Говорили они то ли по-фински, то ли по-шведски, то ли по-датски, то ли по-голландски, то ли на марсианском нечеловеческом наречии. Не то пригласили они Вельтмана, не то втащили его в корзину и похитили, не то сам он умолял их взять его с собой. Сходились все на том, что Вельтман, улетая на чьем-то монгольфьере в неизвестном направлении, на прощание сверху ручкой помахал. При этом сценарист действительно исчез, никто никогда его больше не видел, ничего о нем не слышал. В качестве доказательства пребывания на лужайке воздушного шара фигурировали два мешка с песком без надписей либо маркировки, якобы выброшенный при подъеме из корзины балласт.
Вельтмана завораживало знакомое чувство полета, испытанное в снах, где был он вороном. Отдалялась лужайка с людьми, запрокинувшими лица в небо, отдалялись голубовато-ртутные пруды каскада, сосны, дачи, шоссе, полоса песка у залива. Зато приближались редкие ярко-белые облака. Ширились дали, непривычный вид горизонта по кругу во весь окоем привел бывшего ворона в восторг.
– Куда летим? – спросил он беспечно, радостно, ожидая ответа, не зная, поймут ли его.
Третий аэронавт в темном, которого он постоянно видел со спины, ответил, не оборачиваясь:
– Куда хочешь.
Далеко внизу плыли пустынные пляжи, кромка прибоя.
Они почти достигли нижних облаков. На некоторых облаках видел сценарист маленькие разрозненные фигурки молящихся святых, молились святые о павших и погибших, о падших и путешествующих, обо всех, о каждом. У святых были посланцы: ангелы, бабочки, светлячки, отдельные птицы, все птицы вместе как одна, избранные кроткие животные.
Огромный сияющий кумулюс, идущий над шаром, втягивал монгольфьер в свое туманное непостижимое пространство. Аэронавты кричали друг другу что-то на непонятном наречии, их всасывал облачный магнит, крутили воронки разномасштабных вихрей, не было видно ничего, одно молоко тумана, одна белая визионерская мгла небытия. Они падали вверх, готовые камнем низринуться вниз. Вельтман уже не знал, где земля, где небо, есть ли они вообще, он не знал, сколько времени длилось поглощение шара облаком: часы? минуты? секунды? Белое антивремя антимира?
И, словно перескакивая с уровня на уровень, облако оказалось внизу, подтаяло, ушло в сторону, шар плавно поплыл своей дорогой. Но теперь их было в корзине не четверо, как прежде, а двое: Вельтман да стоящий к нему спиной, тот, что в черном; два золотисто-рыжих в охристых куртках исчезли вместе с облаком – или остались в нем.
Вельтман глянул вниз, на землю.
Там, далеко внизу, не было ни залива, ни сосен, ни пляжей, где на отмелях строили дети из мокрого песка бесфамильные замки в стиле Гауди, ни дач Карельского перешейка, ни Финляндии. Только плёс, высокий берег, церквушка над обрывом, сельское кладбище, превратившаяся в пейзаж, увиденный с птичьего полета, картина Левитана «Над вечным покоем»; по водам плёса шли серебристые блики, плыла лодка.
Глава 48.
ЧАРЫ
Катриона сидела на открытой веранде второго этажа, листала книги, сушила волосы после купания, рассеянно слушала разговор подруг матери, пьющих чай на нижней веранде под нею.
– Я помню послевоенные Териоки, – сказала одна из подруг по фамилии Елкина. – Мы жили там с дедушкой в военном санатории и ходили по лесной дороге в Келломяки, так дед называл Комарове. Я потом это название с городскими Коломягами путала. Мы ходили к какой-то заброшенной усадьбе с маленькими водопадами и прудами.
Катриона навострила уши.
– Была весна, полно сморчков на лесной дороге. Однажды мы чаевничали в Келломяках, не помню у кого. Веранда с цветными стеклами, смородиновое варенье. Меня не покидало ощущение, что мы в волшебных, зачарованных местах. Потом, уже зимою, мы отдыхали с дедушкой – он был военный врач – еще на одной базе отдыха погранвойск, в Суоярви.
Катриона только что читала о боях под Суоярви в финскую войну.
– А я, – промолвила вторая подружка, Катриону чуть-чуть удивляли полудетские отношения почтенных дам, этакая сказка о потерянном времени, – в детстве ездила к отцу, он служил в погранзоне под Приморском в районе Прибылова, почему-то с Дальнего Востока его перевели именно сюда. Мы ездили к папе с моей двоюродной сестрой Тамарой. Тамара была старше меня, лет пятнадцати, художница с этюдником. Я тоже стала рисовать, подражая ей. То были края заколдованных замков Спящих Красавиц.
Катриона спускалась вниз, все время слыша рассказ о зачарованной погранзоне под Приморском, то громче, то тише, и наконец присоединилась к чайной церемонии.
– Мы причаливали на катере к острову, пробирались сквозь заросли высокой травы, преувеличенно высокой и густой…
– Это была трава забвения! – перебила ее Катриона. – У нас тут тоже в иное лето она растет!
– …мы раздвигали кусты руками, я и сейчас чувствую уколы шипов роз и шиповника, царапины от их кошачьих коготков, – и вдруг перед нами открывался сад: висели на ветках вишни, сияли яблоки, мы собирали в траве клубнику, рвали цветы. Полуразрушенный дом напоминал замок, о нем тоже говорили: «дача Маннергейма».
– Я теперь склоняюсь к мысли, – встряла Катриона, – что линия Маннергейма состояла из его дач…
– Мы прямо-таки находились в сказке Перро! Я помню гранитные набережные на заливе, имение в Ландышевке, естественно, именуемое дачей барона Карла Густава… Мы слышали одиночные взрывы, два мальчика, мои сверстники, подорвались на одной из множества противотанковых мин, такое случалось время от времени, а иногда мальчишки находили гранаты, швыряли их, гранаты взрывались поодаль. Некоторые дороги были все еще заминированы. Мы ничего не боялись, разгуливали вдвоем с кузиной, где хотели, писали этюды. Нас притягивали прогретые солнцем вересковые поляны, где медовый аромат лилового цветения смешивался с запахом прогретой солнцем сосновой смолы; мама читала нам балладу Берне а «Вересковый мед». В заливе было полно рыбы, отец брал меня на ночной лов. Стоило закинуть удочку, рыба клевала, как безумная. Бабушка жарила угрей, они, еще живые, извивались на сковородке, это приводило меня в ужас священный, именно живые жарившиеся угри пугали бесконечно, а не мины. Я помню форелевые ручьи, тоже волшебные; позже, в юности, читая «Ручьи, где плещется форель» Паустовского, я думала, что и он видел хоть один из ручьев околдованного царства, где провела я в бывшей Финляндии лучшие летние дни моей жизни.
Дверь отворилась, появился пришедший с работы отец Катрионы.
– Здравствуйте, кумушки-голубушки.
– Здравствуй, коли не шутишь, сударик, – ответила Катриона и ушла наверх.
Открыв наугад книгу мемуаров Маннергейма, прочла она: «Как будто все было околдовано…» Катриона закрыла книгу, рядом лежала другая, на шведском, влюбленный в Катриону студент-швед обещал перевести: Оскар Парланд, «Зачарованная дорога», все о Карельском перешейке. Оскар Парланд, чья фотография почему-то притягивала ее, бывал в 20-е годы на Вилле Рено и даже играл в самодеятельном театре Келломяк вместе с Таней Орешниковой. Некогда ступени настоящего театра, ведущие в никуда, украшали пустое пространство за перроном. Там же стояли каменные ворота без ограды. Катриона постоянно собиралась войти в ворота и подняться на ступени, но боялась. Потом все разобрали на фундаменты новые русские, и беседку угловую Виллы Рено обрушили и разобрали; новые хозяева лихорадочно застраивали поселки перешейка уродливыми аккуратными домами с немасштабными глухими высоченными заборами. Возможно, то был их способ отгородиться от чар здешних мест.
Катриона брела, задумавшись, переходя автоматически из улицы в улицу, направляясь к приятельнице, обитавшей у старого Дома отдыха театральных работников. «Провинция, – думала она, – pro vincia, чужая территория, завоеванная боями… Войны, террор, столько народа погибло… А теперь внуки и правнуки комиссаров и политруков, а также внуки и правнуки уголовников, сидевших в лагерях с политическими и убивавших их, к удовольствию охранников, произвели очередной передел собственности, цветут и пахнут…» То были, возможно, несколько странные для юной девицы размышления; споткнувшись, она вернулась к действительности и огляделась. Ее окружали новодельные жилища, полудоты-полукапища, возле которых стояли джипы (по ночам носившиеся по дорогам поселка, в том числе по лесным дорогам, нахраписто, отчаянно, с дикой скоростью, как бэтээры). Катриона воскликнула, раскинув руки, прогорланила на всю округу:
– Господа товарищи! Наконец-то революция 1917 года завершилась!
Из окна второго этажа ближайшего тюремка высунулся нетрезвый мордоворот с бычьим затылком и возопил громогласно, разглядев Катриону:
– Иди к нам, девка, в натуре, конкретно!
Чары было развеялись, но тут на одной из ближайших нерусских сосен закаркал ворон: «Невермор-р! Невермор-р! Не верр-нешь!» Он наклонял голову с маленьким человеческим личиком, взмахивал крылами; колдовство вернулось на круги своя.








