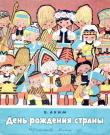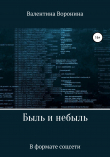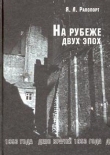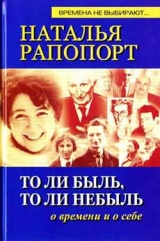
Текст книги "То ли быль, то ли небыль"
Автор книги: Наталья Рапопорт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
ОСТОРОЖНО! ЭТО ЖЕ БАХ!
В детстве я очень любила ходить в Консерваторию. Это было единственное место на земле, где мне покупали мороженое.
Перед концертом на сцену выходила стройная дама на высоких каблуках в неизменном черном костюме и говорила пронзительным контральто:
– Начинаем концерт Государственного симфонического оркестра Союза СССР под управлением… В программе…
Пока она говорила, я мысленно прокладывала кратчайший путь от своего места до консерваторского буфета. Важно было ухватить вафельный стаканчик с пломбиром, пока не кончился антракт. Все первое отделение концерта я напряженно ждала перерыва, во втором делилась пережитым только что наслаждением с портретами великих композиторов на стенах Большого зала, предпочитая другим Иоханна Себастьяна Баха в напудренном парике. Трудно назвать момент, когда это изменилось. Может быть, на концерте Софроницкого, когда он внезапно забыл нотный текст и метался по сцене, громко говоря самому себе:
– Спокойно! Спокойно!
Я до сих пор помню охвативший меня ужас. Софроницкий сел наконец снова за рояль и благополучно сыграл всю вещь от начала до конца. Что это было? Может быть, Скрябин? – Не помню. Но я его слушала!
Родители заметили перемену. Они, как оказалось, давно ждали этого момента. Мне взяли учительницу музыки, и в возрасте восьми лет меня постигли первая любовь и первая утрата.
Шалита Ильинична Рохлина была молодая, яркая, жгуче черноволосая, талантливая, бесконечно терпеливая и ласковая. Я влюбилась по-настоящему. Кто сказал, что человек в восемь лет не может по-настоящему влюбиться? – Может. Просто в этом возрасте пол объекта не играет никакой роли. Больше в женщин я не влюблялась никогда в жизни. Но и в зрелые годы переживания любви были совершенно те же, что в восемь лет – другими были грезы.
Влюбившись в Шалиту, я жила от урока до урока и старалась изо всех сил. Музыкальными способностями Бог меня не одарил, и мне приходилось часами играть ненавистные гаммы и этюды, чтобы заслужить Шалитину похвалу. Когда это удавалось, я бывала беспредельно счастлива. Перед сном в постели я мечтала, что спасаю свою учительницу от разнообразных грозящих ей опасностей: от поездов, машин, собак, бандитов… Я ее не спасла. Молодая, красивая, талантливая Шалита умерла от рака груди, не дожив до тридцати лет…
Уроки кончились. Я категорически отказывалась заниматься с кем-нибудь другим. Временами я еще подходила к инструменту; играла я всегда одно и то же, разученное с Шалитой: «Болезнь куклы», «Смерть куклы». «Новую куклу» я не играла никогда. Но время шло, подходы к пианино становились все реже, а исполнение все чудовищней. Пальцы то неслись вскачь, но заплетались и попадали на совсем чужие клавиши. Отличавшийся абсолютным слухом папа прикрикнул однажды:
– Прекрати! Ты позоришь память Шалиты! Или никогда больше не подходи к инструменту, или начинай заниматься! Есть замечательный педагог.
Так я оказалась в руках у Зинаиды Самуиловны Кизильштейн. В Зинаиде Самуиловне всё было значительным: рост, лицо, нос, губы, руки, высокий лоб, серебрящиеся волосы. Много лет спустя я прочитала у Заболоцкого: «Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом…». Пышный портал – это о ней.
Зинаида Самуиловна преподавала в Гнесинке. Меня она взяла из уважения к родителям и еще потому, что ей остро нужны были деньги. Ее старший сын Юра Михайлов сидел в лагере, где-то, кажется, в Казахстане. Он страдал астмой; жизнь его постоянно висела на волоске. Зинаида Самуиловна ездила на зону и давала взятки лагерному начальству, чтобы они передали Юре необходимые ему лекарства. Мужа она потеряла давно – кажется, по тому же стандартному сценарию.
Моя старшая сестра сочинила для меня такую о Юре драматическую легенду. Дескать, во время войны Юра был на фронте, отличался необыкновенной храбростью и получил очень высокую награду – орден Славы II степени. Награждать его должны были в Кремле. По дороге с фронта в Москву в его купе оказался чрезвычайно разговорчивый попутчик. Когда Юра сошел из вагона на перрон московского вокзала, его арестовали. Вместо Кремля Юра уехал на Лубянку, оттуда – в лагерь.
Я много лет принимала это за чистую монету, пока совсем неожиданно не узнала от новых друзей, хорошо знавших Зинаиду Самуиловну, что демобилизовали и вернули Юру с фронта из-за астмы, а посадили из-за участия в какой-то ВГИКовской студенческой группе, якобы готовившей покушение на Сталина. О его истинной трагической судьбе упоминает Инна Шихеева-Гайстер в замечательной книге «Дети врагов народа».
Жизнь Зинаиды Самуиловны проходила в непрерывном страхе за жизнь сына; благодаря ее самоотверженным стараниям Юра дожил до первой оттепели. Году в пятьдесят шестом его реабилитировали, и Зинаида Самуиловна наконец забрала его из лагеря. Вскоре после этого он умер от усугубившегося в лагере туберкулёза…
Но это все случилось потом. Когда я начала заниматься с Зинаидой Самуиловной, Юра был еще в лагере, и она постоянно покупала и отвозила ему дорогие лекарства. Думаю, если б не это, вряд ли бы педагог такого ранга взялся заниматься с такой бездарью, как я. Моя игра доставляла Зинаиде Самуиловне невыразимые мучения. Она вздрагивала, морщилась, как от боли, вскрикивала:
– Осторожно!!! Это же Бах!
В доме у Зинаиды Самуиловны меня настигла вторая любовь. Так, наверное, было на роду написано, что музыка и любовь в моей жизни часто шли рука об руку.
Вторую любовь звали Юра Рейтман. Мне было лет двенадцать, он был на год старше – тоненький мальчик, родом откуда-то из провинции. Видимо, он был сирота – я никогда ничего не слышала о его родителях; Зинаида Самуиловна взяла его к себе жить и стала ему второй матерью.
Юра был очень талантлив, учился в Гнесинке. Меня сразила его необыкновенная красота: один глаз был у него голубой, другой – зеленый.
Теперь душу мою раздирала на части неразрешимая дилемма: с одной стороны, мне очень хотелось, чтобы Юра был дома, когда я прихожу на урок, с другой – было невыносимо стыдно так бездарно играть в его присутствии. Но Зинаида Самуиловна была гениальный педагог, и я постепенно двигалась вперед. Я играла уже сонаты Бетховена и Моцарта, когда посадили папу. На этом уроки музыки прекратились сами собой и больше никогда не возобновлялись. Я не умею читать с листа, но пальцы мои хранят в памяти фрагменты бетховенских сонат, и я иногда играю их себе на видавшем виды белом пианино, подаренном мне одним американским приятелем.
…Зинаида Самуиловна умерла от сердечного приступа. На похороны пришла масса народа: ученики, ученики, ученики, друзья. У нее было удивительно светлое, спокойное, умиротворенное лицо. «Никогда не видела ничего прекраснее», – сказала мне моя соседка.
…Юра уехал учиться в Ленинградскую консерваторию и женился там на скрипачке. Я потеряла его след, но вдруг, лет через пять или шесть – звонок: Юра. Участвовал в конкурсе Чайковского, стал дипломантом. Мы договорились встретиться. Около консерватории меня ждал незнакомый круглолицый коренастый мужчина с модными усиками. И только один глаз был у него по-прежнему голубой, а второй – зеленый.
Шалита и Зинаида Самуиловна оставили мне бесценное наследство – музыку.
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Декретный отпуск мой кончился, и мы стали искать няню.
– Я звоню по объявлению. Как к вам доехать?
– А где ты находишься?
– Я-то? В будке около парикмахерской.
– На какой улице?
– Не знаю.
– Как ты туда попала?
– От вокзала пришла.
– От какого вокзала?
– На какой приехала.
– Откуда ты приехала?
– Я-то? Из деревни.
– Город какой-нибудь рядом есть?
– Не.
– А где на поезд села?
– В Ярославле.
– Тогда иди назад к вокзалу, садись на метро…
Так в нашем доме появилась Дуська. После проведенного с ней короткого инструктажа я вышла на работу, а Дуська с годовалой Викой вышли гулять на улицу.
Это стало настоящей катастрофой для обороноспособности державы. Краснощекая, полногрудая, цветущая шестнадцатилетняя Дуська мигом дезорганизовала работу Московского военного округа. Казалось, что в нашем дворе расквартирована военная часть, часовые которой несут неусыпную службу у нас в подъезде и под дверью. Телефон раскалялся от звонков:
– Еву позовите.
– Позовите Еву.
Отупев от родов, жизненных проблем и недосыпа, я не сразу сообразила, что Ева – это от Евдокии, элегантная аббревиатура нашей Дуськи.
– Еву можно?
Еву было можно. Очень даже можно. Быстро овладев тайнами профессии, Дуська умело гуляла с ребенком и с солдатами одновременно, с толком используя дневное время, когда дома, кроме них с Викой, никого не было.
Кроме красоты и вкуса к жизни, у Дуськи была ещё вывезенная из деревни своеобразная лексика. Значащие слова тонули в море, мягко говоря, вводных.
– Бери свою блядь и пойдем гулять, – вдохновенно рифмовала Дуська, указывая на Викину любимую куклу, и Вика долго была уверена, что кукла так и называется.
А ребенок, между прочим, уже начинал говорить.
Однажды к нам в гости пришел мальчик из очень интеллигентной семьи. Кудрявый, аккуратно причесанный, в белоснежной кружевной рубашечке с черным бантиком. Виктория из кожи вон лезла, чтобы понравиться этому принцу. Показывала свои сокровища:
– Смотри, мама мне вчера подарила новую блядь, говорящую!
Мама схватила принца, и больше мы их не видели… Потом Дуська забеременела.
Надо сказать, что родители мои через такие испытания уже однажды проходили. Было это много лет назад, когда родилась моя старшая сестра Ляля. Ту девушку звали Нюра. Нюра гуляла с красноармейцем, в отличие от нашей Евы – с одним, но ведь и время было другое, пуританское.
– Нюр, ты с ним поосторожнее, – посоветовал папа.
– Да что вы, Яков Львович, мы с ним уже два месяца встречаемся и только недавно познакомились! – успокоила Нюра.
Нюра, конечно, забеременела, а солдат сбежал. Нюра знала, где стоит его часть, и написала письмо начальнику.
Вскоре пришел ответ, но не от начальника, а от самого солдата: «Дорогая Нюра, вы написали товарищу начальнику, что я являюсь отцом вашего зачатия…»
Как «отец Нюриного зачатия» солдат себя не оправдал и «знакомство» с Нюрой категорически отрицал. С абортами тогда было сложно, и Нюра уехала рожать в деревню, а сестру мою Лялю отдали в ясли.
Вооруженные этим опытом, родители мои предсказывали близкий конец нашей с Евой эпопеи, и он не заставил себя ждать.
На семейном совете, состоявшемся при деятельном участии самой пострадавшей, решено было устроить Дуську на аборт, а потом немедленно отправить домой к маме, чтобы присматривала за дочерью. Эта последняя часть протокола совершенно не входила в Дуськины планы и вызвала яростное сопротивление, но папа проявил твердость духа и, когда Дуська поправилась, сам отвез ее на вокзал и посадил в поезд.
Сколько раз потом я проклинала себя за этот отвратительный снобизм!
Потому что на смену Дуське пришла по объявлению настоящая ведьма. Высокая женщина лет шестидесяти, с довольно правильными чертами лица, которое почему-то казалось мне безобразным. Вскоре я разгадала тайну ее уродства: лицо безобразили свирепые глаза. Вика стала вздрагивать и плакать по ночам. Какое-то время мы терпели. Первым не выдержал дед:
– Эльвира Петровна, ребенок никогда не перестанет плакать, если на него так злобно кричать!
Реакция была совершенно неожиданной.
– Ага, я так и знала, что вы уже побывали в райкоме, сыщики! – оскалилась наша няня. Увидев полное недоумение на папином лице, осеклась, но было поздно. Папа-таки съездил в райком партии по месту ее прописки. Оказалось, что на склоне лет Эльвира Петровна круто поменяла профессию: в няни она пришла из надзирательниц женских лагерей, откуда была изгнана с выговором по партийной линии за жестокое обращение с заключёнными…
Малютку Еву Моисеевну привез в наше отсутствие ее сын.
С Викой в это время сидела наша соседка, она-то их и впустила. Сын поставил в коридоре сундучок и исчез, не оставив никаких координат.
Вернувшись с работы, мы с Володей застали в нашей постели сладко спавшую крохотную седую старушку.
– Это – мне? – спросил восхищенный зрелищем Володя. Старушку аккуратно разбудили.
– Ева Моисеевна, сколько вам лет? – поинтересовалась я.
– Семьдесят пять, – сказала Ева Моисеевна.
– Она забыла, – прокомментировал папа. – Спроси, не помнит ли она Декабрьское восстание на Сенатской площади и не при ней ли отменили крепостное право?
Трогательно свернувшись калачиком, Ева Моисеевна целыми днями спала на двух составленных около телефона стульях, временами отвечая на звонки, о которых, впрочем, мгновенно забывала. Мы пустились на розыски ее сына. Каким-то чудом нам в конце концов удалось его найти – деталей не помню, но цепочка была длинная. Практичный сын потребовал выкуп – иначе забрать мать никак не соглашался. Мы были в восторге от простоты и изящества всей операции: на месяц избавившись от матери, он еще и заработал на этом деле, и, как видно по отточенности деталей, не впервые…
Нина Дмитриевна приглянулась нам сразу.
– Вешу ровно сто килограмм! – с гордостью сообщила она о своем выдающемся достоинстве.
– Толстая, значит, наверно, добрая, – с надеждой шепнул мне Володя, – давай возьмем!
К сожалению, очень скоро выяснилось, что Нина Дмитриевна совсем не умеет готовить и что ребенок находится совершенно вне сферы ее интересов: основное внимание она сосредоточила на моем овдовевшем отце. Нина Дмитриевна всё живописала ему ужасы холостого и преимущества женатого существования.
– А физиология не нужна, можно и без физиологии, – объясняла папе Нина Дмитриевна, видимо, не очень уверенная в его возможностях.
– То есть как это можно без физиологии! – возмутился папа, – без физиологии никак нельзя!
– Нет, если нельзя без физиологии, можно и с физиологией, – быстро согласилась Нина Дмитриевна.
– Такое весомое счастье само в руки плывёт! – смеялся папа. – Жаль, что она не умеет варить кашу и жарить яичницу.
Потерпев матримониальное фиаско, Нина Дмитриевна ушла сама. Она была симпатичная тетка, и хочется верить, что в конце концов она нашла любителя заниматься физиологией на голодный желудок…
Тетя Шура была гренадерского роста и говорила басом. Вечером первого дня, проведенного с тетей Шурой, Вика с нетерпением ожидала в коридоре у входной двери моего возвращения с работы:
– Мама, ты в какого бога веришь? Огорошенная вопросом, я с ходу ответила:
– Ни в какого.
– Как же так? – удивилась Вика. – Тетя Шура верит в русского бога, я верю в еврейского, а ты в какого?
Спустя пару дней мы ужинали вечером на кухне, и тетя Шура все смотрела на Володю, а потом сказала мне своим густым басом:
– Наташк! А твой муж, наверно, не яврей!
– Почему вы, Тетя Шура, так думаете?
– А лицо такое, приятное!
Не вполне уверенные, что трехлетнему ребенку полезны такие этнические экскурсы, мы расстались с тетей Шурой, но история имела продолжение. Напротив нашей дачи стоял, да и сейчас стоит, дом Федосьи Парфенны; Федосья Парфенна жила там круглый год. В пору моего детства Парфенна носила прозвище «Это Самое», потому что испытывала большие трудности с выражением мыслей и объяснялась примерно так:
– Вчера, это самое, на Фабричной, это самое, клубника, это самое, крупная, это самое…
На лето Парфенна сдавала свой дом, а сама перебиралась в сарайчик. В то лето у нее жила семья с мальчиком Вовкой Викиного возраста; Вика с ним играла. Однажды, вернувшись с работы, я застала Вику в очень дурном расположении духа.
– Что случилось?
– Я с бабушкой Парфенной больше не вожусь!
– Почему?
– Она пессимистка!
– Парфенна?! Пессимистка?!
– Да, пессимистка! Подумаешь тоже, евреев не любит! Может, она сама еврейка, а может даже, еще хуже!
Выяснилось, что утром сосед Вовка забежал сказать Вике, что больше играть с ней не будет, потому что бабушка Парфенна сказала ему, что Вика еврейка, а с евреями водиться не след.
Меня поразил тогда не сам факт – меня сразила каша в трехлетней Викулиной голове. Надо сказать, что такую же кашу я наблюдала потом и у Викиного однокашника Мишки Александрова, чистейших русских кровей, из старой русской аристократии, и, может, поэтому, слегка грассировавшего. Зайдя за Викой в школу, я застала жестокую драку первоклассника Мишки Александрова с первоклассником Ромкой Бухаровым. Ромка, задыхаясь, колотил Мишку:
– Еврей! Запинаешься! Эг не выговагиваешь! – выплевывал Ромка и попутно ругал Мишку матерно.
Мишка, не оставаясь в долгу, колотил Ромку и при этом парировал с достоинством:
– Ну и что, что еврей! Что, что еврей! Евреи умные! А захочу, в Израиль уеду!
К концу школы – да нет, конечно, гораздо раньше – все они уже прекрасно разбирались, кто есть кто…
Вот на какое длинное отступление подвигла меня наша короткая встреча с тетей Шурой…
Елизавета Алексеевна была когда-то инженером-химиком. Узнав, где я работаю, сказала:
– У меня есть кое-какие вопросы к академику Гольданскому по поводу Менделеевской системы. Вы бы не могли устроить мне с ним свидание?
– По-моему, будет больше толку, если она будет ходить вместо тебя в химфизику, а ты сидеть с Викой, – посоветовал папа. Он оказался прав. Потому что уже на следующий день вечером, вернувшись с работы, я застала Володю и папу очень обеспокоенными. Елизавета Алексеевна спала.
– Когда мы пришли домой, она была какая-то очень странная, возбужденная, щеки горят, говорит нечленораздельно, все время повторяет одни и те же слова, – доложил Володя. – Может, шиз?
– Вам не показалось? Вчера ведь была совершенно нормальная, даже с Гольданским хотела беседовать!
Утром все было в порядке, но вечером все повторилось по вчерашнему сценарию. Мы терялись в догадках. Ах, нам бы поднять глаза на кухонный шкаф, где уже несколько месяцев зрела в пятилитровой бутыли чернорябиновая настойка! Володя над ней колдовал и никому не давал пробовать, дожидаясь одному ему ведомого срока. Но мы не подняли туда глаз. А через пару дней на кухню пришел очень рассерженный и расстроенный папа:
– Наташа, ты пила мой коньяк?
У папы была заповедная бутылка армянского коньяка из Шустовских погребов, чуть ли не столетней выдержки, преподнесенная ему ереванским доктором, чью диссертацию он оппонировал. Папа этот коньяк даже не пил, а только нюхал и умилялся. И вот папа спрашивает:
– Наташа, ты пила мой коньяк?
Я просто одурела от этого вопроса. Папа прекрасно знал, что я уже много лет ничего не беру без спроса, а уж то, чем он так дорожит, – тем более.
– Но у меня была полная бутылка, а теперь половина, – недоумевал папа. И тут дал удивительную промашку, простительную, пожалуй, только для ученого-естествоиспытателя его ранга. Он принес карандаш по стеклу и сказал с угрозой:
– Хорошо, ставлю риску!
И с тем провел черточку по уровню коньяка в бутылке.
Надо ли говорить, что риска не понадобилась! На следующий день бутылка была пуста, как барабан, а Елизавета Алексеевна спала мертвецким сном в своей комнате, лежа частично на полу, частично на кровати и благоухая чесноком. Папа не мог успокоиться:
– Такой коньяк закусывать чесноком! Нет, вы только подумайте, такой коньяк закусывать чесноком!
Папа не спал всю ночь – всё дожидался, когда проснется Елизавета Алексеевна, и, едва услышав шевеление в ее комнате, спросил:
– Елизавета Алексеевна, как вы могли такой коньяк закусывать чесноком?!
– Какое вам дело, чем я закусываю свой коньяк, – недружелюбно отозвалась Елизавета Алексеевна.
– Нет, мне совершенно безразлично, чем вы закусываете свой, – отвечал, едва сдерживаясь, папа, – но мне не все равно, чем вы закусываете мой!
Я поняла, что пора вмешаться.
– Елизавета Алексеевна, мне кажется, наша встреча была ошибкой.
– Да, – согласилась Елизавета Алексеевна, – вы мне несимпатичны.
Мы расстались. За проведенную в нашем доме неделю Елизавета Алексеевна осушила пятилитровую бутыль Володиной настойки и бутылку чудесного коньяка.
– Подумать только, и мы ей несимпатичны! – обижался папа.
И тут, наконец, нам улыбнулось счастье. У счастья было лицо бабы Маши – маленькой, суетливой, доброй, заботливой и ворчливой. Словом, настоящей Няни.
– Викуля, принеси, пожалуйста, мячик, – просила я.
– За ним далеко итить. Я его туды положила, – отвечала Викуля, делая ударение на втором О, и показывала мне в книжке: это жароф, это бигамот, а это кенгура. И все мы были счастливы.
Баба Маша прожила у нас несколько лет, пока у нее в Ярославле не родился внук. Мы еще долго дружили. А Вика пошла, наконец, в детский сад.
СТАРАЯ КВАРТИРА
Несколько лет назад я уже летела этим ослепительным маршрутом. Был такой же безоблачный день. Снежные шапки гор и кратеры вулканов сверкали такой белизной, словно это был первый день творенья. Горы были неправдоподобно правильной формы, будто вычерченные циркулем, и невозможно было оторвать от них глаз.
Черт знает по какой причудливой ассоциации – скорей всего, по контрасту – я вдруг вспомнила о нашей послевоенной московской коммуналке, где в коридоре без окон висела на грязном шнуре под потолком тусклая запыленная лампочка, мертвенно-желтого света которой едва хватало, чтобы не заблудиться по дороге в уборную. Я не вспоминала о ней почти полвека, а тут вдруг ясно увидела длинный темный коридор, антресоли под высоким потолком и сползающее с них колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда. Вспомнила я и обитателей квартиры – и рассказала о них приятелю, скоторым мы путешествовали.
– У тебя готовый рассказ, – сказал он. – Ты записала? Нет? Запиши.
Тогда я не записала. И вот теперь я опять летела тем же маршрутом, так же сияли горы и вулканы, но теперь рядом сидел необъятных размеров американец, видимо, купивший сразу два билета, потому что стюардесса забрала два нормальных кресла и вместо них притащила и установила одно огромное, специально сконструированное для такого зада. Необъятный американец ворочался и пыхтел рядом и мешал мне вжиться в проплывавший под окном пейзаж. И тогда я снова вспомнила нашу Воронью слободку, вытащила листок бумаги и стала писать.
Дом стоял на углу Большого Афанасьевского и Сивцева Вражка. Первый этаж его был облицован кафелем: там находился согласно вывеске магазин «Мясо – Рыба». В те годы название это не было метафизическим, мясо и рыба в магазине действительно были. К нам это отношения не имело, потому что их выдавали по карточкам, которые нам не полагались: мы были прикреплены к другому магазину. Около дома всегда было оживленно, сновали туда-сюда тетки с кошелками. Потом карточки отменили, продукты куда-то исчезли, и эфемерное «Мясо – Рыба» поменяли на более земное «Овощи», которых, впрочем, там тоже не было.
Мы переехали в этот дом в сорок пятом году из бывшего борделя на углу Мерзляковского переулка, где занимали крохотную комнату в самом конце казавшегося бесконечным коридора. После борделя квартира на Афанасьевском показалась настоящим дворцом.
Она имела форму буквы «П», повернутой под прямым углом по часовой стрелке и положенной на правую ножку. Входная дверь находилась между ножкой и перекладиной. Семь табличек на ее наружной стороне свидетельствовали о том, что в квартире живет семь семей. Кнопок на двери было две, одна – от нормального звонка, другая – от светового, потому что в квартире жили глухие Надя и Веня; световой звонок был протянут в их комнату. Огромный, как медведь, Веня был глухой от рождения, говорить не умел совсем, а только страшно мычал, пил горькую и бил Надю смертным боем. Надя смиренно переносила побои и никогда не жаловалась. Она была маленькая, круглая, уютная и добрая. Мы дружили. Надя научила меня азбуке глухонемых, и, вернувшись из школы, я подолгу беседовала с ней на нашей коммунальной кухне, где на семи столиках чадило семь примусов. В отличие от немого Вени Надя потеряла слух в отрочестве от скарлатины и немой не была.
– Это же можно питаться и питаться, – сокрушенно говорила Надя своим громким, неестественно скрипучим голосом, глядя на щедро срезанные картофельные очистки, выброшенные в помойную корзину соседкой Диной Николаевной.
Дина Николаевна была типичная квартирная склочница. Невысокая, расплывшаяся, с большой бородавкой над верхней губой, она обычно инициировала квартирные скандалы. Поводов бывало предостаточно, особенно по утрам, когда всем надо было в одно и то же время явиться на работу, а в квартире была только одна ванная и одна уборная. Был установлен строгий регламент, кто, когда и как долго пользуется этими удобствами. Регламент этот, по естественным причинам, не всегда удавалось соблюсти, и тут уж наступал час Дины Николаевны. Она была одержима классовой ненавистью, и ее вопль «Профессора! Нахалы!» до сегодняшнего дня звучит у меня в ушах. Почему-то она была уверена, что именно мои родители не гасят свет в уборной. Но со мной Дина Николаевна бывала ласкова, зазывала к себе, угощала конфетами, расспрашивала, что за люди приходили вчера к нам в гости, чем занимаются, давно ли знакомы. Я по наивности исправно ей все докладывала.
Рядом с Диной Николаевной жила странная молодая пара. Такого агрессивного еврея-алкоголика я больше не встречала никогда в жизни. Раза два в месяц, теперь я понимаю – с получки, Исак напивался до полусмерти, и тогда его начинали преследовать страшные видения Розиной измены. Он бросался на нее с кулаками, а иногда и с ножом. Происходило это обычно во втором часу ночи. Роза с криком неслась к нам спасаться, за ней, рыча и шатаясь, тащился Исак, но не поспевал. Мой папа выскакивал из постели в белых кальсонах, приоткрывал дверь, впускал Розу и тотчас снова запирал дверь на ключ. Исак бесновался снаружи и требовал выдать Розу. Тогда из своей комнаты появлялся Николай Николаевич Воронин. Он говорил что-то Исаку тихим строгим голосом, и тот сразу утихал и убирался к себе, а Роза до утра плакала, сидя у нас за обеденным столом. Уложить ее было некуда. В небольшой проходной комнате, служившей одновременно гостиной, кабинетом и спальней, и так уже спали мама, папа и Розальвовна; в крохотной соседней комнатке располагались я и няня Ксеня. Сестра моя Ляля, уже студентка, жила отдельно у тети Анны. И все-таки у нас, единственных во всей квартире, было целых две комнаты! Соседке Дине Николаевне трудно было это пережить.
Утром смущенный Исак приходил к нам каяться и забирал Розу домой, но через две недели все повторялось с регулярностью часов.
Усмирявший Исака Николай Николаевич был полковником МГБ. В квартире он пользовался большим и заслуженным авторитетом. Высокий, сухопарый, подтянутый, он никогда не принимал участия в квартирных склоках. Вся квартира знала, что Николай Николаевич спит с соседкой, сдобной Ниной Ивановной. Не знал этого только муж Нины Ивановны, тихий бухгалтер Вячеслав Александрович. А когда узнал (думаю, не без помощи Дины Николаевны) – умер от горя и инфаркта.
В квартире была еще одна семья. Мария Яковлевна и Женя Ивановы жили в маленьком чулане при кухне, без окна, рядом с черным ходом. Мария Яковлевна была учительница, Женя – студент, ровесник моей сестры. Почему они жили в чулане при кухне? Тогда я не задавалась этим вопросом. Скорее всего, Жениного отца посадили, квартиру отняли и переселили их с матерью в наш чулан. Впоследствии Женя стал профессором.
В пятьдесят первом году мы переехали из «старой квартиры» в новую, кооперативную. Впервые за двадцать семь лет совместной жизни у моих родителей появилось свое жилье с отдельной спальней. Оттуда через полтора года папу увезли на Лубянку, но история, как вы уже знаете, имела счастливый конец.
В «старой квартире» я больше не бывала, но всегда мечтала посмотреть, что там делается без нас. Несколько лет назад, приехав ненадолго из Америки, я шла со своей подругой, Леной Платоновой по Гоголевскому бульвару и вдруг поняла, что мы находимся в двух шагах от дома, где прошло мое детство. Я безумно захотела туда зайти – и вот мы уже стоим перед знакомой дверью. На ней по-прежнему висит несколько табличек, но кнопка звонка теперь только одна. Фамилии на табличках все незнакомые – прошло ведь ни много ни мало пятьдесят лет! Мы позвонили наугад. Открыла дверь недовольная женщина средних лет. Мы с Ленкой сбивчиво объяснили, зачем явились, но дальше коридора она нас не пустила.
Под потолком висела запыленная электрическая лампочка, освещавшая коридор мертвенно-желтым светом. С антресолей под высоким потолком сползало колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда.
P. S.
Когда через несколько лет я снова попыталась проникнуть в «старую квартиру», на двери подъезда оказалась красивая резная решетка и был установлен домофон.