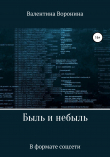Текст книги "То ли быль, то ли небыль"
Автор книги: Наталья Рапопорт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– И сколько же человек можно одной такой ампулкой отправить «на боковую»? – осведомляется у мамы старший лейтенент – единственный на обыске в военной форме.
– Никого этой ампулой не убьешь, – пытается объяснить мама. – Это лекарство, атропин, сердечное средство. У
Якова Львовича был микроинфаркт, и мы держим дома сердечные лекарства на всякий случай.
– Ну-ну, понятно, на какой случай, – язвит лейтенант, – понятно, что за сердечное – сколько уже сердец этим сердечным остановили?!
Он счастлив.
Все мамины попытки объяснить, что такое атропин, разумеется, бесплодны. О найденном яде сообщают куда-то по телефону (ночь, но там не спят!), ампулу тщательно укутывают ватой и запечатывают в какой-то коробок, этот коробок помещают в другой коробок, еще одна печать… Составляют акт о том, что в квартире арестованного найден яд, требуют, чтобы мама подписала. Мама категорически отказывается. Уговаривают, грозят, говорят, что по окончании обыска она поедет с ними. Надолго поедет? Навсегда? Я в отчаянии. Но мама не подписывает.
От приподнятого настроения наших «гостей», связанного с находкой яда, вскоре не остается и следа. Несчастье с их коллегой: он порезался бритвой, на пальце – капля крови. Порезался в доме врача-вредителя! Дни его сочтены! Он сидит на стуле белее стены, вытянув вперед руку с пораненным пальцем, товарищи окружили его и встревоженно переговариваются. Что предпринять? Как спасти? Оригинальный выход предлагает моя мама – она приносит потерпевшему пузырек с иодом. Возбуждение достигает апогея: мазать или не мазать? Один мужественный доброволец капает каплю иода себе на ноготь, все по очереди нюхают и решают не рисковать. Куда-то звонят, вызывают машину и увозят пострадавшего – наверное, в спецполиклинику, где царапинку смажет и перевяжет проверенный и надежный русский врач.
Обыск закончился. Квартиру опечатали, оставив нам мою маленькую комнату, коридор и места общего пользования. Маму, как и грозили, увезли. Ни она, ни я не знали, увидимся ли еще когда-нибудь. Мама вернулась! Через сутки. Оказалось, ее просто возили на дачу, где тоже перерыли все до последней пылинки. Мама рассказывала, что, вернувшись, застала меня на стуле в коридоре в той же позе, в какой оставила: впечатление было такое, что я и не пошевелилась.
Сама я ничего не помню об этих сутках, кроме надрывного воя нашего пуделя Топси. Вероятнее всего, мы выли дуэтом. С мамой вернулась моя жизнь.
Дочь врача-вредителя
Я была болезненно привязана к маме. В детстве, когда они с папой куда-нибудь уезжали, я просто заболевала, переставала есть и спать, меня рвало, и мне все казалось, что я умру, так и не дождавшись маминого возвращения. Я считала дни, часы, минуты. Для мамы я была готова на все. Мама так радовалась моим успехам – после маминой смерти они надолго потеряли для меня смысл.
В те страшные дни маме было очень важно, чтобы моя жизнь не нарушилась из-за папиного ареста, чтобы я продолжала ходить в школу. И я ходила. Но с этого момента два страха стали полновластными хозяевами моей жизни, два страха, слившиеся в один беспрестанный ужас: дневной страх – что о моем позоре узнают в школе и ночной – что придут за мамой. Ночной страх начинался около одиннадцати вечера и продолжался до пяти утра: почему-то я была уверена, что ни раньше, ни позже маму не заберут. Ночной страх был так силен, что в эти часы меня била крупная дрожь, как в припадке. Я даже спать ложилась не в комнате, а в коридоре на раскладушке, всю ночь напряженно вслушиваясь в звуки и шорохи подъезда, и при стуке двери лифта на ближних этажах кричала от ужаса.
Дневной страх владел мною в школьные часы, превращая меня на это время в маленькую сжатую пружину. Только три девочки из моего класса знали, что у меня стряслось, – три девочки, жившие в нашем доме. Родители строго-настрого запретили им говорить хоть слово даже самым близким подругам – понимали, что завтра любая из них может оказаться на моем месте. И девочки молчали, хотя легко представить, чего им стоило носить в себе такую сенсационную тайну! А тайна рвалась наружу, жгла кончик языка…
Я изо всех сил старалась казаться естественной, такой, как всегда – общительной и жизнерадостной. И одна из трех не выдержала. На переменке эта девочка отозвала меня в сторону:
– Ты что, думаешь, если мы молчим, ты можешь вести себя как полноправный член нашего общества?
Трах! Многодневное напряжение разряжается звонкой пощечиной, которую я впечатываю в лицо обидчицы. Класс мгновенно замыкает нас в круг:
– Что случилось?
Поборница чистоты рядов глядит на меня со смесью изумления и ненависти, и всем своим вмиг ослабевшим существом, едва удерживаясь на ватных ногах, я физически ощущаю, как правда заполняет ей рот, просачивается сквозь зубы и сейчас, вот сейчас сорвется с губ…
Звенит звонок! Он выводит меня из оцепенения. Я лечу в класс, лихорадочно собираю свои вещи и ухожу из школы – может быть, навсегда…
Как мы жили? Маму уволили с работы на следующий день после папиного ареста. Все имевшиеся в доме деньги, облигации, сберкнижку забрали при обыске. В этом была, вероятно, своя логика: хотели посмотреть, кто бросится к нам на помощь, и, потянув за эту нить, раскрыть всю злодейскую цепь до самого последнего звена. Люди понимали это и боялись. Соседи, встречаясь со мной во дворе, отводили глаза и норовили проскочить мимо, не поздоровавшись: не заметили, не узнали.
Но не все. Никогда не забуду Владимира Николаевича и Нину Петровну Беклемишевых – старых русских интеллигентов, живших в квартире под нами. Владимир Николаевич – высокий, красивый человек с бородкой клинышком, академик, как будто сошел с портретов великих ученых девятнадцатого столетия, аристократов духа. Встречаясь с мамой во дворе, он теперь не просто с ней здоровался – нет, он буквально кланялся ей в ноги, давая окружающим вызывающий пример мужества и благородства. Нина Петровна вскоре после папиного ареста пришла к нам домой (!) и предложила маме денег. Мама не взяла – у нее ведь не было никаких шансов когда-нибудь их отдать, но Нина Петровна не ушла до тех пор, пока не получила твердого маминого обещания обращаться к ним в любой момент, днем и ночью, за любой помощью.
Однажды меня встретила во дворе и привела к себе тетя Юля Мошковская. Она меня накормила, расспросила, дала с собой еды для мамы и быстренько выпроводила: не ровен час вернется с работы Шабсай, застанет меня у них и умрет от страха. Шабсай был замечательный человек, интересный, добрый, обожал детей. Я звала его Папсик (как бы в некоторой степени папа), и любила нежно, хотя и с некоторым оттенком снисходительности, находя в нем массу странностей. Папсик тщательнейшим образом мыл руки, вместо чая пил неприличного цвета горячую воду, ел только свежайшую пищу, в рот не брал алкоголя и вообще был чрезвычайно осторожен. Возможно, отчасти это происходило оттого, что он был специалист (академик!) по глистам.
На фоне Шабсая тетя Юля, с удовольствием выпивавшая с друзьями рюмку-другую за праздничным столом, казалась чуть ли не алкоголичкой, и ее сын-первоклассник написал в школьной анкете в ответ на вопрос, пьют ли родители: «Отец – непьющий, мать – пьющая». Встревоженная учительница пришла к ним в дом и была немало обескуражена, когда дверь ей открыла прелестная женщина с тонким интеллигентным лицом, а на стенах оказались картины выдающихся художников с дарственными надписями авторов. Тетя Юля потом долго служила для друзей мишенью разнообразных острот.
При Шабсаевой крайней осторожности бесстрашие, с которым тетя Юля привела меня в дом, граничило с подвигом, и я его оценила.
Забегала Наташка Томилина, девочка из нашего дома, учившаяся в параллельном классе. Раньше она редко у нас бывала, а теперь зачастила. Наташка вытаскивала из портфеля неизменный бутерброд и яблоко:
– Съешь, а? Мать узнает, что я в школе не завтракала – убьет!
Ни разу не бросив даже беглого взгляда на опечатанные двери, не поинтересовавшись, почему я сижу на раскладушке в коридоре – ну, живет себе человек в коридоре на раскладушке, подумаешь, обычное дело, – Наташка доставала из портфеля учебники:
– Слушай, реши задачку по физике (алгебре, химии, геометрии). Галиматью какую-то сегодня проходили. Погляди.
Наташка до сих пор уверяет, что делала это без малейшего умысла – просто какой же нормальный человек станет сушить свои мозги над решением дурацких задач, когда для той же цели есть гораздо более простой и надежный путь, да к тому же известно, что мне это в охотку. Врет, наверное. Она сама прекрасно училась, и решать «дурацкие задачи» ей ничего не стоило. Но так или иначе, а благодаря Наташке я оставалась в курсе школьной программы и школьных сплетен, и когда вернулась в школу, мне почти не пришлось догонять…
Еще помогали жить классики. В коридоре стоял книжный шкаф с подписными изданиями: Толстой, Пушкин, Гюго… Мама носила их к букинистам, возвращалась с хлебом, крупой, молоком. Но классики покидали наш дом в объемистых тяжелых сумках, и кто-то (я почти уверена, что это был наш сосед сверху) написал донос: мама продает вещи из-под печати. Снова обыск. Приехавшие сняли печати, сразу увидели, что донос ложный, но обязаны были досконально все проверить – все сначала, по описи. Мне этот новый обыск чуть не стоил жизни: я ведь была уверена, что это пришли за мамой, билась и кричала – но нет, маму не забрали: опечатали все заново и уехали с миром.
И была одна семья, которая помогала постоянно.
Губеры
С тетей Раей Губер мама сидела за одной партой. Гимназическую дружбу они пронесли через всю жизнь, были ближе сестер. Когда я родилась, мама заболела тифом, и тетя Рая кормила грудью меня вместе со своей Маришкой, родившейся за два месяца до этого. Был там еще Шурик, старше нас на год.
– Я вскормил тебя грудью своей жены, – любил попрекать меня тети Раин муж Андрей Александрович Губер, главный хранитель музея изобразительных искусств имени Пушкина, справедливо полагая, что у человека, вскормленного такой грудью, не должно быть таких недостатков. Губеры были моей второй семьей.
Это была очень красивая пара. Тетя Рая – маленькая, изящная, веселая. Андрей – высокий, элегантный, сероглазый, заводила и душа наших игр. Лапта, штандр, салочки, горелки, лото – он играл изобретательней и азартней нас всех!
Андрей был из обрусевших немцев – его предки переехали в Россию еще в петровские времена. Он был профессор-искусствовед, специалист по итальянскому Возрождению. Музей изобразительных Искусств в детстве был для нас – Маришки, Шурика и меня – родным домом. Нас знали все музейные «бабушки», мы бегали туда слушать лекции, шатались по залам, иногда Андрей Александрович брал нас в запасники.
Андрей был замечательный рассказчик. С моим папой они неизменно составляли ослепительный дуэт, на мелодиях которого мы росли.
Несмотря на высокий пост Андрея у Губеров был очень трудный быт. Они жили в огромной коммуналке на улице Москвина, в небольшой комнате, разделенной, как в поезде, на купе. Сходство усиливалось тем, что Шурик спал над Маришкой на двухэтажной кровати – обыкновенную кровать поставить было негде. Основное пространство занимали книги. Друзья настаивали, чтобы Андрей похлопотал об отдельной квартире, но ему постоянно отказывали – он совершенно не умел бороться с чиновниками или давать взятки. Наконец, появилась возможность купить небольшую кооперативную квартиру. Переезд погубил его: перебирая и упаковывая тысячи книг, Андрей переутомился и получил инфаркт, после которого его не спасли…
Музей прощался с ним в Итальянском дворике. Маленький оркестр играл удивительно светлую музыку, читали Тютчева, и не было ощущения похорон: казалось, этот человек здесь, в стенах, умножению славы которых он посвятил всю свою жизнь. Вместе с нами его оплакивал Давид и фрески на стенах, и химеры на сводах арки, под которой стоял гроб. Люди говорили прекрасные слова о человеке, который навсегда остался жить в хранимых им сокровищах…
… А тогда, в те страшные для нас дни, Андрей Александрович прислал к нам порученца-Шурика: велел мне каждый день приезжать к ним обедать.
Мои ежедневные визиты были сопряжены для Губеров с огромным риском, тем более что жили они в коммунальной квартире, где кого только нет. Но Губеры были выше страха. Они принимали меня каждый день, кормили, давали еду для мамы и деньги для передач папе. Поездки к ним я запомнила на всю жизнь.
В нашем подъезде, во дворе дома и под аркой постоянно дежурили топтуны – следили. Глаз быстро привык отличать их среди других людей – впрочем, это было несложно. Мама научила меня «уходить» от слежки. Я ехала в метро, стоя у самой двери вагона. Когда двери уже начинали закрываться, я неожиданно выскакивала на какой-нибудь промежуточной станции, садилась во встречный поезд и проезжала остановки две-три. Такую операцию на пути от Сокола до Центра я повторяла несколько раз, благо спешить было некуда. Если я не была уверена, что «ушла», я обязана была вернуться домой. Не помню, чтобы такое когда-нибудь случилось.
Выходить из дому было для меня мукой по другой причине. В нашем дворе стояли бараки. В одном из них жила дворничиха Люся – та самая, которая привела «грабителей». После папиного ареста и утро еще не наступило, а обитатели бараков уже точно знали и информировали всех интересующихся, что мой отец брал гной с раковых трупов и мазал им здоровых людей. Барачные мальчишки взяли на себя акт возмездия за чудовищные преступления моего отца: они швыряли в меня все, что под руку попадется, включая дохлых мышей и довольно увесистые булыжники. Приходилось, как это ни унизительно, спасаться бегством: если я не проявляла достаточной резвости, мне доставалось…
Возвращение
Однажды, кажется, это было в середине февраля 1953 года, мама вернулась домой едва живая: она ездила с передачей для папы, но передачу не приняли.
– Передач больше не приносите, они больше не нужны, – заглянув в какой-то список, сказал маме дежурный. На мамины лихорадочные вопросы отвечать отказался. У этого могло быть только одно объяснение: папы больше нет.
Потянулись дни – пустые, однообразные, черные.
…Четвертое марта 1953 года. Мама, не отрываясь, напряженно слушает радио. Чейн-Стоксовское дыхание! Мама молчит, ждет. Пятое марта. Свершилось! Сквозь черную ночь в маминых глазах впервые пробивается какой-то робкий свет.
– Если папа жив, – говорит мне мама, – теперь многое может измениться!
…Восьмое или девятое. Телефонный звонок. Мужской голос:
– Я звоню по поручению профессора. Профессор просит вам передать, что он здоров, чувствует себя хорошо, но волнуется за семью. Что я должен передать профессору?
Профессору! Не выродку, не убийце, не злодею! Профессору! Он жив!!!
– Мы прекрасно, – почти кричит мама, – передайте ему, что мы прекрасно, мы здоровы, мы… счастливы, – совсем уж неуместно заключает она в дни всеобщей скорби.
Мы счастливы! Со своей потрясающей новостью я лечу к Губерам. Меня обнимают, тормошат, тетя Рая несется на кухню ставить пирог.
– Поминальный, – смущенно и не совсем уверенно объясняет она пораженным соседям. – Хотим помянуть Иосифа Виссарионовича, по русскому обычаю.
Я несусь домой с пирогом и снедью для грандиозного пиршества.
…Он еще в Колонном зале, он еще жаждет новых жертв, он еще должен умыться кровью сотен раздавленных, перемолотых в гигантской мясорубке людей, скорбящих или просто любопытных. А у нас праздник! Впервые в жизни так пронзительно и остро чувствую я свое отъединение от этого общества, от этой толпы, и совсем уже по-взрослому его осознаю. Это – начало зрелости.
Теперь мы с мамой живем надеждой. Мама вновь возит папе передачи – оказывается, папу переводили на «особый режим», не предусматривающий передач. Выяснилось позже: папа не подписывал никаких ложных показаний, ни на себя, ни на других, и его перевели на режим, который должен был его образумить: кандалы, много суток без сна, отсутствие передач. Но он и тогда ничего не подписал.
…Медленно тянутся дни и недели. Неизвестность, передача, неизвестность… И вдруг!
Ночь с третьего на четвертое апреля. Собачка Топси внезапно безумеет, начинает метаться по коридору, ударяясь то в опечатанную дверь столовой, то во входную дверь, гигантскими прыжками преодолевает мою раскладушку, надрывно лает. Я в панике: идут за мамой… Телефонный звонок. В трубке – папин голос:
– Дорогие, это я! Я сейчас буду дома! Звоню из автомата в подъезде, чтобы вы не упали в обморок!
Топси напряженно застыла у входной двери, восторженно повизгивает, и только хвост ходит, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. Через минуту звонок в дверь: папа!!! С ним полковник КГБ и тот лейтенант, который его забирал, – несет его чемоданчик.
– Вот, возвращаем вам профессора, – говорит он смущенно.
Первой папу приветствует Топси: в рекордном прыжке с места она обнимает его за шею, лижет в губы, в нос, в глаза. Потом – очередь мамы, потом – моя. Смеемся, плачем – все одновременно.
А лейтенант той порой снимает печати, а полковник куда-то звонит:
– Товарищ генерал, профессора доставили. Много радости, много слез…
Изъятый при обыске торжественный черный костюм с приколотым к нему орденом Ленина болтается на папе, как на вешалке; орден Ленина (получил за военные заслуги, был главным патологоанатомом Карельского фронта) слепит глаза. Дома! Живой! Со справкой о полной реабилитации! Вот она – справка, мы по очереди читаем ее, вертим, смотрим на свет – слова пока плохо до нас доходят. Полковник говорит, что днем нам привезут отобранные при обыске вещи, прощается, желает счастья, и они уезжают. Мы остаёмся вчетвером: папа, мама, Топси и я. Папа рассказывает, мама слушает, а я пока ничего не слышу – только смотрю.
Шесть часов утра. Радио разносит на весь мир весть о прекращении «дела врачей-вредителей» и полной их реабилитации. Звонок в дверь. Соседи: Беклемишевы, за ними – Капланы. Они не спали всю ночь, слышали шум и думали, что это пришли за мамой. Но вот – радио! С этой минуты дверь в нашей квартире не закрывается. За несколько часов у нас перебывал весь дом. Цветы, цветы! Неожиданно в полном составе является мой класс: теперь уже ничего не надо скрывать, и осведомленные девочки вознаграждают себя за двухмесячное молчание неслыханной сенсацией! Приходят все, даже моя обидчица, и в руке у каждой – цветок. Они по очереди отдают цветы папе. Я реву в голос – даже и сейчас реву, когда пишу эти строки. Потом приходят мои учителя (все, кроме исторички), спрашивают, когда я вернусь в школу. Да завтра же и вернусь! Я так соскучилась!
Какой день, какой праздник! Папа обзванивает друзей – все на месте! Не все в состоянии передвигаться и даже говорить, но все – дома!
Папа едет на работу. Директор Института, замечательный человек Семен Иванович Диденко обнимает его в слезах: он тянул, сколько мог, но недавно все-таки вынужден был провести партийное собрание, на котором папу клеймили как врага народа, выродка, убийцу и злодея и исключили из партии (папа вступил в партию на фронте, полагая, что это единственная сила, способная победить фашизм). Семен Иванович совершенно счастлив, что папа на свободе, и папа от души просит его забыть о собрании – он же все понимает…
Жизнь постепенно вошла в свою колею. Я вернулась в школу. Учиться было естественно, как есть и спать. Жгучий интерес ко мне постепенно угас, и стало легче дышать – оказалось, я не приспособлена для славы. Папа вышел на работу, где многие стеснялись смотреть ему в глаза. А через небольшое время, в июне, в нашей жизни вновь возникла Лина, одна из немногих уцелевших членов Еврейского Антифашистского Комитета, пережившая в свои неполные восемьдесят лет и тюрьму, и ссылку. Мы с ней очень подружились, и я бережно храню в памяти наши встречи и разговоры.
Четвертое апреля стало в нашей семье традиционным праздником. В первые послесталинские годы в этот день у нас за столом собиралось человек тридцать, переживших «дело врачей» в тюрьме или на «свободе». Постепенно, теперь уже по естественным причинам, их становилось все меньше. Последним ушел мой отец.
Но мы все равно продолжаем отмечать этот день, как день нашего второго рождения.
ВСТРЕЧА
Бог есть сумма всех случайностей.
Я желаю Вам счастливых случайностей.
Папа – на своем 90-летнем юбилее
На свете столько разных вероятностей,
Внезапных, как бандит из-за угла,
Что счастье – это сумма неприятностей,
От коих нас судьба уберегла.
Игорь Губерман
В пятнадцатом году папа приехал из Симферополя в Петербург, чтобы поступать в вуз. Сначала он поступил в консерваторию. Его экзаменовал сам Глазунов и остался им очень доволен.
Какими-то неправдами выправив себе второй экземпляр документов, папа одновременно держал экзамены в медицинский институт, куда его тоже приняли. Поколебавшись, папа предпочел медицину.
Вида на жительство в Петербурге у него не было, и он снимал угол у швейцара какой-то гостиницы. Пользуясь папиным бесправным положением, швейцар бессовестно им понукал. Папа называл себя «швейцарский подданный».
В семнадцатом году папа заболел сыпным тифом и двадцать четыре дня пролежал в сыпном бараке. Чудом выжив и едва оправившись, он вместе с другими студентами получил винтовку и револьвер и отправился охранять членов Государственной Думы. Двадцать пятого октября семнадцатого года стало ясно, что эта миссия ему не слишком удалась. Врач Шингарев, светлая личность, Кокошкин и некоторые другие с помощью Шингарева спрятались в больнице, но матросы их отыскали и задушили в палате подушками. Тогда папа утопил винтовку в Неве, соорудил в чемодане двойное дно, спрятал туда револьвер и решил возвращаться через Москву в Симферополь, где в это время открылся очень сильный медицинский институт, с прекрасными профессорами из Петербурга.
Дорога в Крым лежит через Украину, которая в ту пору была «самостийной», гетманской. Поезда из России доходили до границы с Украиной и дальше не шли. Поезда в Крым стартовали на украинской территории. Участок от конечной российской станции до начальной украинской надо было преодолевать на извозчике. Немедленно возник новый вид деловой активности: извозчик набирал группу пассажиров, в дороге их грабил, а если сопротивлялись – убивал. У этого участка дороги была очень дурная слава, и люди заранее искали себе спутников, старались сбиваться в группы, в которых хотя бы один из пассажиров был вооружен.
Зная, что папа собирается в Симферополь и что у него есть револьвер, папин друг, адвокат Борис Яковлевич (фамилию я забыла) привел к нему даму, которая искала попутчика, чтобы ехать на родину, в Крым. Папа должен был опекать ее в дороге. Она была лет тридцати, студентка Московского университета. Дама осталась очень довольна будущим спутником – озорным, не робеющим, вооруженным студентом. Они договорились о дне отъезда, условились о встрече. Но накануне назначенного дня дама пришла вторично. На этот раз она была чем-то явно озабочена. Папе она показалась очень сосредоточенной и отрешенной.
– Я не смогу с вами поехать. Дела задерживают меня здесь. Советую вам отложить отъезд и найти себе попутчика, чтобы не ехать одному.
Папа, однако, уехал и благополучно добрался домой. Там он узнал, что за время его дороги было совершено неудачное покушение на Ленина. С фотографии в газете на него смотрела его несостоявшаяся спутница. Ее звали Фанни Каплан.
Папа никогда никому не рассказывал об этой встрече:
– Поди докажи потом чекистам, что ты никакого отношения к покушению на Ленина не имел!
Когда папа приехал в Крым, там то ли уже были, то ли вскорости пришли белые под командой барона Врангеля. Папа продолжал учиться в медицинском институте и одновременно работал в госпитале фельдшером. Госпиталь размещался в имении «Бештерек», верстах в двенадцати от Симферополя по Феодосийскому шоссе.
Раньше это имение принадлежало военному доктору, генералу Соловейчику, и было им завещано Обществу по распространению просвещения среди евреев России (сокращенно ОП). Летом 1916 года там находился один из очагов накопления для евреев, выселенных в Первую мировую войну из прифронтовых зон «для очищения от неблагонадежных элементов». Два года спустя это имение занял «белый» госпиталь, в котором папа работал. Потом белые папу мобилизовали и отправили на фронт, но до фронта он не доехал, так как белых потеснили красные во главе с Бела Куном и Землячкой. Повсюду были расклеены объявления: всем лицам, сотрудничавшим с Врангелем, предписывалось под угрозой смертной казни сдать оружие и явиться на регистрацию. Работа в госпитале квалифицировалась как сотрудничество. Молодой медперсонал госпиталя собрался в каком-то потайном месте обсудить ситуацию. Мнения разделились. Кто-то говорил, что в мировой практике работа в любых госпиталях, кому бы они ни принадлежали, не считается предательством, и потому медперсоналу «белого» госпиталя ничего не грозит. Папа относился к большевикам с большим пониманием – у него уже был кое-какой петроградский опыт – и предлагал немедленно бежать. В результате группа разделилась: доверчивые остались в Симферополе и пошли на регистрацию, остальные ушли в горы и решили пробираться в Россию. Оставшиеся в городе, все без исключения, были расстреляны.
Папа курсировал между горами и домом, приносил беглецам еду и медикаменты. Однажды, в 1921 году, когда папа был дома, нагрянула ЧК с обыском. Бабушка увидела чекистов на улице, крикнула папе: «Беги!», он выпрыгнул через заднее окно, и ему удалось скрыться. Папа провел несколько дней у друзей, которые помогли ему достать фальшивые документы на имя учащегося ткацкого профтехучилища, комсомольца Ионьки Филькера. С этими документами папа укатил в Москву.
В Москве жил юрист Борис Яковлевич, когда-то учившийся в школе моего деда (тот самый, который привел к папе Фанни Каплан). Борис Яковлевич стал уговаривать папу: «Оставайся Ионькой Филькером! Ткач – хорошая профессия, и документы у тебя замечательные!» Но папа не соглашался – во-первых, он хотел быть врачом, а не ткачом, во-вторых, ему нравилась его собственная фамилия Рапопорт.
Он попытался восстановиться в медицинском институте, но все документы о его предыдущей учебе пропали. С величайшим трудом ему удалось уговорить администрацию московского медицинского факультета принять его условно на пятый курс. Уже через месяц он стал первым студентом курса, но, чтобы получить диплом, ему необходимо было снова сдавать все экзамены за предыдущие четыре с половиной года… И тут произошло чудо. Звонит папин приятель и сообщает, что к нему приехала жена из Симферополя и привезла настоящие папины документы – их отыскала и передала бабушка. Среди документов была папина зачетка. Чудо ее обретения усугублялось тем, что на поезд, в котором ехала жена приятеля, по дороге напали махновцы, всех ограбили, и единственное, что ей удалось в сохранности довезти до Москвы, был узелок с папиными документами! В том же году папа окончил медицинский факультет Московского университета по специальности патологическая анатомия.