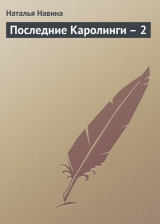
Текст книги "Последние Каролинги – 2"
Автор книги: Наталья Навина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Пока он огибал излучину реки, спустилась ночь. Но Эд хорошо видел в темноте – привык за время бродяжьей и разбойничьей жизни. Он искал… если бы он сам мог определить, что он искал! По крайней мере, он должен был увидеть то самое место.
Только по ивняку и зарослям бузины он его и узнал. Ничего здесь не осталось. Обломки плотины затянуло илом, занесло песком, пепел от мельницы и хижины его владельца давно разнес ветер.
И все же – он был уверен – именно здесь четыре года назад, может быть, день в день, прокатившись по лесу, остановилась императорская охота, чтобы найти себе новое развлечение. Все закрутилось перед глазами в дикой пляске – императрица с золотыми волосами, выпевающая свою злобную литанию, придворные, доезжачие, священники, старик с окровавленным лицом, девочка в посконной рубахе, мечущаяся у костра из горящих книг… нет. Нет. Сейчас не время для подобных воспоминаний. Это уже было. Потом.
Он спрыгнул с коня и повел его за собой в поводу. Внезапно что-то хрустнуло под ногой. Он нагнулся и отскочил, как ужаленный. Сапог его наступил на человеческий череп. Против воли он ощутил, как его колотит. Господи, неужели еще и это? Мало убить по незнанию родного отца, нужно еще и попрать ногой его кости? Усилием воли он подавил в себе дрожь и поднял череп, взглянул в его пустые глазницы. Кость была совершенно бела и уже покрывалась известковой коркой. Эд знал, что это значит. Череп был слишком стар и не мог принадлежать Одвину.
Потом он смутно вспомнил скелет, болтавшийся под потолком в хижине мельника, и который он сам же во время всеобщего погрома разнес на куски.
А это означало – хижина мельника была здесь. А также – никто после сюда не возвращался и ничего не трогал.
Он отбросил череп и вытащил из ножен меч.
Копал он долго. Хотя единственным свидетельством в пользу этих трудов были вопли Кочерыжки о том, что у мельника-колдуна имелся погреб, в котором наверняка было кое-что припрятано. И это при том, что усопший смертью неправедной аббат врал гораздо чаще, чем молился, а в доме мельника уж точно ни разу в жизни не бывал. Но он чувствовал какое-то злобное, ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что благородное лезвие родового меча (чьего рода, кто объяснит?) заменяло простой заступ или лопату. Вытирал пот со лба и вновь вонзал Санктиль в сырую черную землю. Он действовал уже бездумно и мог бы работать так до самого рассвета, пока меч не ударился о что-то твердое.
Он соскреб полосу дерна, наросшую здесь за четыре года – обнаружились остатки обгорелых досок и оплавленная с них глина, расшвырял это, как в лихорадке. А под грудой мусора, в который превратились остатки жилья, некогда опрятного и уютного – крышка, – не такая, как пол, оттого, видно, и не сгорела – доски прочные, не иначе, дубовые, соединенные бронзовыми скрепами. Кольцо на крышке погреба, однако, проржавело вконец, и когда он схватился за него, отвалилось, осыпаясь рыжей трухой.
Тогда он подцепил крышку мечом, как рычагом, и нажал, что было сил. Крышка сначала подавалась неохотно, натужно, а потом отошла, и он отпихнул ее в сторону. Открылся черный провал, более темный, чем ночь, что обступала его.
Уж не в свою ли могилу заглядываешь, Эд, король Нейстрии? Если его и можно было чем-то запугать, то только не этим. Однако здесь на собственное зрение уже нельзя было полагаться. Он вернулся к ивняку, наломал сухих веток, выкресал огонь и поджег. И с этим самодельным факелом спустился вниз.
Каких бы ужасов он ни ожидал от тайника чернокнижника, всем этим ожиданиям не суждено было сбыться. Погреб был самый обычный, из тех, в которых рачительные хозяева хранят припасы на зиму. Конечно, воздух был затхлый, и деревянная лестница, которую годами не поновляли, подгнила, так что Эд едва не свалился с подломившейся ступеньки, однако ж ничего замогильного здесь не было. Простой деревенский подпол с полками по стенам. Но и мешков с просом и репой, окороков и связок лука на этих полках тоже не имелось. А стояли на них кувшины и корчаги с горлами, плотно замотанными тряпками, а кое-где и с запечатанными или залитыми свинцом. И находилось в этих кувшинах – Эд мог бы в этом покляться – что угодно, только не доброе мозельское вино и не деревенский сидр. Не знал он, что там такое было, и, честно говоря, знать не хотел. Возможно, Азарика сумела бы в этом разобраться, но…
Но в эти мгновение его внимание привлек какой-то предмет, цветом и формой отличавшийся от всего, что он здесь увидел. Придвинувшись, он разглядел в самой глубине, у стены, какой-то ларец. Пришлось бросить факел – все равно от него не было уже никакого толку, полностью прогорел – и попробовать сдвинуть ларец с места. Это оказалось неожиданно просто – на вес ларец был легче, чем представлялся. Под слоем пыли обнаружилось, что он костяной и полностью, от крышки до днища, покрыт замысловатой резьбой.
Держа ларец в руках, Эд взглянул вверх и увидел, что небо побледнело. Близился рассвет. Подхватив свою находку, он выбрался наружу, но возвращаться в лагерь не спешил. Даже если эта находка не значит ровно ничего, он не желал, чтоб ее кто-нибудь видел.
Для начала он рассмотрел сам ларец. Моржовая кость, а манера – бретонская либо ирландская. Что само по себе еще ничего не значит. Ларец был заперт на замое, и где находился ключ от замка, в настоящее время ведал один только Бог. Однако Эд и не собирался тратить время на его поиски (ключа, не Бога). Он сбил замое кинжалом и отжал крышку. И приступил к изучению содержимого ларца.
Самым большим предметом в ларце оказался вытянутый чеканный футляр из тусклого металла, судя по весу, серебряный. Против ожидания, у футляра оказалась отвинчивающаяся крышка, и когда Эд открыл ее, выяснилось, что футляр содержит толстенный свиток, плотно исписанный непонятными значками по телячьей коже. Сколько Эд ни вглядывался в тусклом рассветном сумраке, он не мог узнать ни одной знакомой буквы. В норманнском плену ему приходилось видеть руны, которые тамошние колдуны высекали на камнях или резали на кости для своих волхвований – но и руны эти значки ничуть не напоминали. Пресловутая «халдейская книга», с которой начались все несчастья Одвина? И почему он хранил ее отдельно – ведь другие книги были наверху, где и сгорели?
Он осторожно убрал свиток в футляр и закрыл его. Возможно, остальные предметы, хранящиеся в ларце, прояснят загадку…
Под футляром лежал сложенный лист пергамента, исписанный сверху донизу. На сей раз это была латынь – настолько-то у Эда знаний хватало. Правда, прочитать, что там написано, он уже не мог. Но он и не пытался. Нахмурив брови, он разглядывал гербы, нарисованные в верхних углах пергамента. Герб слева – всадник на белом коне – не слишком его заинтересовал, а вот справа… старательно выписанные три лилии на синем щите… герб Нейстрии… и без черной полосы! Если б он только мог прочитать, что здесь написано…
Этим, однако ж, содержимое ларца не исчерпывалось, хотя любителю писаного слова делать здесь больше было нечего. На дне ларца лежало еще три предмета – один побольше, два поменьше. Эд вынул, даже схватил больший, потому что среди всего найденного им это была самая близкая ему и понятная вещь.
Рукоять меча.
Сам же клинок был косо обрублен почти у самой рукояти, и страшен, верно, был удар, рассекший закаленное железо – на такое способна лишь дамасская сталь, либо тяжелый топор-франциска. И нанесен был удар давно – обрубок клинка уже обильно тронула ржавчина. Но вот рукоять меча осталась цела, и по ней было видно, что некогда это оружие было достойно короля… или императора. Рукоять была окована листовым железом, оплетенным витыми серебряными захватами. Эфес венчала голова орла с рубиновыми глазами, а поперечные пластины рукояти, защищавшие руку, были сделаны в виде крыльев орла и украшены сапфирами. У основания же эфеса, там, где у орла – рукояти должно было быть сердце, был вделан простой необработанный камень. Точно булыжник или обломок каменной ограды. Но, судя по тому, на каком почетном месте он находился, для былого владельца меча этот булыжник представлялся дороже окружающих его золота и драгоценных камней. Должно быть, он почитал его реликвией необычайной ценности и святости. Что ж, какой бы силой ни обладала реликвия, клинка она не уберегла… Но, может быть, сила была именно в рукояти, а не в клинке? Ведь меч может быть выкован снова, второй же такой реликвии может и не быть?
Эд отложил рукоять и выложил на ладонь то, что еще оставалось на дне ларца. То, что он увидел, заставило его озадачиться еще больше, хотя, казалось бы, он должен быть к этому подготовлен.
Круглая печать с теми же тремя лилиями, перешедшими по праву наследования от Меровингов к Каролингам, от потомков Хлодвига – к потомкам Карла Великого. Теперь она, как говорят, перешла к придурочному Карлу, и Фульк утверждает, что, будучи опекуном слабого духом и телом наследника Каролингов, распоряжается ею, как единственный и законный канцлер Нейстрии. Значит, либо Фульк врет по обыкновению, либо одна из этих печатей – поддельная…
И, наконец, первый луч выползавшего из-за верхушек деревьев солнца ударил слепящим бликом по лежавшему на ладони Эда массивному золотому перстню. На овальной печатке довольно искусно было отображено лицо худого носатого человека в короне. Изображение окружала надпись, и, хотя все буквы в ней были перевернуты, Эд сумел ее прочитать – уж настолько-то его хромающей на обе ноги грамотности хватило, да и видел он уже раньше подобные перстни. Человек в короне прозывался Ludovicus imperator. Ни больше, ни меньше.
Еще того не легче! Помимо государственной печати Каролингов в ларце мельника Одвина покоилась еще и личная печать императора Людовика Благочестивого… который, между прочим, отдал Богу душу, когда Одвин был еще совсем зеленым юнцом… почти полсотни лет назад. Людовик Благочестивый… император, человек, которого, не будь прошлогодней исповеди Заячьей Губы, Эд называл бы своим дедом… но при чем здесь Одвин? Откуда в погребе деревенского мельника, будь он хоть десять раз колдун, имперские регалии? Вот она, тайна, которую чернокнижник скрывал от всех, от друга юности и (может быть, до поры до времени) от приемной дочери.
Впрочем, все это лишь подтверждало уже поселившиеся в душе Эда подозрения, что чернокнижник имел отношение к делам Каролингов, и на самом высоком уровне. Но вот какие? И почему перстень, печать и рукоять хранились вместе с халдейской книгой, которая принадлежала самому Одвину? Не нашел он ответа также и на вопрос, кем был Черный Гвидо. Хотя, скорее, нашел. Черный Гвидо не был самозванцем. Одвин не зря веровал в его права на престол – вот они, доказательства! А вот откуда они взялись… Быть может, это прояснится из грамоты с гербом Нейстрии. Во всяком случае, сидя здесь, на краю развороченного погреба при свете наступающего дня, он истины не узнает. Не докопается. Все, до чего можно было докопаться, он уже выкопал – в прямом смысле слова. Эд сложил все найденное обратно в ларец, ларец перевязал ремнем, поскольку крышка была отломана, и убрал его в седельную сумку. Перед уходом он, однако, снова прикрыл погреб крышкой и, как мог, закидал его землей и досками. Хотя ему ничего здесь больше не надо было, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел тайник Одвина. И снова вспомнил он о потревоженной могиле, и на сей раз не стал гнать от себя эту мысль. Пора было ехать в лагерь. Но по пути он дал себе слово – по возвращении в Компендий непременно поговорить с Фортунатом. В конце концов, уклоняться от разговора со стариком – это уже похоже на трусость.
Мысль послать за Гислой подала королеве Нантосвельта. Она не слишком обожала сеньеру Верринскую, считая ее особой шумной, не в меру говорливой и грубоватой. В сущности, это была ревность, и Нантосвельта, как женщина умная, отдавала себе в этом отчет. Но, будучи не только умной женщиной, но матерью многочисленного семейства, Нантосвельта отнюдь не разделяла благодушного настроения королевы насчет будущих родов. Слишком быстро забыла королева пересуды служанок. Здоровье – это еще не все. Сулейману же Нантосвельта не доверяла. Не доверяла – и все. Когда придет время, рядом с королевой должна быть опытная женщина. А лучше – две.
Но, хотя жизнерадостность Гислы всегда благотворно влияла на королеву, она не решалась послать за ней, не посоветовавшись с мужем. Не напомнит ли ему встреча с Гислой о том недавнем потрясении, пережитом летом? (Она так и не осмелилась спросить Эда, откуда он узнал… может, от кого-то из давних участников той проклятой охоты? Или от уродов?) И к тому же, у Гислы была своя жизнь, своя семья, дети, муж…
Однако, когда вся суматоха, связанная с возвращением Эда, улеглась немного, она намекнула о своем желании повидать Гислу. Он это приветствовал.
– Поусть приезжает, – сказал он, – хоть во всей своей оравой. Развлечет тебя, а заодно и повидается с мужем, когда я вызову его с лотарингской границы.
– А я думала, он в Суассоне…
– Почему в Суассоне?
Она смутилась.
– Так просто… одна мысль зацепилась за другую…
Это была правда. Альберик Верринский был столь же предан Эду, как и Генрих Суассонский, поэтому ее сознание на мгновение объединило их в единый образ. Но герцог Суассонский уже два года в могиле… как она могла так ошибиться!
Однако взгляд Эда был внимателен и пристален.
– Правильно мысли зацепились, – сказал он. – Я мог бы и сам об этом подумать. Ты считаешь, он был бы хорошей заменой?
– Но у герцога Суассонского, насколько я помню, осталось двое детей?
– Несовершеннолетних. И согласно закону и праву я взял их под свою опеку. Так же, как и город Суассон. Герцогиню же я лишил вдовьей доли и выслал в Трис.
Теперь она следила за ходом его рассужений. Ради памяти Генриха Суассонского Эд применил к его вдове далеко не самое суровое наказание, хотя все указывало на ее участие в заговоре и покушении на жизнь короля – ведь она была родной сестрой Аолы Трисской. Ее не ждали ни костер, ни даже монастырская келья. Но во владениях покойного мужа ей было показываться запрещено, равно как и пользоваться доходами с них. Герцогом Суассонским стал старший сын покойного, тоже Генрих, которому было всего десять лет, а столь важный в военном, торговом и политическом отношении город, как Суассон (одно время он даже был столицей Западно-Франкского косударства) требовал суровой охраны и умелого хозяйствования.
– Ты хочешь назначчить Альберика наместником в Суассоне?
– А ты?
– Какое это имеет значение?
– Имеет. Ты – королева.
Она не сразу ответила. Приказ графа Парижского Озрику-Оборотню не давать ему советов на людях отпечатался в сознании королевы, как резцом на каменной плите, и она по прошествии стольких лет все еще следовала ему. Но здесь – другое дело… они наедине, а советовать без посторонних он и тогда ей не только не запрещал, напротив – требовал. Правда, она долгое время и на это не решалась.
– Пожалуй, это будет наилучший выбор.
– Да. Удивляюсь, как жто мне самому в голову не пришло. Слишком занят был другим.
Она не поняла, что он имел в виду.
К счастью.
Фортунат был несколько удивлен – и, скорее, обрадован, когда король передал, что хочет встретиться с ним в его молельне. Честно говоря, старик скучал, как-то разом лишившись общества всех своих духовных детей. Эд все время, свободное от воинских походов и дел управления, проводил с женой – оно и понятно. Азарика полностью погрузилась в свои женские заботы. Некоторое отдохновение каноник находил в обществе простеца Авеля, но с тех пор, как в Компендии было объявлено о беременности королевы, брат Горнульф перестал появляться во дворце. Очевидно, боялся попасться на глаза королеве, полагая, как и большинство окружающих, что женщинам в тягости нельзя видеть перед собой уродов, пусть даже и облеченных монашеским саном.
Хотя Фортунат явился в молельню сразу после службы, Эд оказался там раньше него – и немудрено, при такой разнице лет! Каноника несколько озадачило следующее: раньше Эд ни в монастырской келье, ни здесь, и дворцовой молельне ни до чего не дотрагивался. Книжный и церковный обиход были ему одинаково чужды. Теперь же, в ожидании духовника, Эд снял с высокого пюпитра второй том Хроники, который Фортунат начал в прошлом году и не видел более необходимости прятать, перо и чернильницу, а на освободившемся месте разложил какие-то предметы.
– Это что, новая разновидность исповеди?
– Возможно, исповедь и будет. Но прежде всего – это просьба о совете. Взгляни, – Эд указал на пюпитр.
Фортунат обвел взглядом странное собрание и, насколько позволял возраст, устремился к свитку, выдвинутому из футляра. Ни рукоять, ни печать, ни перстень, ни грамота, казалось, не привлекли его внимания. А чего еще ожидать? Если бы не мрачное настроение, Эд бы усмехнулся. Красотка первым делом схватилась бы за украшения, воин – за оружие, а ученый грамотей – за книгу.
Фортунат долго вглядывался с свиток, щурясь и шевеля губами. Когда он поднял голову, его седые брови почти сошлись на переносице.
– Я думал, что после событий прошлого года утратил способность к изумлению. Напрасно, как выяснилось. Откуда у тебя Тора?
– Что такое «Тора»? – спросил Эд.
Вопрос остался без ответа. Фортунат тяжело вздохнул и опустился в кресло.
– Я чувствую, сын мой, что ты хочешь сказать мне нечто… и в то же время запрещаешь себе говорить. Неужели… это еще хуже, чем в прошлый раз?
Теперь не ответил уже Эд. Фортунат снова вздохнул и обратился к королю, как говаривал какому-нибудь монастырскому крестьянину, явившемуся в его келью со своими нуждами и окончательно запутавшемуся.
– Пожалуй, тебе лучше начать с самого начала…
История и в самом деле была пострашнее той, что Фортунату пришлось выслушать в прошлом годе, однако теперь он был уже в некотором роде подготовлен, и сердце его выдержало. Хотя он был глубоко удручен.
– Ужасный грех… один из ужаснейших… и ужаснее всего, что я уже отпустил тебе его. (Он вспомнил сумрак кельи, еще более мрачные глаза ученика и голос, прерывающийся от ненависти: – «Вы отпустили ему грехи?») Да, много мне придется молиться… за тебя… и за себя… – Он машинально коснулся четок у пояса. – Твоей жене об этом ничего не известно?
– Нет. Я не осмелился рассказать ей… сейчас. Она по-прежнему считает, будто все мои терзания из-за того, что я убил ее отца. Она всегда считала меня лучше, чем я есть, и в этом ее несчастье.
– Но жить с таким на душе…
– Речь сейчас не об этом.
– Ах да, ты же пришел ко мне не за духовным утешением, а за советом… Ты полагаешь, будто твоя супруга происходит от некоего претендента на трон Нейстрии, принадлежавшего к роду Каролингов. И твои находки, сделанные в тайнике Одвина, это подтверждают. Что же, исследуем их.
Теперь каноник долго разглядывал печать и перстень.
– Перстень императора Людовика… Этот благочестивейший монарх еще здравствовал, когда я затворился в монастыре, и он посещал академию Рабана Мавра. Мне кажется, я припоминаю этот перстень на его руке. В таком случае, и печать также должна быть подлинной. Но как они попали в тайник мельника? Быть может, грамота нам в этом что-то прояснит… Он поднес грамоту к глазам, водя взглядом по строчкам. Когда он опустил грамоту, казалось, его способность испытывать потрясения вновь подверглась тяжелому испытанию.
– Это запись о крещении, данная в день Преображения Господня в год от рождества Христова 870. Герберт, каноник церкви святого Илария в Пуатье, окрестил в этот день Теодераду, дитя, рожденное в браке между… слушай внимательно! Гвидо Каролингом, законным сыном императора Людовика Благочестивого, и Теодорой, девицей… как этот Герберт выразился, de militari ordini… «из военного сословия». Видимо, это означает, что отец ее был свободнорожденным воином, но не более… Дальше идут подписи восприемников и свидетелей, общим числом восемь человек, среди них – Одвин из Малой Британии.
– Теодерада… – Эд хмурился.
– Ах, с этим все ясно. Если карающая рука короля Карла Лысого добралась до этого священника Герберта или до кого-нибудь из свидетелей… спаси, Господи, их души… а такой возможности мы упускать не должны, имя ребенка стало бы королю известно. И Одвин не мог, не выдавая тайны, именовать свою воспитанницу Теодерадой. Он называл ее бретонским языческим именем – Азарика…
Фортунат не стал добавлять, что найденная запись принесла хотя бы одну благую весть – успокоила его сомнения насчет того, крещена ли Азарика.
– Итак, все разъяснилось, – тихо сказал Эд.
– Нет, ничего не разъяснилось! – старик в отчаянии всплеснул руками. – Ведь в грамоте оговорено, что Гвидо был законным сыном императора. Конечно, в этом качестве он был гораздо опаснее, и понятно, почему Карл Лысый столь ожесточенно преследовал его и его потомство. Но, если бы Черный Гвидо был побочным сыном, было бы хоть понятно, почему мы о нем не слыхали. Какое касательство имел к этому Одвин? И опять-таки, при чем здесь Тора?
– Ты так и не объяснил мне, что это такое.
– Просто Библия на еврейском языке. Пятикнижие Моисеево… В юности, в монастыре, мы все книги на непонятных языках по примеру старших наставников именовали халдейскими, но, став постарше, я побывал в Туре и Массилии, потолковал с тамошними раввинами и, хотя не преуспел в обращении их в истинную веру, по крайней мере, узнал, как выглядят буквы, которыми впервые было записано слово Божие, и могу отличить Тору от…
Он внезапно вскочил в кресла и схватился за виски.
– Халдейская книга… Одвин… Тора… О, мой Бог! Императрица Юдифь!
Эд помог ему сесть на место. Фортуната все еще трясло.
– Как я сразу не догадался! Как не связал в единый узел!
– О чем ты?
– Юдифь Баварская… Вторая супруга императора Людовика… Мать Карла Лысого… Я ни разу в жизни не видел ее, а ведь она умерла в монастыре святой Колумбы… не так далеко от святого Эриберта!
– Опять монастырь святого Эриберта. Я знал, что след опять поведет туда.
Фортунат не слушал его. Дрожь возбуждения от сделанного открытия не проходила.
– Боже мой, как давно все это было… целая жизнь… Императрица Юдифь… видеть я ее не сподобился, может быть, и к счастью, а слышал много… Дай мне сюда Хронику… Нет, не этот том, другой, толстый, в углу. Я зачитаю тебе из нее выдержки. Юдифь была, как говорили, самая прекрасная женщина в империи… и самая ненавидимая… самая умная… и самая коварная. Ее прозвище было «черная лиса».
– Опять «черная», – пробормотал Эд.
– «Судьба ходит неверными путями и уловляет в сети. Благочестивейший монарх среди всех христианских правителей влюбился в эту дочь народа Израилева и взял ее в жены. Все земные богатства были брошены к ее ногам. Но она была из тех женщин, что хотят только власти – не для себя, так для своих детей…»
– Тебе это ни о чем не напоминает? – с недоброй усмешкой спросил Эд.
Но Фортунат не слушал его, продолжая читать.
– «Пусть умру, лишь бы он царствовал», – как говорила Агриппина, мать ужасного Нерона. Таков девиз всех подобных матерей. Но Юдифь и в самом деле не раз рисковала жизнью. О рождении ее сына Карла ходили темные слухи, впрочем, может быть, и клеветнические… Однако она сумела связать старших сыновей Людовика клятвой помогать Карлу и оберегать его, когда он был мал, так что от них он был в безопасности. Но на саму Юдифь ополчились и знать, и церковь. Говорили, что правит не сам император, но императрица, что она самовластно перекраивает земли, раздает уделы и назначает наместников. И чем удачнее были начинания Людовика, тем больше их ставили в вину Юдифи, ибо такие способности у женщины могут быть вдохновлены лишь дьяволом.»
– И это я тоже слышал.
– «И сыновья Людовика от первого брака, не могущие повредить своему единокровному брату, сильно злоумышляли против Юдифи, и дважды захватывали ее силой войск, и заточали в монастырь. Император же, будучи от природы добр, но слаб и мягкосердечен, лишь проливал горькие слезы. И все равно Юдифи удавалось освободиться. Тогда собрались клирики и архипастыри империи, и обвинили императрицу в колдовстве, и в том, что она дьявольскими чарами подчинила себе ум и сердце правителя. Но Юдифь хитроумными речами отвела от себя все подозрения, и клир полностью оправдал ее, а император возвеличил пуще прежнего. Наконец, в 840 году от Воплощения Слова император Людавик скончался. До нас в монастыре доходили служи, что в том же году императрица родила еще одного сына, но тот умер вскоре после того. И, скорбя от потери мужа и ребенка, она удалилась в монастырь… святой Колумбы… где и умерла от чахотки, пережив своего мужа лишь на три года, хотя была более чем вдвое его моложе…»
– Так записано в Хронике?
– Так записано в Хронике.
– А что было на самом деле?
– Ох, недоверчив ты, сын мой… Все, в общем, так и было… за исключением того, что заточение Юдифи вовсе не было добровольным. Но на сей раз она ничего не могла поделать, потому что принц Карл, уже достигший совершенных лет, присоединился к своим братьям. Империя была разделена, в удел ему досталась Нейстрия, как его мать и добивалась, да только править он хотел без нее.
– «Пусть умру, лишь бы он царствовал»?
– Да, и она ведь и вправду вскоре умерла. Только знаешь, от кого я узнал эти подробности?
Эд угадал ответ прежде, чем Фортунат произнес его вслух:
– От Одвина.
– От кого же узнал их Одвин?
– Любому женскому монастырю положен исповедник. И в монастырь святой Колумбы был назначен от святого Эриберта монах, именем Нигелл. На протяжении двух лет, что Юдифь жила там, Нигелл наезжал в обитель святой Колумбы довольно часто. Времена же были беспокойные – впрочем, когда они спокойные, а Нигелл был слаб здоровьем, поэтому сопровождать Нигелла был отряжен самый сильный и смелый из учеников.
– Одвин.
– Он. На собственное несачстье, Одвин отличался неуемной страстью к знаниям, поспорить с которой могла лишь его страсть к справедливости… Ему всегда легко давались языки. Предполагаю, что Тора принадлежала Юдифи, и Одвин мог испросить книгу у нее, желая прочесть слово Божие так, как оно было написано изначально, но Юдифь умерла прежде, чем он вернул книгу.
– Это объясняет книгу, но не все остальное. Перстень и печать Одвин у нее тоже взял на подержание? И меч она хранила в женском монастыре?
– Не горячись. Как ты, верно, и сам догадываешься, младший сын Юдифи вовсе не умер.. и об этом стало известно и Одвину. Больше об этом мог бы знать его наставник Нигелл – ведь он был одновременно исповедьником Юдифи…
– Что же Нигелл?
– С Нигеллом получилось вот что. Когда Одвин бежал, и впервые прозвучало слово «чернокнижие», отвечать пришлось его наставнику – почто не уследил за душой ученика? Нигелла судил церковный суд. Имя Юдифи ни разу не прозвучало – ее ведь уже не было в живых, да и никто не додумался связать ее со скандалом в монастыре святого Эриберта. Нигелл, если что и знал, сохранил тайну исповеди…
– И что стало с Нигеллом?
– В общем, он довольно легко отделался. Его только перевели из обители святого Эриберта, издавна пользовавшейся королевскими милостями, в другой монастырь – во имя блаженного Агерика, что в Веридунуме.
– В Веридунуме? Это в Лотарингской земле?
– Опомнись, сын мой! В своих поисках ты готов перевернуть землю и небо! Нигелла наверняка уже нет в живых, ведь прошло уже более сорока лет, а он и тогда был человеком болезненным и старше меня годами.
– Тогда я посмотрю на его могилу.
– Опомнись, говорю я тебе! Неужели тебе недостаточно того, что ты узнал?
– Нет. Недостаточно. Может, во мне тоже заговорила неуемная страсть к знаниям. Я ведь тоже сын своего отца-колдуна и своей матери-ведьмы.
У Фортуната щемило сердце, но он не находил слов утешения и мог только спросить:
– Неужели ты покинешь Компендий сейчас, когда…
– Нет. Сейчас не покину.
Но – король предполагает, а Бог располагает. Королю не удалось провести осень в своей резиденции. Дождей по-прежнему не было, дороги все еще держались, продолжались военные действия. В октябре началось очередное наступление лотарингов.
Армия герцога Лотарингского Дидье, поначалу продвинувшаяся вглубь нейстрийской территории, затем откатилась обратно, к герцогской крепости Низиум, по пути столкнувшись с передовым королевским отрядом под командованием графа Амонского. Это произошло рядом с Виродунумом. Завязалось жестокое сражение, в ходе которог пострадал и город, и близлежащий монастырь блаженного Агерика. Когда прибыл король, добрая половина этой старинной обители выгорела начисто. Кто поджег монастырь – то ли отступавшие лотаринги, то ли нападающие в горячке боя, – так и осталось неизвестным.
Все же братии удалось кое-как справиться с пожаром. Сгорела сама церковь, аббатские покои и некоторые строения, примыкающие к ним, крипта была завалена обломками камня, однако часть жилых строений уцелела, в том числе кухня, и это было причиной, по которой их заняли, потеснив сирую братию, королевские дружинники.
По приезде Эда вокруг монастыря все еще стлались дымы, но рожденные уже не пожаром, а лагерными кострами. Ошеломленные, потерянные монахи слонялись между ними. Некоторые выпрашивали у воинов пищу, иногда получая оную, чаще же – тычки по шее. Другие, более крепкие телом и духом служители господни, ковырялись среди развалин, разгребая обломки камней и чая, видимо, этим кое-как залатать причиненный обители ущерб. По приказу Эда Жерар отловил одного такого трудолюбивого чернеца и приволок к королю. Монах явно слабо понимал, чего от него хотят, хотя сильно старался, затем объяснил, где можно найти аббата. Говорил он, как большинство местных жителей, с чудовищным аллеманским акцентом.
Аббат обнаружился в кухне, причем вовсе не принимал пищу и не указывал, как ее готовить, как можно бы предположить по месту его пребывания. Он просто сидел за дощатым столом, подперев голову руками – не старый еще, полнотелый человек, и совсем недавно, видимо, рыжий. По кухне шатался какой-то люд – солдаты, слуги, монахи, и они обращали на него внимания не больше, чем он на них. Несчастья обители, вероятно, совершенно сокрушили его душу. Только после того, как Жерар растолковал ему, кто находился здесь, аббат несколько высунулся из своей скорлупы. На вопрос, жив ли брат Нигелл, что некогда была переведен сюда из монастыря святого Эриберта, утвердительно кивнул.
– Так где же он?
– У себя в келье, – прокаркал аббат, все с тем же аллеманским выговором. – Он и раньше редко показывался, а теперь и вовсе не выходит. Очень старый…
– Он хоть в своем уме? – спросил Эд. Одного безумного старика на пути его поисков ему уже хватало.
Аббат не ответил, вновь уронив голову на руки и впав в прежнюю тоскливую прострацию.






