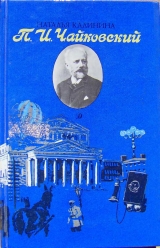
Текст книги "П.И.Чайковский"
Автор книги: Наталья Калинина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

А. П. Бородин.

Л. Н. Толстой.

М. А. Балакирев.

Большой театр в Москве. Черновик балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

П. И. Юргенсон, музыкальный издатель.

П. И. Чайковский. 1868.

Магазин Юргенсона в Москве.

П. И. Чайковский (1874) на фоне дома в Каменке.

Н. Ф. фон Мекк.

П. И. Чайковский с женой, А. И. Милюковой. 1877.

Ганс фон Бюлов.

С. В. Рахманинов.

Э. К. Павловская, первая исполнительница партии Кумы в опере «Чародейка».

А. И. Давыдова, сестра композитора.

Э. Ф. Направник, дирижер и композитор.

А. Дворжак. Национальный театр в Праге, где П. И. Чайковский дирижировал в 1888 г.

Э. Григ, которому П. И. Чайковский посвятил увертюру-фантазию «Гамлет».

М. Н. Климентова, первая исполнительница партии Татьяны в опере «Евгений Онегин».

П. И. Чайковский. 1886.

К. Брианца, первая исполнительница партии Авроры в балете «Спящая красавица».

П. И. Чайковский. 1888.

Сборник рассказов А. П. Чехова с дарственной надписью П. И. Чайковскому.

А. П. Чехов. 1889. Фотография, подаренная П. И. Чайковскому.

М. И. Фигнер и Н. Н. Фигнер – первые исполнители партий Лизы и Германа в опере «Пиковая дама». Мариинский театр в Петербурге.

Н. Д. Кашкин, П. И. Чайковский, М. И. Фигнер и Н. Н. Фигнер. 1890.

Братья Чайковские в 1890 г. Сидят (слева направо): Николай и Петр; стоят: Анатолий, Ипполит, Модест.

П. И. Чайковский. 1890.

П. И. Чайковский с племянником В. Л. Давыдовым. 1892.

Пианистка Адель Аус дер Оэ и П. И. Чайковский. Нотный автограф композитора. 1891.

В. Л. Сапельников, пианист.

П. И. Чайковский с виолончелистом А. А. Брандуковым. 1888.

П. И. Чайковский с В. Л. Сапельниковым перед замком Софии Ментер в Тироле. 1892.

Дом П. И. Чайковского в Клину (слева – вид со стороны крыльца; справа – вид со стороны сада) на фоне города.

Похороны П. И. Чайковского 29 октября 1893 г. в Петербурге.

Памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории, носящей его имя.
Его номер в отеле «Нормандия» утопал в весенних цветах – американки не только падки на сенсацию, но еще и очень экзальтированны. А в общем, и в Новом Свете живут гостеприимные, отзывчивые, добродушные люди. Главное – у них большой интерес к далекой загадочной России.
Особенно приятное впечатление произвел на Чайковского сам Эндрю Карнеги, обратившийся "с течением лет из телеграфных мальчишек в одного из первых американских богачей". Главное – он остался простым, скромным, "ничуть не подымающим носа". Музыка русского композитора потрясла американца Карнеги до глубины души, хотя эту свою необыкновенную симпатию он выражал самым странным образом: хватал Чайковского за руки, называл некоронованным, но самым настоящим королем музыки, обнимал, поднимался на цыпочки и вздымал руки, выражая его величие.
Америка, Америка, какая же ты разноликая, пестрая, суетная…
Досаждали любители автографов и репортеры. Особенно последние, писавшие в газетах всякую чепуху и несуразицу. Один из них буквально огорошил вопросом: "Нравится ли вашей супруге Нью-Йорк?" Оказывается, Чайковского видели на пристани с одной из дочерей президента "Мюзик холл кампэни" Мориса Рено и на другое утро газеты растрезвонили о том, что русский композитор Чайковский прибыл в Америку с молоденькой очаровательной женой.
Американская пианистка Адель Аус дер Оэ великолепно исполнила Первый фортепьянный концерт под управлением автора, к замечаниям которого прислушивалась, затаив дыхание. "Вызывали, кричали upwards ("еще"), махали платками, одним словом, было видно, что я полюбился в самом деле американцам", – запишет в дневнике Чайковский.
А потом была поездка на Ниагару, прогулки по тихому провинциальному Вашингтону, концерты в битком набитом филадельфийском театре…
"Я предвижу, что буду вспоминать Америку с любовью. Уж очень меня хорошо здесь принимают", – напишет Чайковский перед самым отъездом в Европу. И в другом письме: "Я здесь персона гораздо более, чем в России. Не правда ли, как это курьезно!!!"
«Люблю до страсти все русское…»
И в этот раз, как в старые добрые времена, друзья долго бродили по Москве. Последнее время и виделись редко, и писем друг другу почти не писали – суета. Николай Дмитриевич Кашкин все так же забавно шмыгал носом, называл Чайковского «сударь мой», и будто бы не было этих двадцати с лишним лет, прошедших со дня первой их встречи, будто бы это не седина, а осенний иней посеребрил волосы.
По старинке зашли в трактир Барсова, ну совсем как в те годы, когда в кошельке лишь медь позвякивала. Осенью в Москве меньше поют – друзья готовы слушать народные песни хоть до утра, – зато придет весна, снова зазвучат на улицах эти дорогие и понятные русскому сердцу песни, сочиненные народом.
– Ты знаешь, сударь мой, я до сих пор поражаюсь твоей удивительной способности создавать мелодии в чисто народном стиле, как, например, в первом хоре крестьян из "Евгения Онегина", – размышляет вслух Кашкин, от души наевшись горячих блинов со сметаной. – Уж не говоря про то, что, используя народную песню, ты нисколько не подделываешься под народный склад, а получается и по-русски, и в то же время абсолютно в стиле произведения. Отчего это, друг мой, открой секрет?
Чайковский задумчиво глядит в окно, за которым начинают кружиться редкие медлительные снежинки.
– Наверно, оттого, что я вырос в глуши, с детства проникся красотой русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях. Одним словом, оттого, что я – русский в полнейшем смысле этого слова. И это я говорю не рисуясь: перед тобой, любезный Николай Дмитриевич, знающий мой каждый шаг в музыке, мне бессмысленно рисоваться. Это я говорю, продолжая свой спор с Владимиром Васильевичем Стасовым, который считает меня композитором, лишенным ярко выраженной русской национальности.
– Как же он заблуждается, этот наш богатырь, перед которым я всегда в почтении склоняю голову, – с горячностью завзятого спорщика заявляет Кашкин. – Как будто истинная национальность состоит в описании сарафана. Гоголь правильно сказал: "Поэт, – а я добавлю, и музыкант тоже, – может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами…"
– Все это верно. – Чайковский горестно вздыхает. – Однако кое-кто из "Могучей кучки", как ты знаешь, считает меня космополитом. Ну, например, Цезарь Кюи. Это потому, что я не пренебрегаю всем талантливым и ярким, созданным на Западе, что и оттуда я могу почерпнуть не просто полезное, а необходимое для творчества. Если честно, то мне чужд дух узкого национализма.
– Ну, "кучкисты" готовы отрицать все музыкальные традиции, кроме разве что Глинки. К тому же наверняка они ставят тебе в вину твое консерваторское образование.
Чайковский кивает головой.
– Хотя, признаться тебе, я воспринимаю их не как одно целое, чем они стремятся во что бы то ни стало быть. Понимаешь, Николай Дмитриевич, талант всегда самобытен. Ну как, к примеру, можно заставить мыслить одинаковым образом Римского-Корсакова, который чем дальше, тем больше становится одним из лучших украшений нашего русского искусства, и того же Бородина, чью Богатырскую симфонию я ставлю очень высоко.
– Я знаю, ты не любишь Мусоргского, однако же, надеюсь, не станешь отрицать в нем таланта?
Петр Ильич решительно качает головой.
– Ни в коей степени. Хотя считаю, что он подчас гордится невежеством, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки и в самом деле талантливые, притом не лишенные самобытности.
Друзья надолго замолкают, наблюдая, как за окном разыгрывается настоящая зимняя метель.
– Было время, когда "кучкисты" и Стасов страстно желали тебя "приручить", направить по угодному им пути. Особенно усердствовал в этом деле Милий Алексеевич Балакирев.
– Я считаю его самой крупной личностью этого кружка, – уверенно заявляет Чайковский. – И очень ценю его заслуги перед музыкальным искусством. Собрать такой превосходный сборник русских народных песен далеко не каждому под силу. К тому же да простятся ему все его заблуждения за одно то, что удосужился поставить в Праге "Руслана и Людмилу" Глинки. И как поставить!
– И люблю же я нашу Белокаменную! – невольно восклицает Кашкин, когда друзья едут на извозчике к Николаевскому вокзалу, чтобы поспеть на последний поезд до Клина. – Казалось бы, родился и вырос среди степных воронежских просторов, в Москву попал уже вполне зрелым, хотя и достаточно молодым человеком, а на тебе – готов молиться каждому камню, так или иначе связанному с нашей русской историей.
– Недаром ведь тебя прозвали летописцем московской жизни. Правда, музыкальной. И это так отрадно. Вдумайся в смысл этих слов – "музыкальная Москва". Когда-то ее называли не иначе как "купеческой".
– В том, что она стала такой, есть и твоя заслуга, сударь мой. Ладно, ладно, не скромничай. Москвичи любят тебя, что говорит об их отличном вкусе. А ты знаешь, сударь мой, не найти в Москве ни одного дома с фортепьянами, где бы не играли и не пели твоего "Евгения Онегина", "Времена года", а в особенности романсы.
Чайковский счастливо улыбается:
– Между прочим, тебе я посвятил один из первых моих опусов. Помнишь? "Ни слова, о друг мой…" Знаешь, мне недавно прислал рукопись своих стихов Даниил Ратгауз. Премилые есть среди них. Жив буду, непременно напишу к ним музыку. Мне нужно стихотворение с определенно выраженным настроением, состоянием души, которое рождает во мне ответное музыкальное чувство. Какое счастье, что наша поэзия – неисчерпаемый источник для камерного творчества.
– А все-таки мне очень жаль, что ты давненько не пишешь критических статей, – вздыхает Кашкин. – Помню, всегда восхищался твоим умением говорить о музыке доступным и в то же время прекрасным литературным языком.
– Должен тебе признаться, я всегда делал это с удовольствием, ибо задачу критики видел и вижу прежде всего в поощрении молодых начинающих талантов. Увы, некоторые наши критики вместо того, чтобы помочь птенцам как следует опериться, спешат подрезать им крылья. Я помню, сколько новых сил пробуждали во мне твои статьи, а также Германа Августовича Лароша, где вы, не скупясь, давали мне авансы.
Кашкин с любовью смотрит на друга.
– Ты, сударь мой, вернул их сторицей. Однако ж если твой Алексей не позаботится о том, чтобы в моей комнате не дуло от окна, как это случилось в прошлый мой приезд в твое новое домовладение, я начну свой очередной музыкальный фельетон со следующей фразы: "У маститого русского композитора П. Чайковского дует изо всех окон и дверей, что, однако, не мешает ему быть посещаемым не только насморком, а еще и вдохновением…"
«Вдохновение рождается… во время труда»
На этот раз Вена показалась Чайковскому неуютной, излишне шумной и вовсе не музыкальной.
Особенно рассердился Петр Ильич на устроителя концертов при театрально-музыкальной выставке, некоего господина Гутмана, который снял под концертный зал огромный, похожий на сарай, ресторан. Помимо того, что в нем была никудышная акустика, Чайковский никак не мог представить, как можно слушать серьезную музыку и одновременно жевать чесночную колбасу, запивая ее пивом. А тут еще и оркестр оказался слабым, совсем беспомощным. Петр Ильич вовсе пал духом, не зная, как ему быть. Он тушевался под пристальным благоговейным взглядом оркестрантов, ожидавших чуда от "знаменитого русского". Однако же никакого чуда в подобной обстановке произойти не могло.
В разгар репетиции в зал почти влетела очаровательная моложавая дама и, проворно вскочив на подиум, где размещался оркестр, принялась душить в объятьях окончательно растерявшегося капельмейстера.
– О дорогой мой Петр Ильич, как же я рада, рада! – твердила дама, в которой Чайковский наконец узнал блистательную венгерскую пианистку с мировой славой Софи Ментер. – Мы с Базилем так спешили к вам. Однако ж вы чем-то расстроены? В чем дело? – Ментер вопрошающе глядела на Петра Ильича. – Ах, я понимаю вас – с таким оркестром каши не сварить, как говорят в России. Вы же, разумеется, ни в коем случае не хотите ударить в грязь лицом. Видите, сколько чудесных поговорок я вывезла из вашей славной страны? – Глаза Ментер лукаво блеснули из-под изящной соломенной шляпки. – А что, если нам поручить расхлебывать всю эту кашу тому, кто ее заварил? – Она старательно и с особым наслаждением выговаривала русские слова. – Так, кажется, говорят в России? И укатить в мой средневековый замок в Тирольских горах? Тем более, что, как я понимаю, герр Гутман не удосужился доставить в свою презренную ресторацию мой любимый "Бехштейн".
– Мадам, если угодно, я доставлю вам хоть звезду с неба, – пообещал подоспевший Гутман.
– Она у меня уже есть. – Софи нежно, но властно взяла Чайковского под руку, и они вместе спустились с подиума. – Итак, милый Петр Ильич, если не возражаете, перекусим где-нибудь на свежем воздухе – и в путь.
Чайковский не возражал. Он очень подружился с Софи Ментер в те времена, когда она преподавала в Петербургской консерватории, восхищался ее романтичным, темпераментным исполнением фортепьянной музыки Шопена, Шумана, Листа, ценил в ней умного, доброго собеседника, отзывчивого друга. Ну, а что касается ее спутника и ученика, Василия Сапельникова, этот юноша прочно завоевал его сердце еще четыре года назад, когда дебютировал в Гамбурге с его Первым фортепьянным концертом и произвел настоящую сенсацию.
– Как любил повторять мой дорогой незабвенный учитель Ференц Лист, пускай наша жизнь будет настолько прекрасной, насколько у нас хватит на это фантазии, – говорила Софи Ментер уже по дороге в Иттер. – Думаю, Петр Ильич, у нас с вами она просто бьет ключом. Нет, нет, не волнуйтесь – превыше всего я ценю ваш покой и любовь к уединению. Между прочим, Базиль это подтвердит, я сама отшельница. Живу в обществе музыки, природы и старых безобидных духов, обитающих под крышей моего уютного неприступного гнезда…
Чайковский отдыхал у Ментер и душой и телом. В его распоряжении был целый этаж этого "чертовски красивого" замка на самой макушке поросшей сочным альпийским лугом горы, куда долетало разве что пение птиц и мелодичное позвякивание колокольчиков пасущегося в долине стада. Он много гулял, читал книги из великолепной библиотеки гостеприимной хозяйки, слушал ее божественную игру и… очень скучал по России. Закрыв глаза, представлял себя то в Каменке, то в Майданове, а чаще всего в родном Клину, который успел полюбить всем сердцем. Там уже наверняка желтеют и никнут прихваченные холодными утренниками цветы на клумбе у веранды, сбиваются в стаи перелетные птицы… Алексей закупил на зиму капусту и яблоки, насолил грибов… Однако же что-то знакомое и на редкость симпатичное рождается под пальцами этой необыкновенной женщины. Как будто его поднял в воздух, закружил вихрь волшебной мечты, и он верит, верит в то, что эта мечта непременно сбудется.
– Ваш "Щел-кун-чик", – Софи снова с наслаждением выговаривает русские слова, – вернул меня в волшебную страну детства. Я вдруг загрустила о елке, рождественских сладостях, которые находила в ее пушистых лапах. А вот сейчас, играя для вас Анданте Маэстозо, вспомнила свою первую любовь. Я всегда дивлюсь способности вашей музыки заставить человека становиться чище, возвышенней, добрей, наконец. И еще – она вызывает в сердце мучительную тоску по истинному счастью.
– Милая Софи, очень благодарен вам за свое Анданте, хотя, признаться, к своему стыду, не сразу узнал его, – тихо заговорил Чайковский. – Дело в том, что я очень нежно люблю всякое свое чадо тотчас после появления его на свет, пока оно еще вполне мое и никто его не знает, но как только оно сделалось достоянием публики, я охладеваю к нему, даже забываю его. – Он грустно усмехнулся. – Впрочем, я сам люблю этот балет, хотя, сочиняя, был уверен, что получится хуже "Спящей красавицы". Не мне судить, как вышло на самом деле.
– Вышло так, что вы создали гимн земной человеческой любви, – вмешался в разговор сидевший у камина Сапельников. – Не перестаю дивиться вдохновению, которое посещает вас без устали с каждой новой вещью.
Чайковский досадливо поморщился.
– Дорогой мой Вася, уж вам, наверное, следовало бы понимать, что нет неблагодарней занятия, как ожидать, пока на тебя снизойдет вдохновение. Даже человек, одаренный печатью гения, не создаст ничего не только великого, но даже среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше ему дано, тем больше он должен трудиться. Вспомним нашего божественного Моцарта, изнурявшего себя за письменным столом по двадцать часов в сутки.
– Позвольте, но ведь Моцарту все давалось легко…
– Нет, нет, я знаю, что говорю, – остановил Сапельникова на полуслове Чайковский. – Вдохновение рождается только из труда и во время труда. Если у меня ничего не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова. Так я пишу день, два, десять дней, не отчаиваясь, глядишь, на одиннадцатый день что-нибудь путное и выйдет. Упорной работой, нечеловеческим напряжением воли вы добьетесь своего, и вам все удастся больше и лучше, чем гениальным лодырям.
– Вы полагаете, Петр Ильич, что бездарных людей на свете не бывает? – тряхнув прелестной белокурой головкой, поинтересовалась Софи Ментер.
– Их меньше, чем мы подчас думаем. Но зато очень много людей, не желающих или не умеющих работать. К тому же частенько по молодости лет мы не понимаем той простой истины, что назначение каждого человека прежде всего состоит в том, чтобы, не жалея сил и здоровья, служить выбранному раз и навсегда делу. Кабы мне вернуть прошедшее, я бы минуты не потратил на те самые пустяки, в которых когда-то искал смысл бытия…
Чайковский долго ворочается на широченной инкрустированной кровати, уносясь памятью в далекое прошлое. Были, были и в нем прекрасные, незабываемые мгновения. Особенно в детстве, насквозь пронизанном теплой материнской любовью. До сих пор не может он смириться с потерей матери, вдруг так внезапно, так безвозвратно исчезнувшей из его жизни. Нет больше и дорогих сердцу друзей: Николая Рубинштейна, Губерта, Котека… Нет ничего вечного в этом мире, отчего он подчас кажется таким хрупким, таким ненадежным.
Хотя как же так нет? Разве не вечен Шекспир с его возвышающими душу страданиями, с верой в победу добра над силами зла? А Моцарт? Рафаэль? Микеланджело? Конечно же, они вечны, благодаря их бессмертным творениям. С ними часто разговариваешь, как с живыми. Вот Глинка по сей день служит первым советчиком в его творчестве. Без Глинки вряд ли бы создал он "Спящую красавицу", "Щелкунчика". Да все русские композиторы долго будут черпать из этого богатого источника, ибо нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все его богатства. Да! Глинка настоящий творческий гений.
Дом у заставы
Этот небольшой деревянный дом у самой заставы, расположенный невдалеке от Московского шоссе, стал последним жильем Петра Ильича Чайковского.
Он никогда не принадлежал композитору, а всего лишь снимался им в аренду у мирового судьи Сахарова. Однако его уединенное местоположение и виды, открывающиеся из окон на раздольные подмосковные поля с синеющими по кромке горизонта лесами, – все это оказалось по душе Чайковскому, твердо решившему доживать в этом доме всю оставшуюся жизнь.
Кто мог подумать, что ему было отпущено совсем немного…
Незаменимый Алексей Софронов, за двадцать лет изучивший повадки, вкусы, привычки своего хозяина, быстро и без лишней суеты создал необходимый домашний уют.
Верхний этаж клинского дома состоял из пяти комнат: прихожей, просторного кабинета-гостиной и смежной с ним небольшой спальни. К ним примыкали две комнатки для гостей.
В нижнем этаже располагалась столовая, выходящая на крытую террасу, и через нее – в сад.
Ровно в семь Чайковский появлялся на пороге гостиной: бодрый, подтянутый, освеженный крепким, деревенским сном.
Если на дворе тепло, чай можно попить в маленькой верандочке-фонарике, застекленной разноцветными ромбиками. Ее окна глядят на восток, поэтому ранним утром тут сказочно хорошо. За чаем – неизменные "Русские ведомости", которые Чайковский проглядывает очень внимательно, не упуская ни политических, ни культурных новостей и событий. А также письма. Их с каждым днем приходит все больше и больше.
– Погода нынче на редкость погожая, – докладывает Алексей. – Ночью дождик грибной прошумел, а сейчас ясно, тепло и петухи вовсю горланят. Никак, гулять пойдете…
Петр Ильич согласно кивает. Работы срочной нет, значит, можно минут сорок побродить по саду, кстати, взглянуть – может, наконец, распустились фиолетовые гладиолусы, над которыми они с Алексеем разве что молитвы не читали.
Ни облачка на небе, хотя чувствуется – не за горами промозглая подмосковная осень. Как сказал Пушкин, "унылая пора, очей очарованье". Зато будет меньше соблазнов пускаться в далекие пешие прогулки, можно прочно засесть за работу. Правда, прогулки на пользу – после них чувствуется небывалый прилив энергии.
Да, дождик и впрямь был грибной: даже в воздухе висит свежий грибной дух. Вот приедет к нему кто-либо из близких друзей, непременно сходят в лес за грибами. Одному не так интересно – пропадает охотничий азарт.
Однако же пора за работу… Подчас Чайковскому кажется, что где-то глубоко внутри отсчитывают секунды, недели, годы очень точные, беспощадные часы. Стоит хоть на день отдохнуть от рабочего стола, перенести дела на завтра, и маятник начинает стучать все громче и настойчивей. "Не успеешь, не успеешь, не успеешь", – звучит в ушах, в голове, в сердце. А ему нужно еще так много успеть.
Время до обеда пролетает незаметно: корректуры скопилось предостаточно, удалось, наконец, завершить давно начатую фортепьянную пьесу "Элегическая песня" – она ему самому очень нравится и своим настроением задумчивой грусти, и простой, очень ясной формой изложения. Так же, как и "Сельское эхо", "Резвушка", "Раздумье"… Вообще, наверное, он слишком мало писал для фортепьяно, этого удивительно богатого, многокрасочного инструмента. Правда, после Шопена, постигшего все его сокровенные нюансы, вряд ли скажешь свое, новое слово. Хотя Сережа Рахманинов, молодой человек с явной печатью гения на челе, как говорили в старину, наверняка сумеет это сделать: его Первый фортепьянный концерт поразил Чайковского поэтической мощью, страстным лиризмом. Рахманинову еще и двадцати нет, вот как развернется вширь да вглубь… Отрадно, что русская музыка с каждым годом завоевывает все новые и новые высоты.
Ровно в час Чайковский спускается в столовую, где в тарелке дымятся вкусные наваристые щи, пахнет рассыпчатой гречневой кашей. "Щи да каша – пища наша", – невольно вспоминается ему поговорка боткинской кухарки Ариши. Воистину не может русский человек обойтись без простой непритязательной пищи. Сколько разных деликатесов довелось отведать Чайковскому и в Париже, и в Брюсселе, и в Риме, и за океаном, а вот аромат исконной русской еды всегда возбуждает в нем богатырский аппетит.
После обеда нужно обязательно совершить моцион, то есть отмахать пешком верст пять-шесть: это и для здоровья полезно, и голова отменно работает во время такой прогулки. Бывает, выйдешь из лесу на небольшую полянку, небо блеснет над головой, и что-то такое в душе начинает твориться… Каждое пережитое ощущение рождает в нем мелодию. Конечно, далеко не всякую нужно записывать на нотную бумагу, тем более что в последние годы Чайковский особенно разборчив, придирчив к себе. Но вчера вдруг зазвучала в нем такая пленительная, свежая мелодия, что он сразу же кинулся шарить по карманам в поисках бумаги и карандаша. Записную книжку, как назло, оставил дома. Не беда – под рукой оказался счет от лавочника. Чайковский усмехается. Придется, очевидно, посвятить будущую пьесу этому Даниле Зевакину. Вот, бедняга, удивится…
От ворот отъезжает извозчик – наверняка кто-то приехал. Петр Ильич досадливо хмурится: отнюдь не все посетители приносят ему радость. Бывает, пригласишь из деликатности человека, думаешь: ну, пообедаем вместе, обменяемся свежими новостями – и укатит в Москву. Ан нет, некоторые застревают на несколько дней, засыпают неумными вопросами, источают лесть. Лесть Чайковскому особенно противна. Лести могут радоваться лишь самовлюбленные, ограниченные люди, считающие себя центром земли. Ему же это бесконечно чуждо, постыло.
Ба, да гости-то дорогие пожаловали – виолончелисты Юлиан Игнатьевич Поплавский и Анатолий Андреевич Брандуков. Последний учился у него в классе композиции. Славные люди, умные собеседники, а главное – обладают завидным тактом. С такими великое счастье скоротать за чаем осенний вечер, поиграть Моцарта либо Шумана, просто помолчать, слушая, как потрескивают в печке поленья…
– Петр Ильич, как вы считаете, в чем все-таки состоит главная цель нашего брата исполнителя? – спрашивает Поплавский, сам немного смущенный своим, как ему кажется, наивным вопросом.
Чайковский погружается в раздумье.
– Я не исполнитель, поэтому мне трудно давать какие-либо советы. Однако ж когда играют мою музыку, мне прежде всего хочется, чтобы дирижер либо солист-инструменталист прежде всего уяснил для себя скрытую мысль автора, то есть смысл музыки. Это безмерно трудно, это требует уйму знаний, таланта, наконец, особого природного чутья.
– Мне кажется, русский человек сыграет лучше свою, русскую, музыку, равно как венгр, немец, поляк – свою, – говорит сидящий возле теплой печной стенки Брандуков.
– Ну не скажите, любезный друг Толя, – решительно возражает Чайковский. – Сколько мне доводилось слышать бездарного исполнения Михаила Ивановича Глинки нашими дорогими соотечественниками, в то же время Ганс фон Бюлов, этот талантливейший немец, самым превосходнейшим образом дирижировал увертюрой к "Руслану и Людмиле", Ференц Лист, говорят, дивно играл свою обработку "Марша Черномора" и "Польского" из "Ивана Сусанина". Разумеется, хоть великие музыканты и творили для всего мира, в каждом из их произведений отразилась национальность, эпоха, однако это вовсе не представляет барьера для человека, обладающего чуткостью истинного художника.
– Между прочим, играя Шумана, я переношусь в мир особенной, возвышенной романтики. – Поплавский подходит к роялю, на котором стоят открытые ноты "Посвящения". – Честно говоря, я забываю, что он был немцем, я так близко воспринимаю к сердцу все его страдания, мечты, восторги, что диву даешься, как музыка, написанная полвека назад, не поблекла, не утеряла своей значимости.
– Вы умница, Юлиан, вам дано черпать из сокровищницы музыкальных алмазов целыми пригоршнями. Шуман, кстати, говорил, что гения может постичь лишь гений. Я не совсем согласен с этим утверждением. Ибо мир гения настолько причудлив и своеобычен, что его может отпугнуть столь же сильное своеобычие своего собрата по искусству. Мы с вами знаем многие, кажущиеся довольно курьезными высказывания Льва Николаевича Толстого по поводу Бетховена, Шопена, искусства вообще, а ведь и в них Толстой остается гениальным, то есть человеком, обладающим высшей, я бы даже сказал, крайней степенью таланта. Что, с одной стороны, позволяет ему постичь очень многое, а с другой – делает нетерпимым и категоричным к проявлению каких-либо крайностей у других…
Наутро подул сильный промозглый ветер. Петр Ильич, попив чаю, по обыкновению удалился за рабочий стол, предоставив в распоряжение гостей свою великолепную нотную и книжную библиотеку.
Собрание сочинений Моцарта, некогда подаренное Юргенсоном, занимает самое почетное место – рядом с партитурами Глинки. Современные авторы со всего света не скупятся на восторженные автографы. Брандуков и Поплавский радостно переглядываются, рассматривая испещренные разноязыкими надписями титульные листы фортепьянных концертов француза Камилла Сен-Санса, опер его соотечественников Шарля Гуно, Жюля Массне, романсов норвежца Эдварда Грига…
– Каков наш маэстро, а? – не удерживается от восторженного восклицания Брандуков. – А ведь сроду не подумаешь, что этот "скромный и добрый барин", как называет его вся без исключения прислуга в домах, где он бывает, давно и прочно завоевал своей музыкой весь просвещенный мир. Одним словом, как Юлий Цезарь: пришел, увидел, победил.
Поплавский смеется, потом, поглядев на дверь спальни, куда уединился их хозяин, прикрывает рот ладонью.
– Внесу небольшую поправку в твою цитату из античной классики: приехал, исполнил, покорил сердца. Так будет точней. Согласен?
Друзья переходят к книжному шкафу.
– Труды таких философов, как Шопенгауэр, Спенсер, Милль, мы, артисты, привыкли более уважать, чем читать. А вот наш метр, как видишь, штудировал их самым серьезным образом, – восхищенно отмечает Брандуков, листая увесистые фолианты. – Видишь, сколько пометок на полях, вопросительных знаков. Разумеется, мудрость его почерпнута не столько из книг, сколько из жизни, и тем не менее я смиренно склоняю голову перед подобной эрудицией. Нашему брату исполнителю тоже бы не мешало углубиться в высокие материи, иначе я предвижу, многое из музыки того же Чайковского останется за пределами нашего восприятия.
– Ну уж, изволь, – усмехается Поплавский. – Представь себе: вместо ежедневных упражнений на виолончели, я штудирую Шопенгауэра, который, насколько я знаю, смыслом человеческой жизни считал смерть. А вдруг он меня в этом убедит?
– Тогда возьми Пушкина, Гейне, Алексея Толстого, Лермонтова. Как видишь, в шкафу Петра Ильича они прекрасно уживаются друг с другом. Между прочим, так же, как в его музыке свет уживается с тьмою, отчаяние с надеждой. Ага, а вот и наш добрый хозяин. Вижу, Петр Ильич, вы в отличном расположении духа.
– Нет, вы только послушайте, друзья мои, что пишут мне из одного городка на юге Германии: "…просим принять участие в торжестве по случаю юбилея нашего музыкального общества и не отказать в любезности захватить с собой Антона Рубинштейна и Михаила Глинку". Каковы немцы, а? – Чайковский хохочет, откинув назад голову. – Может, им заодно еще и царя Петра Первого прихватить? Для участия в торжестве по случаю… Ладно, ладно, прихватим уж – мы, русские, народ не жадный. Вот только напьемся горячего чаю, в лесу нагуляемся – тут есть прелестный лес, до которого не более версты ходу, – купим в колониальном магазине яблочной пастилы – и в путь. Хотя нет, сперва покажу вам запасы дров на зиму, капусту, рубка которой в нашем хозяйстве производится как некое священнодействие, а уж тогда можно будет и немцев уважить…
Снова Фанни
Это было в канун нового, 1893 года. Чайковский шел тихой, заметенной снегом улицей маленького французского городка Монбельяра, внимательно вглядываясь в номера домов. В гостинице, где он остановился, ему рассказали дорогу. Сын хозяина, черноглазый смуглокожий Жан, вызвался его проводить, однако Петр Ильич, поблагодарив мальчишку и потрепав его по густой кудрявой шевелюре, отказался. Сейчас, как никогда, ему хотелось побыть одному.








