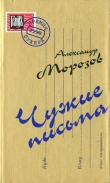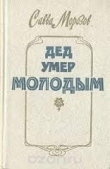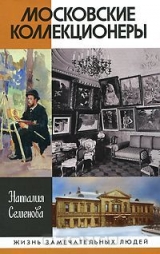
Текст книги "Московские коллекционеры"
Автор книги: Наталия Семенова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Если «никому не известный юноша Остроухов» действительно «писал со знанием дела обо всем, к чему ни обращался», то его уверенность в себе Репин явно переоценивает. Застенчивость долговязого, вдобавок сильно близорукого Илюханции доходила до анекдота, как и боязнь отправляться в лес на этюды в одиночку. Если прибавить к этому чудовищную шепелявость (Илья не выговаривал не только «р», но и все шипящие), выйдет законченный портрет классического пациента психоаналитика. Вячеслав Саввич Мамонтов, помнивший его «худым как жердь, сильно стесняющимся своего непомерно высокого роста юношей, суетливым и неловким в движениях», так и не смог поверить произошедшим с годами с Ильей Семеновичем метаморфозам. Принимавший его в Третьяковской галерее преисполненный важности и самоуверенности господин ничем не напоминал «таинственного верзилу», который, «преодолевая свою конфузливость», любил играть в четыре руки на фортепьяно с его матерью. Он расслаблялся только вдвоем с Елизаветой Григорьевной, но если во время их игры в комнате появлялся кто-либо малознакомый, «Илья Семенович моментально опускал руки и, не сдаваясь ни на какие увещевания и просьбы, решительно прекращал свое любимое занятие». Юный Илюханция приходил в смущение буквально от всего, начиная с собственного роста. Долговязая фигура на старинных групповых фотографиях Мамонтовых – обязательно Илья Семенович, с бородой, в очках; у сыновей Поленова в детской даже висела сравнительная таблица роста человека, где на силуэте великана было выведено: «Остроухов».
Стеснявшийся в молодости музицировать на людях, он обожал при этом играть в четыре руки. «Я привезу полную оперу в две руки для себя, а в четыре – для себя и тебя, и с пением – для мамы; партия Кармен ей отлично подойдет», – писал он Мише Мамонтову из Петербурга. Помимо музыки братья Мамонтовы занимались еще и рисованием, поэтому, когда к Мише с Юрой приходил учитель, Илья оставался у рояля в одиночестве. Стариком он вспоминал, что страшно ревновал и «сетовал на учителя, отнимавшего от него его друзей», мечтая лишь о том, чтобы их занятия прекратились, причем как можно скорее.
Музыка у Мамонтовых всегда была на первом месте, хотя способностями к изящным искусствам они все не были обделены. Мишин дядя Савва Иванович неплохо лепил (скульптор Матвей Антокольский находил у него талант) и вполне мог бы стать скульптором или – певцом (у него был прекрасный бас, и он начинал учиться пению в Италии). Ни на сцену, ни в академию Савва Иванович не попал, зато заработал столько денег, что смог устроить домашний театр, а потом учредить Частную оперу и сделаться ее художественным руководителем. Мария Александровна, супруга Анатолия Ивановича, до замужества была певицей и, хотя и оставила сцену, музыкой продолжала заниматься и детям прививала любовь к ней, и не только своим: в 1875 году вышло второе издание ее «Детских песен и малороссийских напевов с аккомпанементом фортепьяно» под редакцией П. И. Чайковского. Валентина Семеновна Серова будет вспоминать, что ее сын часто бывал у Анатольевичей, поскольку в Леонтьевском «культивировалась камерная музыка». Валентин Серов, вернее Антон (у Мамонтовых его иначе не звали), появился в семействе Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны десятилетним Тошей, которого вечно занятая мать-композитор часто оставляла на их попечение. «Если Остроухова можно было считать в нашем доме своим человеком, то Серов, попавший к нам в семью почти ребенком, всю свою жизнь был для нас как родной», – вспоминал Всеволод Саввич Мамонтов. С Серовым Остроухов особенно сдружится, когда, как и Миша Мамонтов, решит стать художником.
«С 22 лет я, опять-таки благодаря Анатолию Ивановичу, попробовал приобщиться к искусству живописи… В доме у нас картин почти не было. Но с самого раннего детства я любил копию с картины Неффа "Ангел молитвы" [145]145
Карл Тимолеон
(Тимофей Андреевич) (1805–1876) – русский художник эстляндского происхождения, автор «Ангела смерти» и «Ангела молитвы», написанных для Исаакиевского собора в Санкт – Петербурге. Словарь А. А Половцева писал, что «серьезные лики наших святых мало говорили уму и сердцу Неффа, и его образа были более уместны в католическом или протестантском храме, нежели в русской церкви», обвиняя Тимофея Андреевича в отсутствии «глубины выражения и стремлении к чуждым православному богослужению эффектам». Не случайно «Ангел молитвы» был скопирован на стекле и помещен в витраж Готической капеллы, домовой церкви Николая I на даче Александрия в Петергофе.
[Закрыть], висевшую в нашей гостиной, работу моего дяди Сергея Васильевича. – вспоминал Илья Семенович. – Эта прекрасная копия была первым моим впечатлением от художественного произведения и первой загадкой: каким волшебством сделано так, что воск свечи просвечивал, что омофор блестел настоящей парчой».
Мастерство живописца вновь поразит его спустя много лет: «Почти невероятно, как художник может так верно передавать природу, что его опытному глазу сразу видны не только породы молодой зелени, но он видит породу насекомых, которая роится в ней». Странный, однако, подход. Но вполне в духе естествоиспытателя – натуралист в Илье окончательно еще не умер – понять, как сделано. Остроухов восхищен не колоритом и композицией, а «удивительно верной передачей натуры» [146]146
Вспоминается В. В. Набоков, собиравший материал для книги «Бабочки в искусстве». «Старый мастер не ведал, что у различных видов – разный рисунок жилок, и не удосужился изучить строение бабочек… вне зависимости от того, сколь точна была кисть старого мастера, она не может соперничать в магии артистичности с некоторыми цветными вкладышами, нарисованными иллюстраторами научных работ девятнадцатого века» – типичный подход естествоиспытателя
[Закрыть].
Описываемая в автобиографии сцена действительно имела место: пейзаж экспонировался на VIII Передвижной выставке, которую Илья осматривал вместе с Анатолием Ивановичем, а автором его был не кто иной, как учитель рисования Миши и Юры Мамонтовых Александр Киселев, манеру которого критики впоследствии назовут «повествовательной», отметив «тщательную выписанность деталей».
«Мне шел 23-й год, когда я впервые сел за мольберт под руководством добрейшего А. А. Киселева, которого упросил дать мне несколько уроков, но по совершенно невероятной системе – без предварительных уроков рисования, а сразу начать писать маслом. Тщетно Киселев отказывался от такого учения, говоря, что не стоит зря и времени тратить. Но я настоял на своем, – это пишет сам Остроухов, хотя почему-то время от времени ведет повествование в третьем лице. – Киселев предупредил, что от этого толку никакого не будет. Велико же было его удивление, когда на первом же уроке он увидел, что Остроухов разобрался в красках, а когда через пять уроков он так хорошо скопировал пейзаж Каменева, признал в нем истинный талант и искру Божью». Летом Илья уезжает в имение к родителям, где его охватывает «настоящая горячка» и он начинает писать этюды без остановки, прямо запоем. «К осени он достиг таких успехов, что стал некоторые из своих этюдов перерабатывать в картины. Киселев доволен и предсказывает ему большое будущее».
Четырьмя– пятью уроками дело конечно же не обошлось. Автор летописи Абрамцевского кружка, биограф Киселева Элла Пастон нашла в записных книжках художника за май 1880 года запись, что ему было заплачено Остроуховым сорок рублей (из расчета десять рублей за урок); записи об оплате встречаются вплоть до осени 1881 года – так что уроков он взял не менее тридцати. Киселев дает скопировать «очаровательный этюд Поленова», а затем знакомит с самим автором. Они едут на Девичье поле. Старый барский дом с колоннами, сад, типичное тургеневское дворянское гнездо; уютная и комфортабельная мастерская.
Поленов, выхлопотавший разрешение Академии художеств прервать заграничное пенсионерство, пять лет назад возвратился в Россию. Стоящий среди громадного, спускающегося к Москве-реке сада флигель дома Олсуфьева был его вторым московским адресом. Рядом, в Теплом переулке, обосновался Илья Репин, с которым приятели еще в Париже «сговорились поселиться» в Москве. Остроухов просит одолжить любой из этюдов для копирования. «Держите, сколько хотите», – говорит Василий Дмитриевич, протягивая этюд к «Заросшему пруду».
«Картины Поленова только подзадорили давно зревшую смелую мечту – пытаться самому овладеть волшебным искусством живописи. Беспокоил только возраст: мне шел двадцать третий год (в этом возрасте Федор Васильев, "гениальный певец природы" уже ушел из жизни), – вспоминал Остроухов о своих сомнениях. – Ежегодные выставки передвижников и раньше были для меня праздниками. Мы с нетерпением ожидали их появления в Москве, и я сам был их усердным посетителем. Потом я увидел свежие, проникнутые тонким лиризмом "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Заросший пруд", "У мельницы", "Серый день" и другие "тургеневские интимные мотивы". Это было так неожиданно». Любопытный факт: первая московская квартира Поленова находилась в Трубниковском переулке, где вскоре поселится Остроухов и где проживет почти тридцать лет. Ничем больше не напоминает этот район Москву времен 80-х годов XIX века: нет ни Собачьей площадки, ни особняков, ни церквей, кроме стоящего и поныне храма Спаса Преображения на Песках, увековеченного в «Московском дворике» Поленовым, переполненным радостью возвращения на родину.
В 1924 году Остроухов написал Поленову: «В числе моих восприемников от чистой купели искусства – А. А. Киселева, П. П. Чистякова, И. Е. Репина и тебя – ты, конечно, имел наибольшее значение в деле моего художественного воспитания». При этом он всегда оговаривался, что «в прямом (общепринятом) смысле» Поленов его учителем не был, но был «воспитателем, создавшим его художественную физиономию». Начинал же свой перечень Остроухов всегда с Киселева, которого любовно называл чародеем и первым человеком в Москве.
Для нас Киселев – художник скорее второго порядка, тогда как в 1880-х его слава гремела. Изысканная красота написанных в «элегантной академической манере» заболоченных прудов, лунных ночей и залитых солнцем снежных вершин Кавказских гор имели огромный успех. Киселевскую «Заброшенную мельницу» копировал (и по сей день продолжают копировать) каждый кому не лень; его пейзажи покупали именитые коллекционеры, включая самого императора (Киселев, кстати, был из дворян, воспитывался в Петербургском кадетском корпусе, учился в университете). Семья у Александра Александровича была большой, так что приходилось зарабатывать уроками (руководителем пейзажной мастерской в Академии художеств он станет только в 1897 году). К более состоятельным ученикам мэтр приезжал на дом, но давал уроки и у себя в мастерской, адрес которой часто менялся. Педагогом он был отличным и в Москве необычайно популярным.
Киселев не сомневается, что Остроухов – «истинный талант». Его поддерживает Репин. Оба они считают, что Илья должен поступать в Академию художеств и заниматься в мастерской Петра Петровича Чистякова.
Художник одной картины
«С самого дня моего приезда на брега „царственной Невы“ собирался написать вам, Василий Иванович. Я в Академию не поступил; в этом году было до двухсот претендентов на сорок имеющихся вакансий – ну куда уж нам! С горя поступил в Школу Общества Поощрения художеств, которой очень доволен и которая взаимно довольна мною». Остроухов пишет подробные письма не только Сурикову, но и всем, кто остался в Москве, рассказывая, что рисует гипсы в музее академии и копирует маленький портрет матери Рембрандта в Эрмитаже, а дома «работает с фотографий d'apres nature» и изредка «порисовывает» с натурщика. «Город и люди здесь мне чрезвычайно нравятся. Интересу для человека, занимающегося искусством, также масса, какой я и не предполагал. Музыки здесь столько и какой! Я был уже десять раз в опере… Опера поставлена здесь так, как я ее нигде не слышал… Глинку, например, только в первый раз и слышал… Снегурочка, Вражья сила, Борис…»
Он страшно рад, что попал в Питер. И работается здесь как-то «аппетитнее», и люди в высшей степени симпатичные, особенно Шишкин – «такой он простой, теплый человек». Странно, куда девалась пресловутая остроуховская застенчивость, когда он «рискнул на авось сам представиться» Ивану Ивановичу Шишкину.
«Так вы желали поступить в Академию? Оборвались? Отлично. Это счастье… Знаете, как я смотрю на нее, на вашу Академию: это вертеп, в котором гибнет все мало-мальски талантливое… Отлично, что оборвались, очень, очень рад, я слышал о вас раньше… Вы малый путный, нрав у вас свежий (!!!) веселый (!!!!) работайте, работайте, только плюйте и плюйте на Академию! – пересказывает он Анатолию Ивановичу Мамонтову их первую встречу. – Что вам дал гипс? Бросайте его, изучайте живопись глазами… Вам уже немного остается сделать, по альбомам вижу… год-другой – и вы художник. Только поприлежней работайте… Оставьте ваш адрес, я буду заходить к вам», – ободряет Шишкин Остроухова. «Наговорил кучу любезностей», похвалил летние этюды, дал «много хороших указаний»; посоветовал писать этюды, копировать с фотографий («в одном тоне красками в большом размере») и вручил карточку дубового леса. «Одним словом, очаровал меня совсем. Что за чудесный, простой человек».
Но за всеми этими внешними восторгами нет-нет да накатывает дурное настроение. «В Петербурге оно только реже, но зато страшно, жестоко, ярко, как все впечатления, которыми живешь здесь. В эти минуты сомневаешься, не веришь в будущее, не веришь ни в себя, ни в людей… Что же это за глупый самообман!» – доверяется он в моменты полного отчаяния Марии Александровне, жене А. И. Мамонтова.
Со своим сверстником Александром Киселевым (не путать с учителем-академиком) он особенно откровенен: «Чрезвычайно сложный душевный процесс перекраивает меня всего здесь. Вы не посердитесь на меня, если я по душе скажу Вам, что им я не хочу делиться ни с Вами, ни с кем другим. Покуда не выйдет оттуда бабочка насекомого, никто не увидит процесса – но показывать его больно. Я весь ушел в работу, для которой приехал сюда, и музыка, как я ни жадно опиваюсь ею, много не мешает. Встаю в 10-ть и работаю от 11-ти до 2-х красками, больше дома, потому что в Эрмитаже и Академии очень темно… В 2 часа абсолютно нельзя работать, и я иду гулять. В Ѕ 3-го обедаю и после обеда сплю. С 4 до 7-ми я рисую в Школе три дня, и три дня дома… Часто я принимаюсь за работу в третий раз с 9 до 10 и работаю часа два. В театре я бываю в общем по два раза в неделю, иногда больше… О чем еще писать? Не рассказывать же, что три дня бился над тем, чтобы найти тон красного блика в стакане красного вина… это скучно».
Артистические профессии при всей кажущейся романтичности – упорный труд и бесконечные упражнения, день за днем: гаммы, балетный класс, мольберт… Остроухов излишне восторжен, ему хочется во всем участвовать, везде бывать. «И неужели Вы станете утверждать, что из царства мелодии и гармонии (намек на регулярные походы в концерты и оперу. – Н. С.) Вы выходите с трезвой головой для занятия рисованием геометрических фигур, или даже гипсов, или же наконец для этюда натурщика? – спрашивает Киселев-второй, начинающий сомневаться в правильности выбора Остроухова. – Не кажется ли Вам в это время школа избранной Вами профессии одной из самых тяжких, хотя и добровольных повинностей, которую надо во что бы то ни стало отбыть, чтобы в далеком, может быть, будущем добиться возможности извлекать ту же мелодию и гармонию из форм окружающей природы и жизни». (Курсив мой. – Н. С.)
Остроухов смотрит на свои занятия гораздо проще. Рисование, музеи, музыка, театр: так день за днем проходит конец зимы 1882-го и начало 1883 года. «Шишкин продолжает меня подбадривать… Я теперь в 4-м отделении 2-го класса, думаю до Москвы попасть в третий, было бы расчудесно… У Ильи Ефимовича акварельные утра прекратились, потому что темнота не позволяет работать (он почти закончил старый "Крестный ход")».
Прожив весну и лето в Москве, осенью Остроухов вновь возвращается в Петербург и поселяется в меблированных комнатах Пале-Ройяль на Пушкинской улице близ Московского вокзала (в первый приезд он жил в комнатах Лихачева у Троицкого моста). Хотя это и довольно далеко от того места, где «ежедневно приходится странствовать», но комната замечательная – просторная, светлая и чистая, да и конка под боком. «Для московских гостей в ней места довольно, и даже такие люди, как Вы, надеюсь, найдете ее комфорт пригодным», – описывает он свое новое пристанище Сергею Васильевичу Флерову, замечая, что А. И. Мамонтов и тот останавливается у него, когда по делам бывает в Питере. «Будете тратиться только на обед и завтрак, театры да извозчиков (разделим). Денька два-три мы бы побродили по Эрмитажу – сколько там хорошего, такого хорошего, что время от времени необходимо нам заглядывать туда, как верующим – в церковь, – уговаривает Остроухов Флерова, зная, что ему, пишущему о театре и музыке в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях», найдется в столице немало интересного. – Мы бы посмотрели с Вами интересную коллекцию мебели и старинных вещей у Григоровича… Нашли бы много интересного в Академии, и у Кушелева, и у Боткина [147]147
Речь идет о Художественно – промышленном музее Общества поощрения художеств, основанном в 1870 году по инициативе писателя и искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1899), ставшего его директором; галерее графа Н. А. Кушелева – Безбородко (1834–1862) – Кушелевской галерее, открывшейся в 1863 году в Академии художеств и ставшей по воле жертвователя общедоступным собранием, а также о коллекции произведений прикладного искусства академика живописи Михаила Петровича Боткина (1839–1914), помещавшейся в его особняке на Николаевской набережной и открытой по воскресеньям
[Закрыть]. Одним словом, ни одна у нас не пропала бы минута!» В молодости он все время тянется к тем, кто старше, образованнее – таким, как Флеров, Мамонтов, Третьяков. Но и старых друзей не забывает. «Представь, imagines toi, четверг: от 12 до 3-х – Эрм-Эрми-Эрми-Эрмитаж, от 3 до 5 на саночках по городу; в 5 обед, в 8 – „Карменсита“. Пятница от 10 до 4-х – Музей Академии, Постоянная выставка и художественно-промышленный музей», – зазывает он Мишеля Мамонтова.
Остроухов не лукавит, говоря, что живется ему в Петербурге по-прежнему хорошо. Все действительно замечательно, если не считать постоянной нужды в средствах. «Вы обещали мне высылать к 1 числу каждого месяца, именно 23-го числа, по 75 рублей, начиная с января и кончая 23-м апреля… В конце концов меня удивляет и огорчает Ваше отношение ко мне», – обижается он на отца. О деньгах приходится регулярно напоминать. «Если не получу перевода, то останусь здесь, связанный по рукам и ногам…», «Если денег не вышлешь, сказать определенно не могу, что я стану делать…», «Как расплатиться за стол и за квартиру и на что уехать из Петербурга?» – отправляет он письмо за письмом в контору Хотынцевского лесного хозяйства господ Полякова и Русанова.
Отец на упреки отвечает, что, несмотря на преклонный возраст, трудится, чтобы посылать сыну последние деньги, тогда как Илья, в его-то годы, сам должен был бы помогать семейству. «Илюша, отпустивши тебя в Петербург при малых моих трудовых средствах, видевши твои способности… в надежде, что они дадут тебе средство к жизни, и средство содержать мать и сестру…» Отец просит войти в его положение, научить, где взять денег, и еще напоминает про младшую сестру-невесту. Расходы старшего сына он не может одобрить: «На 75 рублей в месяц можно барином жить!» А тут еще какие-то странные письма начинают приходить. «Илья, что такое значит, что тебя разыскивают в Ельце по секретному предписанию… не познакомился ли ты с мошенниками и людьми, которые не веруют в Бога, не признают Царя, помазанника Божья, и законы его… Боже тебя избавь от таких подлых людей… Ты меня, брата и сестру своих убьешь, имя заслуженное отца, полученное за мою беспорочную ему службу, которая дала Вам высокое звание, замараешь… Это здоровье мое потрясет и имя моего рода замарает…» Опасения оказываются напрасны – в нелояльности к властям И. С. Остроухов замечен никогда не был, положение в обществе имел, и родители могли гордиться сыном, взявшим их под конец на свое иждивение. Особенно порадовался бы отец собственным похоронам, устроенным ему сыном и обошедшимся «Товариществу Боткиных» в 700 рублей: деньги были взяты из кассы официально, а поскольку Илья Семенович хранил все квитанции и счета, нам известно, что им были заказаны шесть карет по 8 рублей, три ландо по 10 рублей, три линейки по 5 рублей, садоводству Шарль Виллар на Никитской за 30 горшков гиацинтов заплачено по 30 копеек, за колоду свечей пяти церквям по пять копеек и 60 рублей в контору часовни Святого Пантелеймона, что на Афонской горе, «за вечное ежедневное упокоение о помиловании раба Божьего Симеона».
Во что же в действительности тогда оказался замешан Илья, осталось неясно, быть может, просто случайно провел вечер в сомнительной компании. Вряд ли революционные идеи могли увлечь молодого Остроухова. Он был поглощен исключительно собственными художественными успехами, тем более что его «огромное, ненасытное самолюбие» наконец-то «было польщено»: Вера Александровна, жена Чистякова, по секрету пересказала слова Петра Петровича, что тот видит в Остроухо-ве «большое сходство по таланту с одним своим учеником, теперь большим художником» (кем именно, осталось загадкой). Через мастерскую «всеобщего педагога русских художников» прошли многие отечественные классики, начиная с Репина, Поленова, Сурикова и Васнецова и кончая Серовым, Врубелем, Грабарем и Борисовым-Мусатовым. Теперь трижды в неделю, с десяти утра и до трех дня, знаменитую «чистяковскую систему» постигал Илья Семенович Остроухов.
В Петербурге он ощущал прилив бодрости и веселья, в нем даже что-то менялось внутри. Только тамошний климат не шел на пользу. «Доктор советует для наверстывания сил (имея в виду такую же работу в будущем году) уехать из Петербурга перед Святой и переселиться прямо в деревню, где постоянные молоко и свежий воздух. Перебрался бы на зеленые луга и стал бы гоняться на корте, как он советует. Мне это сделать тем удобнее, что Чистяковская мастерская закрывается в конце Страстной, а работать в деревне на чистом воздухе непосредственно с натуры и приятнее, и здоровее, и полезнее», – пишет Илья матери, волнуясь, будет ли представлять для него интерес как для художника местность, в которой сняли дачу родители. Мамашу, разумеется, подобные письма задевали: соответствовать старшему сыну становилось все труднее. «И что Вы за странности пишете вроде "необразованная", "неученая" и пр. Да разве матери дороги детям образованием, ученостью, а не тем единственным, самым дорогим, самым искренним в свете чувством (ах, маменька, маменька, какая вы иногда бываете!)», – укорял Илья Веру Ивановну.
Весной 1884 года он вернулся в Москву. Двумя долгими питерскими зимами профессиональное образование будущего художника ограничилось. Правда, спустя четыре года Остроухов вновь приедет к Чистякову и возьмет еще несколько уроков, которые очень помогут ему в работе с натуры. В Москве он продолжит заниматься самостоятельно, а в 1886 году подаст прошение о зачислении в Училище живописи, ваяния и зодчества, где проучится всего несколько месяцев. Главные его университеты – Мамонтовы, где его давно считают своим человеком и ласково зовут «Илюханция» или «Семеныч». Он то в Леонтьевском, то в Абрамцеве, где днюют и ночуют все те, кого искусствоведы потом назовут членами абрамцевского, читай – мамонтовского, кружка, начиная братьями Васнецовыми и Левитаном, кончая Врубелем, Серовым и Коровиным. С Серовым они теперь закадычные приятели. «Про вашу музыку с Остроуховым знаю, знаю, что вы с мамой играли "Кориолана", знаю, что вы порядком волновались, но все же сыграли, а Ильюша наш спрятал себя куда-то со страху, чтоб только его не засадили играть, – пишет Антон Елизавете Григорьевне, жене Саввы Ивановича, к которой был страшно привязан. – Все же кланяйтесь ему крепко от меня; он довольно часто мне вспоминается, и почти всегда начинаю улыбаться, когда припоминаю его бесконечную фигуру. Работает ли он что-нибудь упрямо и настойчиво или все только так, с налету!» (Курсив мой. – Н. С.)
Сбежать от слушателей, отказаться выступать – как это похоже на Остроухова начала 1880-х! Неудивительно, что Елизавета Григорьевна относилась к сильно комплексовавшему юноше с нескрываемой нежностью и, зная невероятную обидчивость Ильи, оберегала от шуточек и острот, которые обожали ее домашние. Их привязанность была обоюдной: они вместе музицировали, вместе изучали итальянский, вместе гуляли по лесу. Трепетный Илья Семенович отправлял ей романтические послания вроде этого: «Если в воскресенье погода опять прояснится – то длинноногий абрамцевский журавль явится немедленно встречать весну вместе с прилетевшими уже скворцами». Супруг Е. Г. Мамонтовой к Остроухову нежности не питал, однако в способностях не отказывал. «Семеныч и Елена Дмитриевна… пекут этюды как блины. Один блин у Семеныча вышел недурно, а об Елене Дмитриевне и говорить нечего – все хороши», – описывал Савва Иванович абрамцевское житье Виктору Васнецову. Елена, сестра Василия Дмитриевича Поленова, постоянный партнер по этюдам, регулярно корит Илью за то, что у него много начато, но ничего не доведено до конца. Работает он, как точно заметил Серов, все больше «с налету». Сетования Левитана, который жалуется, что «искусство такая ненасытная гидра и такая ревнивая, что берет всего человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбережений», Остроухову понятны не были. Виной всему – «лавинный» темперамент, не позволяющий сосредоточиться на чем-то одном. Этюды, впрочем, Илья Семенович пишет добросовестно – в Абрамцеве и Хотькове, в Подсолнечном и Остафьеве, пишет с упорством, выдавая по нескольку в день. Если он уж за что-то брался, то во всем пытался «дойти до самой сути». И доходил.
«При первой возможности он отправлялся куда-либо писать этюды для своих будущих картин, причем предпочитал это проделывать в компании с кем-нибудь из товарищей-художников. Боязнь его отправляться на этюды в одиночку доходила до того, что, уступая его настойчивым просьбам, молодая няня моих сестер, Акулина Петровна, иногда сопровождала его и во время работы Ильи Семеновича над этюдами даже читала ему что-либо вслух.
Зрительная память моя твердо сохранила эти две направляющиеся на этюды фигуры: впереди высоченный Ильюханция, нагруженный мольбертом, зонтом и ящиком с красками, а за ним Акулина Петровна с "Русской мыслью" под мышкой», – вспоминал Всеволод Мамонтов. Памятью об абрамцевском лете 1884 года, в которое Савва Иванович Мамонтов поставил «Черный тюрбан» (а Серов и Остроухов не только написали для него декорации, но еще и исполнили главные роли), остался акварельный портрет сидящего за мольбертом Остроухова, написанный Суриковым.
В Абрамцеве для всех хватало места. Одни бывали здесь наездами, другие жили месяцами. Компанией приезжали на этюды зимой и ранней весной, благо поезда по построенной Мамонтовыми Московско-Ярославской железной дороге ходили до станции Хотьково бесперебойно. «Ездила в Абрамцево с Е. Г. [Мамонтовой], В. М. Васнецовым, Остроуховым и Левитаном. Очень удачно… хотя на открытом воздухе работать акварелью невозможно», – записывает в феврале Елена Поленова (Левитан и Остроухов тогда шли на равных – подаренный Илье Семеновичу «Мостик. Саввинская слобода» память о тех годах). А вот ее запись, сделанная в апреле: «Семеныч работал, значит и я могла бы. Правду сказать, ужасно мне нравится, как он начал этюды. Один маленький закат, один серо-лиловый весенний вид, не кончил его… Я же… просто дышала, пропитывалась весной и деревней». И в мае: «Семеныч продолжает дурить, обижается, что я занимаюсь пустяками, а не хожу с ним на этюды».
Остроухов работает пейзаж за пейзажем, пытаясь поймать определенное настроение. Его почерк довольно легко узнать по лирически задумчивой интонации и тончайшим тональным нюансам. «Вы очень верно видите массы, да и колорит тоже хорошо видите, – похвалит его Чистяков. – Но у вас есть органический недостаток – слабость зрения. Вам следует начинать картины так, как и теперь Вы пишете, потом писать, или рассматривать в зрительную трубочку, а потом опять посмотреть простым глазом и внимательно сличить свой этюд с натурой… Вы видите природу сознательно, но сквозь сильно туманное стекло. Сознательно – это значит, что когда Вы пишете траву, то цвет ее берете не просто с вида зелени, а думаете, что это трава зеленая…»
Подмосковной природы художникам явно не хватает. Хочется солнца, синего неба, ярких красок. Остроухов с Серовым рвутся в Крым, но поездка не складывается. Серов сердится, вспоминает, что Илья не сдержал обещания и не приехал к нему зимой в Питер, и вообще у того семь пятниц на неделе. С деньгами у них по-прежнему неважно. «Дабы у меня были деньги на двух или трехнедельное житье, – мечтает Серов, – то я бросаю на время Академию и с удовольствием еду с тобой и буду не на шутку благодарен». При своей патологической застенчивости Остроухов проявляет невероятные деловые качества: через Мамонтовых достает Серову «семейный билет» на поезд и продает «Портрет молодого испанца», копию с Веласкеса, сделанную тем в Мюнхене. Откуда появились столь нужные Антону Серову пятьдесят рублей, остается загадкой, поскольку портрет Илья не продал, а оставил себе.
Столь же загадочны финансовые источники остроуховского существования вообще. Он нигде не служит, родители содержать его не готовы, богатых родственников нет. В 1886 году, к примеру, ему нечем оплатить взятые у Чистякова уроки и он вынужден просить отсрочки. Есть, правда, еще семейство Мамонтовых, но оскорбительно предполагать, что он был у них на иждивении, но столовался – точно. В таком случае остается только одно: вознаграждение от П. М. Третьякова, которому с 1885 года Илья Семенович начинает оказывать различные услуги, касающиеся галереи. Вырученные с продажи собственных картин деньги вряд ли могли стать главной статьей его бюджета. Была, правда, попытка работать в театре, но после написания декораций к любимой «Кармен» для Русской частной оперы С. И. Мамонтова стало окончательно ясно, что сценография не его стихия.
Мало кому из художников удавалось «жить профессией», вернее, чистым искусством, не занимаясь преподаванием или писанием заказных портретов. Пейзажи, хотя и пользовались спросом, тоже финансовой свободы не давали. Тем, у кого иных источников дохода не было, приходилось трудно. Очень точно хандру художника подметил в своем дневнике В. В. Переплетчиков, сделав запись о тяжелом душевном состоянии Левитана, который «живет исключительно картинами», а те «не особенно продаются» (сам Переплетчиков, помимо того что писал пейзажи, был купеческим сыном, и ему дышалось вольготней).
Выбрав путь художника, Илья Семенович оценивал собственные способности довольно критически. «Таланту у меня вообще никогда не было, ибо никто не мог мне с точностью и очевидностью для меня его показать, – признается он на пороге пятидесятилетия. – Сам я его не ощущаю, как руки свои, например, не чувствую, и даже, право, не знаю хорошо, что это такое. Если мне что нравится – я это беру, беру чтением, мыслью, игрою, живописью ли – все равно, беру несколько азартнее многих других людей, которые мне кажутся часто равнодушнее или… усталее меня». (Курсив мой. – Н. С.)
Азарт – вот что являлось основной составляющей остроуховского таланта. Как только азарт ослабевал – все заканчивалось, и так – всякий раз. «Он вечно кипел страстями… он увлекался делом художника и русским пейзажем лишь тогда, когда это было эпизодом "баталии", поднятой за русское искусство кружком Мамонтова. Он охладел к собственному делу, когда увидел, что рядом с ним оказались другие, более сильные даром живописца бойцы» – так будет считать Муратов, и большая доля истины в его размышлениях существует. Увлечение «делом художника» у Остроухова было недолгим, однако в восьми передвижных выставках он все-таки успел поучаствовать.