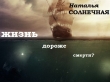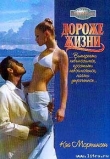Текст книги "Дороже жизни"
Автор книги: Наталия Вронская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
8
Всю дорогу домой ехали они молча. Дамы чувствовали, что хозяин не в духе и боялись слово молвить, а Обресков ждал только удобного случая для разговора с дочерью. И говорить был намерен самым строгим образом.
Только они приехали домой, как Петр Николаевич позвал дочь с собою в библиотеку и затворил двери.
Осерчав, он ходил по комнате.
– Наталья, прекрати это! Позорить и себя, и семейство наше я тебе не позволю. Нарышкин столь времени ходит, что это может вызвать уже толки. Подумай, что твоя репутация может быть загублена: у сплетников острые языки. Или отказывай ему решительно и тотчас же, или я завтра же буду говорить с ним о его намерениях, ведь неспроста он на тебя уже который месяц пялится – все глаза небось обломал. Поняла?
– Поняла, батюшка.
– И что надумала?
Девушка промолчала.
– Вот тебе, Наталья Петровна, мой совет, – остановился он перед ней. – И я прошу тебя исполнить его, для твоего же блага! Не стану говорить, сколь много я сделал для тебя, ни к чему тебе этого знать. – Наташа посмотрела на него, тотчас же догадавшись, о чем тут идет речь. – Но очень бы ты одолжила меня, сударыня, если бы приняла ухаживания Василия Федоровича и стала бы его женой.
– Откуда вы знаете, батюшка, что таковы его намерения? Может, он вовсе не оттого в наш дом ходит…
– Не оттого? А отчего же? – взорвался Петр Николаевич. – Если не оттого, так пусть больше тут не появляется и чести твоей не порочит! Но только он не так глуп, и все прекрасно понимает. И все понимают, к чему эти посещения, только ты одна чего-то косоротишься. И напрасно… Лучшего жениха тебе не найти.
– Но я не чувствую в себе сердечной склонности к нему…
– Что?! Склонность сердечная? Да о чем ты? Вам, девицам, об этом думать и вовсе не положено. Ты и слов таких знать не должна, и не вздумай никому их повторять. Молодежь нынче… Законов отцовских не чтит, обычаев не соблюдает… Я этому сопляку так все и обскажу! Не посмотрю, что он у императрицы в чести, я и сам не из последнего десятку. – Петр Николаевич помолчал. – А насчет твоей «сердечной склонности», то знаю я, куда ты клонишь. Плещеев… Род старинный, богатый… Партия подходящая, но ты уверена ли, что он с тем же к тебе, что и ты к нему, то бишь со «склонностью сердечной»?
Наташа молча опустила голову, не зная, что и сказать.
– Понятно… Ну это дело я уладить могу. По твоему слову. Сейчас же говори, с кем мне разговор вести, и днями я буду говорить с обоими.
– Плещеев, – прошептала Наташа.
– Ну дело! – воскликнул Обресков. – Наконец-то! На этой же неделе все решу. – И Петр Николаевич стремительно вышел, оставив дочь одну.
Наташа тоже все положила решить на этой неделе. На следующий же день после этого разговора отец привез в дом Плещеева и объявил его Наташиным женихом. Сговор затем состоялся по всей форме, и молодые были вполне счастливы, хотя прямого объяснения между ними и не было. Все было по старинному обычаю, по-дедовски, как велели приличия.
Наташа попросила отца позвать Семена Петровича Нарышкина. Тот было удивился этой просьбе, но удовлетворил ее.
– Странно, что ты просишь об этом. Вы будто не знакомы?
– Меня представили ему на балу. Да и вы с ним знакомы, батюшка.
– Верно. Человек он нужный, я позову и его.
Семен Петрович, прибыв, поздравил молодых а затем, найдя минутку, посмотрел на Наташу печально и сказал:
– Я был бы рад за тебя еще больше, если бы не думал о той ошибке, которую ты намереваешься совершить.
– О чем вы, Семен Петрович?
– Племянник говорил мне, что ты желаешь проверить преданность своего жениха. А уж способ этот я предчувствую.
– Вы несправедливы к Александру… – покраснела Наташа.
– Я всего лишь знаю жизнь. И знаю, что порой нельзя доверять даже себе… Послушай моего совета: хочешь быть счастливой – не открывайся никому. Молодость глупа и неосмотрительна, Наталья Петровна.
– Я поняла вас, сударь.
– Ну вот, обиделась? – Семен Петрович улыбнулся.
– Нет, – солгала она.
Нарышкин тяжело вздохнул и отошел в сторону, более ничего не говоря.
А она решила проверить…
9
Наташа готовилась к свадьбе. Сие событие должно было состояться не скоро, ибо спешка в таком деле была не в чести. Ждали будущей осени, свадебной поры, когда приличнее всего было молодым вступить в брак.
Жених почти каждый день навещал невесту. Василий Федорович, узнав о помолвке, в доме Обресковых более не являлся, но послал в подарок Наташе цветы с приличествующей случаю запискою.
Платье невесте шилось из белой парчи, шитое серебром и жемчугом. Аграфена Ильинична вся окунулась в заботы. Что платье! Приданое – вот забота. Хотя для Наташи оно собиралось уже давно, но тут оказалось, что что-то не было готова, а другого мало или вовсе нет. Дым стоял коромыслом. В Москве, конечно, было бы удобнее да сподручнее, но из Петербурга уезжать никак нельзя было: у жениха служба, у невестиного отца придворные заботы, да и неприлично это, так как свадьбою заинтересовалась сама Елизавета Петровна и даже милостиво принимала у себя жениха с невестою и дарила их подарками.
Наташа, очарованная всем произошедшим и грядущим, влюбленная и легкомысленная, решила все-таки нарушить все запреты. И теперь уже не проверять своего жениха, нет, в нем она была уверена более чем в себе… Она хотела избавиться от этой единственной тайны между ними.
И вот, во время прогулки, когда жених и невеста катались в экипаже по Невской першпективе, Наташа передала Александру все, что прочла в письме своей матери, и все, что поведал ей Семен Петрович.
Плещеев был изумлен.
– Этого не может быть, – сказал он, растерявшись. – Ты шутишь.
– Уверяю тебя, что нет. Такими вещами можно разве шутить? Ведь так легко и головы лишиться.
– Ты права…
– Ты боишься?
– Боюсь? – пробормотал Александр. – Нет… Просто это очень неожиданно. Ты – и вдруг сестрица, нет, племянница Елисаветы Петровны.
Он посмотрел на нее:
– Мне это очень странно слышать и странно думать об этом, но я не боюсь. Да и чем это может грозить?
– Как ты не понимаешь, – заволновалась Наташа, – ведь меня могут счесть лгуньей и авантюристкой, обвинить в измене государыне и посадить в острог!
– Но за что?
– Меня могут счесть заговорщицей или еще что похуже!
– Глупости, – рассмеялся жених. – Всего лишь твое воображение. Ну кто, скажи на милость, может так подумать. Да и в чем можно тебя обвинить – в словах, в простом рассказе, в правдивости которого легко можно усомниться.
– Ну как же… А самозванец, назвавшийся царевичем Димитрием, он тоже только слова говорил, никаких доказательств не имея, а какая смута была…
– Да ты никак себя с ним сравниваешь? Вот насмешила! Ты думаешь, что за тобой войска пойдут? Разве есть какие-то магнаты, что стоят за твоей спиною и ищут своей выгоды? Глупенькая! Это все фантазии! – Плещеев искренне рассмеялся.
– А Гамильтон?
– Да уж какая она была самозванка?
– Вот именно, что самозванкою она не была, а погибель свою нашла, оттого что многого возжелала.
– А ты разве желаешь многого?
– Я – нет, но ведь кто-то может обо мне такое подумать? Обещай, что рассказ мой ты сохранишь в тайне! – воскликнула она.
– Успокойся, ангел мой. – Александр взял ее за руку. – Я никому ничего не расскажу. С тобою ничего не случится, а ежели что и произойдет, то я сумею защитить тебя!
Наташа прильнула к нему и глубоко, с облегчением вздохнула. Именно этих слов ждала она от Александра. Она была счастлива.
10
– Что за странность услышал я сегодня? – Орловский крепко затянулся, поднеся ко рту большую хохляцкую люльку, предмет насмешек его товарищей по полку.
– А что за странность? – переспросил его Василий Нарышкин, старый его дружок и соратник во многих пьяных и разгульных вылазках.
Оба приятеля сидели в трактире на заставе и разнообразили свою жизнь игрою в карты, дружественно предпочитая фараона иным играм. Впрочем, игра шла довольно вяло, ибо удача побывала поровну на обеих сторонах, так что азартный интерес давно уже угас.
Итак, Орловский раскурил люльку и начал посторонний разговор.
– Один из наших офицеров тут нынче похвалялся, что женится на царской племяннице. Конечно, под большим секретом хвалился, но кричал так громко, что его слышать могли все.
– Кто такой?
– Сашка Плещеев. Только какая же племянница царская за него пойдет? – рассуждал дальше флегматичный Орловский. – Разве спьяну он это выдумал? И то сказать, что за странная фантазия?
– Плещеев? – Нарышкин посмотрел на приятеля. – Плещеев, говоришь?
– Плещеев.
– А невесту его как зовут? Он имя говорил?
– Говорил. Наталья… Кажись, дочка Обрескова Петра Николаевича. Да вот ты мне скажи, как такое может быть: ведь коли она Петра Николаевича дочка, как же она может быть в родстве с царской фамилией?
– Да глупости это все, – пробормотал Василий. – Выдумки твоего Сашки. Небось ему похвалиться вовсе нечем, так он всякое выдумывает.
– А верно! Все тихенький такой ходил, слова от него не добьешься, а тут на поди… Пришли они вместе с каким-то таким… ну… канцелярским сам-друг, уже пьяненькие, а тот канцелярский Сашке знай подливает… Да все это видели, и слышали его похвальбу все…
– Ах он дурак… – забормотал Нарышкин. – Ах, дурак… До беды доведет и себя, и ее…
– Вот это верно. Беда не беда, а на свою голову он Тайной канцелярии попробует. Шутка ли – царскую фамилию по всем углам трепать, да еще такое говорить. Да и девице этой тоже достанется. А поделом… Зачем с дураком связалась?
– Да любит она его! Любит!
– Любит? – удивился Орловский. – А ты чего так разошелся? И почему знаешь, что любит? Род у Плещеевых старый, знатный – вот и соблазнилась. Да и деньгами он не обижен… А то – любит!
– Да ты что несешь? Какие деньги?
– Это ты что несешь, Василий? Опомнись!
Но Нарышкин его уже не слушал. Он выбежал из трактира, вскочил на коня и опрометью помчался в столицу, на вечернем холоде выветривая из головы хмель и дым трактирных разговоров.
Слова Орловского не давали ему покоя.
Плещеев даже и не заметил, где заснул. Даже и не сон это был, а какое-то беспамятство. Теперь, когда он очнулся, в голове его шумело, и Александр никак не мог понять, где он. Каменные стены, низкий потолок, окно, забранное решеткой… Офицер вскочил:
– Где я?!
Он бросился к окну и схватился за решетку. Из подземелья был ему виден лишь клочок голубого неба – а более ничего. Он не мог узнать ни места, где находилась его тюрьма (ибо это была тюрьма), не увидеть ни одного человека – ничего.
– Боже! Боже… Что произошло?
Заскрипел замок, дверь открылась. Плещеев вздрогнул и обернулся.
– Выходи, – приказал ему вошедший караульный.
После небольшого коридора – низкого и темного – вошли они в помещение со сводчатым потолком. Плещеев огляделся и похолодел: по центру стояла дыба, а против нее, в специально отгороженном закутке скамьи и стол. Это был знаменитый застенок Тайной канцелярий.
Минут через пять, пока Плещеев стоял, холодея от ужаса, в закуток вошли несколько человек: двое подьячих и в богатом кафтане высокий человек. Как только вошедший повернул свое лицо к дыбе, Плещеев узнал его. Это был самый страшный человек во всей империи – Александр Иванович Шувалов. Лицо Шувалова передернулось и исказилось, как только он увидел заключенного: граф страдал нервами, и его в общем привлекательное и породистое лицо довольно часто искажал нервный пароксизм.
Вошедшие уселись за стол, подьячие разложили перья и бумагу, приготовляясь записывать. Шувалов снял свой парик, обнажив голову с коротко остриженными, черными с проседью волосами, и посмотрел на офицера. Плещеев молчал, ибо что тут можно было сказать или сделать?
Граф взял бумагу, протянутую ему одним из подьячих, и углубился в чтение. Затем медленно поднял глаза и вновь пристально посмотрел на заключенного.
– Признаешь ли ты злоумышление, противу Ее Императорского Величества, императрицы нашей Елисавет? – медленно произнес Шувалов.
– Нет, нет, – зашептал Плещеев.
– Как же, а тут вот сказано, – продолжал граф, – что ты-де злоумышлял к повреждению высочайшего здоровия, имел непочтительные о государыне отзывы, а также обо всем августейшем семействе?
– Все ложь, ложь! Не было этого.
За спиной Плещеева скрипнула дверь. Молодой человек обернулся и увидел палача, взошедшего в застенок со всеми своими инструментами, от которых мороз продрал Александра по коже: то были хомут шерстяной с долгой веревкой, кнутья и ремень для связывания ног.
Хотя и не знал всех этих подробностей несчастный арестованный, однако кровь похолодела в его жилах и трепет прошел по всему телу так, что это было заметно и постороннему взгляду.
– Запираешься, сударь? Напрасно, – медленно проговорил Шувалов. – По делу обстоятельства доказывают тебя к подозрению. Для изыскания истины в таковом случае полагается употребить пытки…
– Нет, нет, – прошептал несчастный и упал в обморок, не вынеся обвинений, а особливо лица графского, которое тот, объявляя все эти ужасные вести, поднял к нему и вдруг подмигнул ему всей левой стороною его.
Меж тем палач выплеснул на заключенного ушат ледяной воды, для этого специально стоявший у дверей. Плещеев пришел в себя, его подняли и поддерживали с обеих сторон, чтобы не завалился он снова, палач и его подручный.
Шувалов, молча поглядывая на офицера, думал о том, что этот человек так слаб и, быть может, не пыткой, а чем другим, например, уговором тут вернее будет подействовать. По крайности – для начала.
– Посадите его, – велел Шувалов.
Плещеева ловко усадили на скамью, напротив Шувалова.
Скажи мне, ибо честный твой ответ избавит тебя от многих мучений, что за слова ты говорил будто бы о том, – тут граф глянул в бумагу, которую ему подали в самом начале, – что невеста твоя – царская племянница? Ведь говорил?
– Говорил, говорил, – забормотал Плещеев.
– Зачем ты это выдумал? – резко спросил Шувалов.
– Я не выдумывал… Это она, ее слова…
– Чьи слова?
– Наташины…
– Кто она?
– Дочь Обрескова Петра Николаевича…
– Как же ты поверил этим словам, если знаешь, кто ее родители?
– Они ей не родители… Она приемная у них дочь…
Шувалов замолчал. Мальчишка, испугавшись, похоже, говорил правду… Однако с его слов графу померещилось…
– Чья же она дочь? Что она говорила тебе?
– Что она дочь… Нет, внучка царевны Натальи Алексеевны…
– Та-ак! – Шувалов вроде бы даже обрадовался от подобного сообщения.
– Значит, она утверждала, что является особою царской крови?
– Да.
– А чего она хотела от тебя?
– Ничего…
Плещеев был окончательно раздавлен. Сначала он не понимал сути вопросов и своих ответов, но теперь, припомнив все опасения Наташи, медленно прозревал. Он начинал понимать, к чему ведут все эти вопросы и могут привести его ответы.
– А не было ли у означенной девицы Обресковой каких умышлений?
– Каких… Каких умышлений?
– Противу власти? Противу Ее Величества?
– Нет, не было…
– Не было? А заговор вы разве не составляли, дабы императрицу свергнуть, а оную девицу на престол усадить?
– Нет… Нет! – крикнул Александр. – Не было этого! Да как это возможно, у нее права такого нет!
– Верно, права нет… А умысел был, – продолжал граф. – Сознайся чистосердечно, и тебе выйдет послабление.
– Нет, нет! Не было этого!
Шувалов сделал знак палачу и тот потащил молодого человека к дыбе.
«Я стерплю, я стерплю», – твердил себе Александр, но когда его во второй раз подняли над полом и он услышал хруст своих суставов, которые выворотило совсем назад, Плещеев не выдержал.
– Было, было, – захрипел он.
– Пишите, – указал Шувалов.
Плещеев указал и заговор, и злоумышление, когда после третьего раза отлили его ледяной водой.
По законам положено было пытать всего три раза, но ежели заключенный речи переменял, то пытки должно было употреблять до тех пор, пока с трех пыток одинаково не скажет.
Плещеева вынесли без чувств из пыточной камеры.
И караульных послали в дом Обресковых, за Натальей Петровной…
11
Когда солдаты пришли за Наташей, в доме поднялся страшный переполох, Аграфена Ильинична не вынесла, сомлела, и дворня носилась вокруг нее. Петра Николаевича дома не было, объяснить и защитить женщин некому было.
Наташа держала себя в руках: только яркий румянец, а затем сменившая его бледность выдавали ее состояние. Ей позволили только накинуть верхнее платье и не медля увезли из дому.
В карете она, все-таки не выдержав, потеряла сознание и очнулась уже на соломенной подстилке в камере.
Тут у нее была возможность поразмыслить обо всем произошедшем. Холод и сырость пробирали ее до костей, она стала дрожать и услышала, как ее собственные зубы стали выбивать дробь. Она поднялась с пола и пересела на низенькую лавку, стоявшую у стены.
И вот только туг Наташа испугалась по-настоящему, хотя она только предполагала причину своего заключения, но пока не могла быть ни в чем уверенной.
Через некоторое время, которое показалось ей вечностью, дверь отворилась, и в ее камеру взошел караульный, неся с собою низкий табурет. В Наташе проснулась робкая надежда, что сейчас все объяснится и, быть может, это страшное происшествие рассеется как дым.
Караульный меж тем вышел, и вошел мужчина в богатом камзоле и парике, со странно дергавшимся лицом. Он уселся на табурет и пристально взглянул на девушку.
– Догадываетесь ли вы, сударыня, о месте вашего пребывания? – медленно проговорил он.
– Нет, – только и имела силы ответить Наташа.
– Тайная канцелярия… А я – граф Шувалов…
Наташа вспомнила, что говорили при дворе об этом человеке, не знавшем ни к кому жалости, и теперь просто умирала от страха, вглядываясь в странное лицо Шувалова.
– Зачем я здесь? – пробормотала девушка.
Шувалов усмехнулся.
– Ты, что ли, подговаривала Плещеева занять трон? – неожиданно спросил он.
– Я? Трон? Это неправда…
– А он говорил, что ты… Что будто ты – царская племянница и хотела занять принадлежащее тебе якобы по праву место… Это было?
– Нет, нет… Я не говорила этого…
– Значит, все неправда… Плещеев говорил, что есть у тебя некие доказательства твоей причастности к царскому роду.
Наташа замерла. Вот о чем ее предупреждали и мать, и Нарышкины. Вот теперь она поплатится за все: за глупость свою, за доверчивость. Но как мог Александр все это рассказать? Он же клялся сохранить все в тайне.
– Такие вещи, – внезапно произнес Шувалов, – держатся в тайне. Любовник твой в хмельной компании хвастал, что роднится с царской фамилией. А тут, под пытками, доложил то, о чем умолчал ранее…
– Под пытками…
Строки из письма матери так страшно материализовались и вступили в жизнь, как пророчества. Теперь и ее ждала страшная участь.
– Да, под пытками люди становятся ох как разговорчивы… Но ты не бойся, пока я пришел только поговорить с тобой. В комнате твоей произведен был обыск и найдены некие бумаги, которые говорят…
Шувалов вгляделся в бледное лицо собеседницы.
– …Которые говорят о твоем происхождении. Если это ложь, то за такую ложь положено отвечать… Ежели правда, то и за это придется ответить. Сложное дело, – прибавил он. – Решать его будут те, до кого оно напрямую касается.
Граф поднялся.
– Пока ты, сударыня, будешь находиться здесь, а дело твое будет разбираться… Да, разбираться… И не мною…
Он отвернулся, не дожидаясь никакого ответа, и медленно вышел из камеры. Караульный зашел и вынес табурет.
Наташа медленно сползла на пол и заплакала.
12
Петр Николаевич, вернувшись домой, застал домочадцев в ужасном состоянии. Аграфена Ильинична уже опамятовалась и теперь дала волю неудержимым слезам. Дворня, женская ее часть, рыдала, как и хозяйка, мужская половина была совершенно обескуражена такой женской слабостью и также пребывала в ничегонеделанье.
Петр Николаевич с трудом добился от жены объяснений, но ничего не понял. Он уяснил только, что дочь его увезли двое солдат и офицер, что увезли ее в Тайную канцелярию (при этих словах Аграфена Ильинична страшно побледнела и чуть было вновь не лишилась чувств) и что теперь совершенно неизвестно, что с нею будет.
Обресков оставил жену, ушел в свой кабинет и там, в тишине, крепко задумался. Ситуация была странной и опасной. Чем такое происшествие могло грозить Наташе, а следом и всей семье было ясно, как Божий день. И это повергало его в страшное смятение. С другой стороны, при дворе уже бывало такое, когда какую-либо из дам или девиц забирали в Тайную канцелярию, но происходило эта только из-за их длинного языка и короткого ума, и оканчивалось обычно хорошим внушением от Шувалова, но не наносило вреда ни здоровью, ни семейству оной дамы или девицы.
О Наташе что-то подобное трудно было подумать: она мало бывала при дворе, а когда бывала, вызывала неизменно милость императрицы. Так что же могло произойти? И как это выяснить, к кому обратиться, чтобы не причинить еще большего вреда ни дочери, ни себе?
В дверь постучали.
– Кто там? – Обресков был раздражен неожиданной помехой его мыслям.
– Барин, там господин Нарышкин пожаловали, Василий Федорович, – доложил слуга.
– Да что еще? Что ему нужно?
– Петр Николаевич, простите за своевольство…
Оказывается, Нарышкин уже поднялся и стоял в дверях его кабинета.
Обресков нахмурился: такое самовольство было большой дерзостью.
– Я слышал от прислуги, что произошло, – начал молодой человек.
Петр Николаевич отвернулся к окну и резко спросил:
– А вам-то что до этого за дело?
– Я… Я люблю Наталью Петровну. И ее положение… Вы не можете не понимать, как оно волнует меня!
– Любите… Что теперь можно сделать? Чем может помочь ваша любовь? – Обресков был совершенно подавлен.
– Вы знаете, я в дружбе с Иваном Шуваловым, а он ныне в фаворе…
– Да, и что?
– Я могу через него все узнать…
Обресков повернулся к гостю.
– Дельная мысль, Василий Федорович. А вы не боитесь навлечь, на себя гнев Ее Императорского Величества?
– Нет, не боюсь, – спокойно ответил Нарышкин.
Петр Николаевич посмотрел на него и, помедлив, сказал:
– Я был бы вам очень благодарен, ежели б вы узнали о том, что произошло с Наташей… И что теперь будет со всей нашей семьей. Я не знаю, что могло случиться… Не знаю…
– Стало быть, вы позволяете мне действовать в этом деле от своего имени?
– Да. И я буду вам только благодарен.
На том мужчины расстались, пожав друг другу руки, и Василий Федорович, который места себе не находил с того момента, как узнал о неуместной болтливости Плещеева и последовавшим затем аресте Наташи, обрел наконец цель, а вместе с нею и спокойствие.