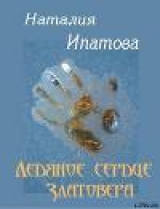
Текст книги "Ледяное сердце Златовера"
Автор книги: Наталия Ипатова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Глава 7. Тот самый Джек
Безумно утомленные ночной гонкой и совершенно обессиленные страхами, нахлынувшими опосля, что, кстати, говорят, отличает действительно храбрых людей, мы выбрались, наконец, из леса, и к полудню набрели на первое жилое место. Увидев ферму, над которой в прозрачном осеннем небе плыл и таял сизый дымок, мы согласились, что наши лошади, да и мы сами нуждаемся в отдыхе и расслаблении. Кроме того, рассудил Звенигор, имело смысл предупредить хозяев, что хотя и не под самым их боком, но все же в неприятной близости завелось опасное соседство.
На холм, где раскинулась ферма, бежала утоптанная тропинка, кое-где отмеченная недавно проходившей коровой. Сверху, со двора доносился размеренный стук топора. Пахло свежими опилками, иногда резко взвизгивала пила. Когда мы поднялись к воротам, то через плетень разглядели бродящих по двору гусей и кур, а среди них – розовощекого господинчика без штанов, лет трех от роду. Еще во дворе виднелись круглый колодец с высоким каменным кольцом бортика и пять гигантских пней под самым окном. Рядом с самой фермой, небольшой и довольно-таки ветхой, стоял новый сруб из золотистых лиственничных бревен. Сборка была в самом разгаре, прерванная для минутного перекура, последнее бревно одним из концов еще упиралось в землю, другой уже поднят был на верхний край, где-то на уровень человеческого роста. Здесь еще много предстояло работы. Двое работников пилили на доски другое бревно, укрепленное в высоких козлах. В очертаниях сруба уже вполне определенно просматривалась будущая планировка нового дома.
Несмотря на усталость и голод, я никак не мог оторвать глаз от картины строительства: я имею к этому делу генетическую привязанность. Человек строил дом для себя и семьи, для сына, исследующего двор в компании сосредоточенных кур, для хозяйки, чье присутствие угадывалось по горшкам, заботливо развешенным для просушки на кольях плетня, по ярко вышитым занавесочкам. Старый дом глядел на мир тщательно промытыми окнами. И вот этому-то апофеозу мирного существования угрожает какая-то заведшаяся в здешних краях нечисть.
– Дальняя была дорога, ребятки? – окликнули нас из-за овина, и, повернув головы, мы встретились глазами с хозяином, выходившим навстречу.
Это был мужчина лет этак за сорок, может, даже ближе к пятидесяти, высокий и крепкий, как лиственничная плашка, в белой, но грязной сорочке, с загорелой грудью, поросшей черным волосом, видимой в распахнутом вороте. Потертые до блеска рабочие штаны поддерживались подтяжками, черные с проседью кудри были припорошены опилками, и что-то имелось в нем такое неуловимое, отчего мы сразу поняли, что перед нами – хозяин. Был он, как ни странно, тщательно выбрит, и хотя над глазами нависали косматые черные брови, глаза под теми бровями блестели приветливо, и взгляд у него, в общем, был добродушный. А еще у него был сломанный нос.
– Дальняя, – согласился Звенигор, – но главная даль впереди еще. Два дела у нас к вам, хозяин.
– Слушаю.
Хозяин подошел ближе и со своей стороны оперся о плетень.
– Во-первых, не позволите ли нам заночевать на вашем сеновале? Мы больше суток в пути.
– В доме есть место, – пожал плечами хозяин. – Я добрым гостям рад, а дурные пускай поберегутся.
– Дурные ли гости те, кто приносит дурные вести?
Хозяин смерил нас пристальным взглядом.
– У вас такой вид, будто вы бегом бежали всю ночь. От дурных вестей? Заводите коней во двор, не то они сию минуту издохнут, а о прочем поговорим после обеда. Эй, – он обернулся к дому, – Веселина, Фиорика, у нас двое гостей к обеду! Кстати, меня зовут Джек.
Когда лошади получили все свои лошадиные удовольствия, и мы со Звенигором смыли, наконец, дорожную и «прочую» пыль достаточным количеством горячей воды, причем, я заметил, саламандр тяготел к крутому кипятку, пришло время стола. Девочки-погодки, дочери Джека, сновали вокруг, словно две проворные пташки, и ах, какие это были девочки! Ясноглазые, в отца, но светлые, с кожей темнее волос, старшей – лет пятнадцать, при гостях молчаливые, но, видно, хохотуньи, с тонкими смуглыми руками и высокими шейками. Я немедленно окрестил их «танцующими сережками». Джек-младший сидел на высоком стульчике, чинно повязанный слюнявчиком, и важно ожидал свою кашу. Когда переодевшийся и умывшийся хозяин занял свое законное место во главе стола, из печи как по волшебству возникли: пирог с курятиной, грибная лапша, карп в пиве, сырники с повидлом, а также яблочный сидр – не из печи, а из кувшина! – и медовые пряники… да и много чего было там еще. Все это запивалось коварным молодым вином, и здесь, под кровом Джека, мучительно не хотелось не только говорить, но даже вспоминать о страхах прошедшей ночи. Как можно напугать этих веселых девочек? Джек тут же вышвырнет нас за порог, и будет прав. Или скажет: полторы, мол, сотни лет не было ни слуху, ни духу, авось да обойдется.
После обеда, когда посуда со стола была убрана, и девочки, прихватив поперек живота братика, исчезли из столовой, уже в дверях сдержанно хихикая, Джек предложил на выбор: отправиться отдыхать или обсудить дурные новости. Я валился с ног, но Звенигор предпочел решить дело разом, и нам пришлось заново пережить в воспоминаниях прошедшую ночь.
Но то ли рассказчики вышли из нас никуда не годные, то ли была на это иная причина, но только наш рассказ не произвел на Джека столь уж гнетущего впечатления. Он не перепугался и не отмахнулся, хотя вроде бы вот уж кто на самом деле по горло занят собственным обустройством. Он насупился, сжав на столе большие кулаки, и его льдистые глаза поблескивали из-под бровей. Он сердился, но не на нас, и я, кажется, впервые подумал, что мое Могущество – еще не самый большой дар, каким может быть благословлен человек. На фоне Джека сами себе мы показались всего лишь перепуганными мальчишками. Впрочем, это я сам себе таким показался, а Звенигор, надо сказать, никогда и не выглядел особенно испуганным. Ну что ж, геройское дело нехитрое!
– Места здесь не очень людные, – сказал я, будто извиняясь, как только Звенигор, ведший весь рассказ, замолчал. – Мы подумали, что, может быть, ближайшие жители объединятся и как-нибудь эту дрянь повыведут.
Джек угрюмо усмехнулся.
– Кто у нас из знакомых крупнейший магоборец?
– Конан… – предположительно заикнулся я.
Хозяин фыркнул.
– Никогда не доверю жизнь человеку, у которого в переделках столько друзей погибло. Спасал только баб да добро.
Он обвел глазами комнату, задержавшись взглядом на двери, из которой только что выскользнули дети, на собственноручно сплетенном из лозы стульчике сына. Здесь все дышало трудом и любовью, и чувство это напомнило мне Тримальхиар. Хотя… повзрослев, я научился различать окутавшую мой собственный дом пелену неизбывной печали и одиночества. Здешнее Добро было яростнее, открытее и проще.
– Грубияну и невежде Конану этого не понять, – вполголоса сказал Джек. – Я для них все вот это делаю. Может, кто-то и способен осчастливить все человечество разом, народы, толпы, города… Я сверх своих сил не замахиваюсь. Я для них строюсь, ну, и для себя.
Мне и такой славы достаточно, чтобы люди, проходя мимо, говорили:
«Да, вот дом, который…» А, ладно. Ты вот что мне скажи, – вновь обернулся он к Звенигору, – тот лес, говоришь, вроде как кружит, так что на нужное место только к ночи и выйдешь?
– Я по дороге зарубки делал, – сказал саламандр, и я вытаращился на него. Когда он успевал? – Если выйти до света, туда можно добраться раньше, чем стемнеет.
Он сделал над собой видимое усилие.
– Я, пожалуй, пошел бы с вами.
Джек некоторое время с интересом рассматривал его.
– А я б тебя взял, – наконец проронил он. – Вот только…
Звенигор норовисто вскинул голову, Джек засмеялся и примирительно хлопнул его по руке.
– У тебя вид парня, которому нельзя рисковать. Что от тебя зависит?
Ей-богу, этот дурень саламандр, кажется, обиделся!
– Жизнь отца.
– Разговор кончен. Я тебя не беру.
Я переводил взгляд с одного на другого. Два героя за одним столом! Спешите видеть, только сейчас, только для вас и только один раз!
– А я? – робко спросил я. – Вы тут о магоборцах говорили… Я смыслю в этом… немного.
– Артур Клайгель – потомственный волшебник, – пояснил Звенигор для Джека, и когда хозяин повернул ко мне голову, его глаза смеялись.
– Ну, а тебя-то не возьму и подавно. Хватит на мою голову одиннадцати чародеев. Моя-то шкура толстая, а вот для тебя эти штучки могут оказаться действительно опасными. И что я тогда скажу твоей маме?
Я, кажется, покраснел, но нельзя сказать, чтобы не остался Джеку благодарен.
– Я бы рекомендовал их сжечь, – сказал Звенигор. – Арти говорит, размыкать Круг нельзя. А вот добраться туда, пустить стрелу с горящей паклей и, не оборачиваясь, удирать… Там все вспыхнет в момент, они в самый раз высохли. И, думаю, то зеркальце против хорошего огня тоже не устоит.
– Про огонь Звенигору лучше знать, – добавил я, – но когда Круг выгорит и разомкнется, там так рванет…
Джек поднялся из-за стола, тяжело опираясь на него ладонями.
– Ну вот и договорились. Мое это будет дело, ребятишки. Теперь живо отправляйтесь спать, вы на ногах еле держитесь, да и меня работа ждет. Вечером поужинаем, а подниму я вас до света, и распрощаемся: вам налево, мне – направо.
Нам постелили на чердаке, переделанном под мансарду, и оба мы, измученные утомительным Приключением, моментально утонули в хрусткой белизне накрахмаленных простыней.
* * *
Этот дом навевал чудные сны. Сквозь дремоту я слышал, как топчутся на крыше птицы, как пересмеиваются внизу «танцующие сережки», как издалека доносится упорный стук топора. Все эти звуки накатывали на меня с размеренностью океанских волн, какое-то время баюкали меня на себе, а потом вновь опускали в глубины сна, в котором давешний кошмар никак не давал о себе знать. Должно быть, Джек и в самом деле взял его на себя.
Потом, когда крепость сна ослабла в очередной раз, новая, неведомая, на этот раз действительно музыкальная тема подхватила мое мерцающее сознание и повлекла за собой, и были в ней редкие нежность и сладость, успокаивающие растревоженную душу и утишающие горести потерь. Я лежал и думал, откуда это может быть здесь, на этой ферме, и не звучит ли эта мелодия во мне самом, и, может быть, отчасти это и в самом деле было так, ибо мелодия вкрадывалась в сознание и поселялась там навеки, становясь частью тебя. Хмельнее любого вина была она, и притягательнее любого наркотика. Когда она кончалась, я чувствовал себя так, будто был выброшен в одиночку на пустынный песчаный берег.
Я открыл глаза. Солнце касалось горизонта своим нижним краем, его свет просачивался в маленькое окошко, окрашивая розовым белые простыни. Звенигор спал, зарывшись головой в подушку и судорожно стиснув в кулаке ее угол, похожий в таком смятом виде на поросячье ухо. Ему, должно быть, снилось нечто, не столь приятное, и я предположил, что душа у саламандра дубленая, вроде бычьей шкуры. А музыка не стихала, и была она столь же прекрасна, как в сонной грезе. И доносилась она снизу, из той комнаты, где прежде мы с семьей Джека обедали.
Я встал, оделся и потихоньку спустился вниз. Я был еще на лестнице, когда увидел Джека, сидящего вполоборота ко мне, в кресле, со стопочкой давешнего вина. Закатное солнце потоком лилось в распахнутое окно, а в дальних углах сгустились тени. Джек был один, а на столе, накрытом вышитой скатертью, стояла золотая арфа, волшебным образом игравшая сама по себе. Джек смотрел в окно на расстилающийся перед домом простор, и видимая часть его щеки была влажной. Когда арфа закончила свою тему, и последний хрустальный аккорд, томительно долго висевший в воздухе, растаял без следа, хозяин тихо молвил:
– Пой, арфа! Пой еще!
И началась новая мелодия, еще краше прежней, еще более колдовская, Джек пригубил свою стопочку… и заметил меня.
– Проходи, – сказал он, – и садись. Эта штука осталась у меня еще с того дела с бобовыми стеблями.
Как знакома была мне эта безмолвная вечерняя печаль. Слишком часто я видел ее в Тримальхиаре.
– Недавно жену потеряли? – спросил я.
– Да, почти сразу после рождения малыша.
Он непроизвольно коснулся своего искалеченного носа.
– И что вообще потянуло нас тогда на эту горку? Как она кричала, когда падала, моя Джил, – он содрогнулся всем большим телом. – А я все тыкался во тьме, пытаясь найти ее и подать руку. Была буря, и этот чертов нос… Иногда я думаю, что вся эта история с крутой горкой была подстроена, и вот тогда-то мне хуже всего. Не знаю, сохранил бы я рассудок, если бы не эта певунья на столе. Что было бы с детьми, если бы я тогда спятил? Никогда бы не взялся я за этот дом.
Он потер лицо руками.
– А может, и взялся бы, – жестко опроверг он себя. – Она всего лишь штука, хоть и волшебная донельзя. Не ради нее живу. Для великана, у которого я ее, извиняюсь, спер, она была в жизни всем. И как он кончил? Он бы пришиб меня, если бы догнал. Знаю, что ты скажешь, мне, мол, она неправедно досталась. Но почему, почему я должен был потерять именно Джил?
Он помолчал.
– Нет, все-таки какая-то дурная закономерность здесь есть, – убежденно заключил он.
Дети – жестокий народ. Тот, кто придумал считалочку про то, как «пошли на горку Джек и Джил» наверняка и помыслить не мог, что где-то она обернется трагедией.
– С ума сойти, – сказал я, – тот самый Джек с бобовым стеблем. Хрестоматийная личность. Мне всегда безумно хотелось узнать, как дальше сложилась ваша жизнь. Говорили, – добавил я осторожно, – что вы женились на принцессе?
– Да она была стократ лучше! – наконец улыбнулся Джек. – У нее тоже была эта тяга к опасным Приключениям, а в передышках она становилась такой замечательной хозяйкой, что лучше и нет! Мы и вправду были парой.
Он снова улыбнулся, но промолчал, и я догадался, что сейчас он вспомнил то, что касалось только их двоих, его и погибшей Джил.
– Ты не думай дурного, – продолжил Джек. – Певунья моя – не для забвения. Я бы в тот же миг вышвырнул ее прочь, если бы она настраивала меня забыть мою Джил. Нет, она лечит не забвением. Она не позволила мне возненавидеть Джил за боль, которую причинила мне ее потеря, за все хлопоты, что в одночасье обрушились на меня. Она будит все самые добрые и светлые воспоминания, и лечит не память, а душу. Просто вроде бы поднимаешь голову на ее зов, и вдруг видишь глаза своих детей, свое хозяйство… да и вообще весь мир вокруг. И теперь я ценю это больше, чем тогда.
– Сказку-то вам, – заметил я, – рановато заканчивать. Будет еще дом, который построил Джек, да и мало ли… Кто может знать?
– Ты прямо как арфа, паренек.
– Да, я привык утешать. Джек, послушайте, мне тут одна мысль пришла в голову. Приезжайте-ка вы с детьми к нам в Тримальхиар. Правда, приезжайте, девочки порадуются, там есть на что посмотреть. Одни жар-птицы чего стоят! Ведь вы же никогда не были в Тримальхиаре?
– Не был. Я все больше по сельской местности. А что? Построю дом, так, может, и соберусь.
– Ну вот и договорились, – радостно заключил я, мельком глянув на давно уже смолкнувшую и позабытую за беседой арфу. Солнце село, пора бы было и поужинать, и я пришел в расчудеснейшее расположение духа, и улыбался до тех пор, пока «танцующие сережки» не зажгли в доме масляные лампы. Мысль, пришедшая мне в голову, простиралась чуточку глубже, чем простая демонстрация приезжим красот Тримальхиара. Мне казалось, Джеку есть о чем поговорить с моей матерью.
Глава 8. Мастер Ковач
На блекло-сером рассвете мы вместе с хозяином вышли за ворота и там простились: Джек с луком через плечо и полным колчаном стрел за спиной скорым шагом направился к лесу, а мы повернули на север. Мы долго ехали в напряженном молчании, и не знаю, как Звен, а я думал о том, как там у Джека пойдут дела. Я, честно говоря, чувствовал себя очень неловко. У нас была несомненная причина не связываться с этим делом, мы не могли сами истребить Круг, когда вышли на него в первый раз, потому что дело было ночью, и близился час его наибольшей силы. Совет Звенигора – поджечь и бежать что есть мочи – в кромешной тьме был бы лучшей рекомендацией для самоубийц. Да и Джек по-своему был прав, предпочитая, чтобы мы не путались у него под ногами, ведь он обладал несравненно большим опытом. Но Джек к тому же был отцом троих детей, мысль о которых долго не давала мне покоя. Что, если ветеран поизносился и где-нибудь даст маху?
День вставал жаркий, давно не было дождя, засевшие в придорожной канаве цикады обстреливали нас трелями своих метких комментариев. Дорога извивалась среди лугов, и мелкие деревушки, встречавшиеся на пути, мы миновали без задержки.
Звенигор натянул поводья, когда из-за очередного поворота возникла покосившаяся кузня. «Мастер-оружейник Ковач», – гласила вывеска для тех, кто умел читать, ну а для тех, кто не умел, над входом были укреплены перекрещенные меч и алебарда. Сам Мастер Ковач сидел на пороге с трубкой в зубах, и весь его облик резко контрастировал с солнечной округой.
Кожа его была характерного коричневого цвета с ярко выраженным синевато-сизым отливом, по которому кузнеца опознают сразу, даже если он одет в гражданское, чисто вымыт и находится вдали от своего рабочего места. Секрет прост: поры кожи раскрываются от жара, пот, смешанный с копотью, глубоко проникает в них и остается навечно.
Кузнец был человеком, что само по себе удивляло и внушало к нему уважение: не так-то просто на этом поприще выдержать конкуренцию с гномами. На нас, праздных путников, он взглянул с нескрываемой насмешливой неприязнью.
– Господа желают лошадь подковать?
Звенигор покачал головой и спрыгнул наземь. Мне стало безумно интересно, что на этот раз учудит мой молчаливый друг.
– Нет ли у вас меча на продажу, Мастер? – спросил саламандр.
Мне видно было, как судорога горечи исказила лицо Ковача.
– Нет, – отрывисто сказал он. – Не будет.
Звенигор выразительно глянул на вывеску.
– А что так?
– У меня подмастерье сбежал! – с каким-то извращенным удовольствием старого человека сообщил Мастер Ковач. – Мол, нет ему радости век коротать в кузне на пыльной дороге, вдали от большого города. Подался в ученики к чародею. Да разве ж я, – развел он огромными руками, испятнанными синими шрамами ожогов, – не чародей? И я мог бы жить в городе, и все бы меня знали, и кланялись бы… Чай, мои-то мечи гномских не хуже, да только ведь истинное искусство не терпит суеты, оно всегда навроде отшельничества. Это ж вам не лемех и не подкова, в одиночку не управишься, тут особая тонкость нужна, чуть упустил – все испортил. Ко мне за мечами издалека приезжали. А кому лемех понадобится посреди дороги? Подкова разве, или ось у телеги поломается, починю. Такая вот у меня сейчас получается профанация мастерства. А может, ты, – сказал он с прежней угрюмой усмешкой, – встанешь к горну?
– Встану, – коротко ответил ему Звенигор.
Ковач лениво пошевелил косматой бровью.
– Так ведь там господиниться не будем. И не обессудь, если придется на тебя прикрикнуть.
– Согласен.
Ковач поднялся, связал кожаной тесьмой сзади свою седую гриву, снял с гвоздя кожаный фартук, надел его и, пригнувшись, протиснулся в узкую дверь своей кузни. Звенигор разделся до пояса и последовал за ним, бессознательно копируя его неторопливую повадку. Я тоже спешился, подошел к дверям и заглянул внутрь.
Сначала я ничего не мог сказать о внутреннем устройстве кузни, кроме того, что там было темно, и моя тень, протянувшаяся с порога, ничуть не способствовала улучшению освещенности. Потом, когда кузнец раздул горн, огненные блики заплясали по стенам, и я смог разглядеть все, что находилось там внутри: бункер для угля, гору железного лома, полку с инструментом, гигантскую чашу горна, треугольный, гармошкой сложенный мех, похожий на крыло очень большой летучей мыши, наковальню, сильно смахивающую на чудовищный утюг, перевернутый подошвой вверх и в таком положении закрепленный. Тут же, у стены, виднелся бортик колодца, вырытого прямо здесь, чтобы не бегать далеко, когда приходило время закаливать сталь. Все покрывала вековая копоть, вернейшая спутница профессии, и ничего здесь не было от чистоты и уюта, от всюду разлитой душевной теплоты дома Джека, столь милой моему сердцу. Впрочем, температурная теплота присутствовала здесь в избытке, и я заподозрил, что приобретение меча было для Звенигора лишь предлогом, а на самом деле он сюда сунулся за душевным отдохновением. Ну, в самом деле, если нет поблизости ни одного вулкана, где еще саламандру оттянуться?
Мастер пристально рассматривал своего с неба свалившегося заказчика и подручного, чья макушка, замечу, едва доставала до его подбородка. Звенигор был в самый раз крепок и мускулист, в самый раз почтителен, и в то же время дерзок, и тут Ковач решительно ни к чему не смог придраться.
– Ты, господин, хоть маленькое представление имеешь о горне и наковальне?
– Маленькое – имею.
– Тогда так. Я буду ковать, а ты – держать болванку, и поворачивать, когда скажу. Я буду командовать, а ты – исполнять. Быстро исполнять, понятно?
Ядовитые шпильки кузнеца, все как одна, наталкивались на прочную броню самообладания саламандра, который, видимо, на своем веку от папочки еще и не такого наслушался, и Мастер убедился, наконец, что ему нечем перебить блажь благородного господина. На меня же он вообще ни разу не взглянул, как будто меня и вовсе здесь не было.
Болванка в горне уже отливала красным, запах газов, выделявшихся при горении угля, щекотал мне ноздри, но я не рискнул прибегнуть здесь к защитной магии, мне это показалось неэтичным по отношению к кузнецу. Ковач вооружился тяжелым молотом и кивнул Звенигору на горн:
– Фартук и варежки на полке возьмешь, господин помощник. А когда станет невмоготу, скажешь.
Звенигор проигнорировал как насмешку, так и предложение, и неторопливо проследовал к горну. Окрик застрял в горле Ковача, а рот так и остался открытым в осознании того, какую лису он только что запустил в свой курятник, когда мой саламандр руками взял из огня болванку и, не поморщившись, водрузил ее на наковальню.
– Мастер, – сказал ему Звенигор, – вы сами приказали торопиться…
Но Ковач, кажется, даже не заметил, что его насмешки вернулись к нему тою же монетой.
– Ты кто? Не сам ли бог огня?
– Я его внук.
Ковач протянул было руку, будто желая удостовериться наощупь, что его не морочат, но жар, пахнувший от металла, убедил его отказаться от болезненного эксперимента. За раскаленное железо, я думаю, на его памяти никто голыми руками не хватался, но Ковач был не из тех, кто долго позволил бы подручному тешиться своим огорошенным видом.
И дело у них пошло! Грохот и звон в тесной кузне стоял такой, что меня, пристроившегося в дверях, в первую же минуту чуть было не вынесло прочь на волне звука, и потом я еще долгое время тряс головой, опасаясь, что оглох, а когда осознал, что дел тут надолго, стал устраивать себе продолжительные блаженные передышки, чтобы глотнуть воды и отдышаться. Я всякий раз возвращался, потому что на то, что творилось в кузне, стоило посмотреть.
Ковач без устали махал пудовым молотом, плюща железо да зычно покрикивая, чтобы подручный всякий раз по-иному поворачивал меч под удар. Со стороны, во мраке, пламени и дыму эта чудная пара казалась грозным старым дьяволом и расторопным мелким бесом. Седые космы кузнеца взмокли, по плечам и груди струился жирный грязный пот. Да и на лбу Звенигора – виданное ли дело! – над бровями появились редкие мелкие капли. Я усмехнулся. Однако, брат принц, это тебе не огненные пляски, тут вкалывать надо. Для усмешки у меня была и еще одна причина: я между делом стащил перчатку Звенигора и тишком исследовал ее. Так и есть, в среднем пальце притаилось тяжелое золотое кольцо с замысловатой печаткой, изображавшей что-то вроде извивающейся в огне ящерицы. Ну а что еще могло там быть?
– Кавалерийский?
– Нет, прямой.
– Легкий?
– Двуручный.
Ковач кивал, получая ответы, и болванка на наковальне постепенно приобретала заказанную форму. Время от времени Звенигор по знаку кузнеца швырял ее в воду, она неистово шипела, и кузня наполнялась едким сизым дымом. Потом меч вновь и вновь описывал монотонный круг: горн, наковальня, кадушка, и я уже чуть держался на ногах, а те двое, осыпаемые ворохами искр, танцевали вокруг крестообразной полосы металла шириной в ладонь и длиной в два с половиной фута, принимавшей все более узнаваемый вид. Наконец я вовсе угорел от жара, духоты и вони сернистых газов, и сбежал насовсем, повалившись в высокую траву за оградой. Я не внук Сварога, мне позволительно.
Наконец по изменившемуся звуку я догадался, что Ковач взял молот полегче. Дело шло к концу, я снова вернулся в кузню, и вовремя, потому что иначе мог пропустить самое интересное.
– Вот уж самый чудной меч из всех моих мечей, – задумчиво молвил кузнец. – Что с рукоятью будем делать, сынок? Коли не торопишься, я бы ее отчеканил так, что любо-дорого.
– Тороплюсь, – возразил Звенигор. – Не возражаете, если с рукоятью мы тоже малость почудим?
Ковач движением брови позволил саламандру самодеятельность, и Звенигор погрузил рукоятку в уголь, а сам, пристально наблюдая за процессом, всунулся в горн чуть ли не по пояс. Мне подумалось, что если он сейчас вздумает перевоплотиться, одним кузнецом на свете станет меньше. Рот у Ковача, по-моему, так и не закрылся.
Рукоять сперва почернела, затем налилась темно-бордовым, а потом все светлела, пока не раскалилась добела. Ковач растревожился:
– Эй, – окликнул он своего подручного, – сейчас потечет!
Звенигор, со своей стороны горна не спускавший с металла внимательных глаз, мотнул головой:
– Потечь не дам, но она должна стать достаточно мягкой.
Он осторожно вытянул свой новый меч из угля за лезвие и тут-то нам с Мастером довелось увидеть еще один бесподобный трюк. Звенигор положил правую ладонь на светящуюся от жара рукоять, вплотную к крестообразной гарде, левую – следом, так, как держал бы этот меч в бою, когда уже он будет служить хозяину, а не наоборот, как сейчас. Металл светился сквозь нежную плоть пальцев, очевидно, не причиняя ей вреда. Даже во мраке кузни, разгоняемом отдельными пятнами огня, я разглядел, как напряглось лицо Звенигора, сузились глаза и вздулись жилы на висках и руках, когда принц изо всех сил сжал рукоять своего меча. Прошло несколько секунд вынимающего душу усилия, и тогда наконец Звенигор расслабился, опустил меч на наковальню, разжал руки и отошел чуть в сторону, словно ненавязчиво предлагая оценить, что он тут натворил.
На рукояти остались явственно видны следы его пальцев, и Ковач только присвистнул. Поистине, вряд ли даже во всей Волшебной Стране можно было найти меч с похожей рукоятью. Меч, который во время ковки держали руками. По всем законам сказки эта штука должна была получиться волшебной, ну или что-то вроде того. И рукоять его одному лишь Звенигору точно ложилась в руку, ибо не найти ни среди людей, ни среди прочих тварей двух с совершенно одинаковой рукой.
– Отдохни пока, – велел Ковач, будучи не в силах оторвать от меча глаза. – Я почищу его, отполирую и наточу.
Звенигор, чуть пошатываясь, – и впрямь устал! – вышел из жаркой кузни на дивно прохладный простор, доковылял до большой бочки под водостоком, оперся руками о край и уронил голову в воду. Пока он не вынырнул, я думал, что понял, отчего у Ковача сбежал подмастерье. Потом он вскинулся, отхлестнув волосы назад, и окинул мир и меня глазами, искрящимися блаженством и восторгом, а холодная вода с волос лилась на его испятнанные копотью плечи и спину.
– Если бы ты знал, – признался саламандр, – как давно я мечтал это сделать!
Потом мы оба валялись в траве, наблюдая за бегущими по небу облаками, и дремали под доносившийся из кузни вжик стали о точильный круг, а потом Ковач вышел из кузни, неся меч на вытянутых руках, благоговейно и бережно, как ребенка, и Звенигор поднялся ему навстречу. Он принял меч и поймал солнце его отточенным острым краем. Ковач прикрыл глаза ладонью.
– Что я должен вам, Мастер?
Кузнец замотал седой гривой.
– Деньги – пыль, – сказал он. – Вода в пригоршне, сколь не береги – утекут. Я бы… я бы сыном тебя назвал, если бы ты остался. Я бы такого кузнеца из тебя сделал, что дивился бы весь мир, а гномы краснели бы и прятались в бороды от стыда. Но ты ведь не останешься?
– Прости. Ты не поверишь, но я… я хотел бы, Мастер! Я даже не могу обещать тебе, что вернусь. У моего отца на меня прав больше, чем у меня самого, и так вышло, что именно сейчас эти права заявлены. Прости.
Они обнялись, как родные, с такой взаимной благодарностью и страстью, что я всерьез испугался, как бы Ковач Звену от полноты душевной кости не переломал.
А потом Мастер вновь сел на выщербленные ступени, раскурил трубку, словно не мыслил жизни без зловонных дымов, и провожал нас сожалеющим взглядом, пока мы седлали коней, да и после, когда мы удалялись прочь по пыльной дороге.
* * *
Кони ступали неспешно, пыль клубилась за ними и поднималась нам до колен. Я рассматривал новооткованный меч. Был он мне тяжеловат, и в руку приходился неудобно: ладонь у Звенигора шире. Я порадовался, что мне им не махать, и подумал, что раз Звен все время ковки держал его в руках, то ничего плохого к своему хозяину эта штука иметь не может.
От гарды на длину ладони меч, собственно, не был еще мечом, то есть чем-то, способным колоть или рубить. Тут шел гладкий округлый стержень, овальный в поперечном сечении. Это сделано для крепости, объяснил мне Звен, потому что именно здесь, в первой четверти клинка – его общеизвестное слабое место. Мощный удар чаще всего ломает его именно здесь. Дальше меч расширялся, переходя в собственно клинок, заостренный на обоих краях, с ребром жесткости по центру и концом, выведенным в форме буквы «V», уплощенным и заточенным. И Звенигор был так доволен этим делом в том числе и своих рук, что я не стал ему говорить, что в принципе терпеть не могу мечей, потому что одна из этих красивых штук лишила жизни моего первого настоящего друга, принца Рэя. Мне не хотелось отнимать у него этот восторг: в сущности, есть вещи и поважнее моего личного мнения, да и если уж Рэю приспичило, он, надо думать, даже не имея при себе меча, что мне, правда, трудновато представить, нашел бы какой-нибудь иной способ покончить с собой. С большим трудом отогнал я от себя черные мысли о той, плохо закончившейся сказке, и вернулся к своему спутнику.
– А зачем тебе вообще понадобился меч? – поинтересовался я. – У тебя, вроде бы, другая техника.
– О да, – согласился саламандр. – Но, понимаешь ли, мне не хотелось бы плодить слухи.







