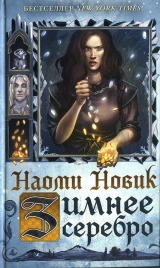
Текст книги "Зимнее серебро"
Автор книги: Наоми Новик
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 10
Всю неделю каждый день отец Мирьем спрашивал меня немного растерянно, не видела ли я Мирьем. Каждый день я отвечала ему, что она уехала в Вышню. И тогда он говорил:
– Ах, ведь и правда, как я мог позабыть.
Каждый день за обедом мать Мирьем накрывала на четверых и накладывала еду на четвертую тарелку. И каждый раз родители Мирьем словно бы удивлялись, когда их дочь не появлялась. А я молчала – ведь я-то получала свою полную тарелку еды.
Я собирала долги, старательно все записывая в книгу. Мы с Сергеем присматривали за козами и курами. И двор мы держали в порядке, следили, чтобы он был гладко утоптан и чисто выметен. В среду я пошла на рынок за покупками, и со мной заговорил один северянин, он привез на продажу рыбу. Он спросил, нет ли у Мирьем больше тех передников, он бы купил для своих трех дочек. А в доме как раз три передника и было. У меня даже горло перехватило от волнения. И я ему сказала:
– Если хотите, я схожу и принесу их. Две копейки каждый.
– Две копейки! – охнул северянин. – Нет, больше одной не дам.
– Я цену сбить не могу, – настаивала я. – Хозяйка нынче в отъезде. Она никому дешевле не продавала.
Северянин сперва помрачнел, но потом согласился:
– Ладно, хоть два тогда возьму.
Я кивнула и сказала, что пойду принесу передники, а он мне вслед крикнул, что, мол, неси все три. Я вернулась в дом заимодавца, взяла передники и отнесла северянину. Он их вертел в руках так и этак, все выискивал, не торчит ли где нитка, не стерлась ли краска. Затем вытащил кошелек и отсчитал деньги мне прямо в руку: одна, две, три, четыре, пять, шесть. Шесть копеек блестели у меня на ладони. Не мои это были деньги, но я сжала ладонь, сглотнула и сказала:
– Благодарствую, панов.
Потом я взяла корзину и пошла прочь с рынка, а когда меня уже никто не видел, припустила бегом. Ворвалась в дом как шальная, еле переводя дух. Мать Мирьем как раз ставила обед на стол. Она удивилась.
– Я передники продала! – выпалила я с порога. Я думала, сейчас разревусь. Сглотнула комок в горле и протянула ей деньги.
Мать Мирьем взяла монеты, даже не поглядев на них. Она погладила меня по лицу; рука у нее была маленькая, тоненькая, зато теплая.
– Что бы мы без тебя делали, Ванда! – сказала она и улыбнулась. Она отвернулась, чтобы бросить копейки в кувшин на полке, а я уткнулась лицом в ладони. И украдкой утерла глаза передником, прежде чем сесть за стол.
Мать Мирьем снова наготовила еды с избытком.
– Ванда, может, поешь еще? Не годится выбрасывать еду, – сказал отец Мирьем, придвигая ко мне четвертую тарелку. А мать Мирьем смотрела в окно, и лицо у нее было какое-то загадочное – или, может, растерянное.
– А давно Мирьем уехала? – задумчиво спросила она.
– Неделю назад, – ответила я.
– Неделю назад, – как эхо повторила мать Мирьем. Она как будто пыталась запомнить.
– Она вернется – ты и соскучиться не успеешь, Рахиль, – пообещал отец Мирьем. Он сказал это пылко, наверное сам хотел поверить.
– Уж очень путь неблизкий, – покачала головой мать Мирьем. Лицо у нее по-прежнему было растерянным. – Долго ей придется ехать. – А потом она отвернулась от окна и улыбнулась мне. – Я рада, что тебе понравился обед, Ванда.
Не знаю как, но в голове моей сама собой возникла мысль: Мирьем не вернется.
– Было очень вкусно, спасибо большое, – поблагодарила я. И снова откуда-то взялся этот комок в горле.
Они дали мне мой пенни, и я потащилась домой. Теперь это, верно, насовсем, думала я. Мирьем вроде как со дня на день вернется. Родители будут ждать ее, и ждать, и ждать. Каждый день ставить ей тарелку с едой и удивляться: как же так, опять ее нет! Каждый день отдавать мне ее порцию. Может, мне и что-нибудь еще из ее вещей перепадет. А я возьму на себя работу Мирьем. И ее мать еще не раз улыбнется мне, как сегодня. Отец научит меня новым цифрам… Я старалась не хотеть всего этого. А то, выходит, я ей желаю не возвращаться.
Я закопала свой пенни под деревом и пошла к дому. И вдруг встала как громом пораженная. На дороге виднелись следы: кто-то прежде меня прошел моим путем. Этому-то я не удивилась: вдоль дороги ведь еще кое-кто жил, не только мы. Но следы сворачивали и вели прямиком к нашей двери. Судя по следам, в дом вошли двое мужчин в кожаных сапогах. Вот это и было непонятно: для податей нынче не время, а, кроме сборщика, ходить к нам некому. Я подошла к двери: оттуда доносился смех и мужские голоса, там выпивали за здоровье. Входить мне не хотелось – но куда денешься? Путь я прошла долгий, продрогла до костей, нужно было согреть руки и ноги.
Я отворила дверь. Что ждет меня в доме, я понятия не имела – что ни возьми, все будет как снег на голову. Оказалось, у нас гостили Кайюс и его сын Лукас. На столе стоял большой кувшин крупника и три чашки. Отец весь раскраснелся – значит, они уже успели поддать как следует. Стефан съежился возле очага и сидел там тихо как мышка. И смотрел на меня снизу вверх из своего угла.
– А вот и она! – объявил Кайюс, едва я ступила на порог. – Закрывай дверь, Ванда, садись с нами, мы тут празднуем событие. Лукас, чего расселся, помоги же ей!
Лукас встал, подошел ко мне и попытался помочь мне снять шаль. Я никак не могла взять в толк, что это на него нашло. Сняла шаль сама, повесила ее у огня, пристроила рядом шарф и обернулась к столу. Кайюс сиял улыбкой.
– Верно, для тебя большая печаль лишиться ее, – заявил он моему отцу. – Ну да ведь отцам дочерей этого не миновать! К тому же и жить она будет совсем рядом. – Я стояла не двигаясь, только косилась на Стефана. – Ванда, – обратился ко мне Кайюс, – мы тебя сговорили! Ты станешь женой Лукаса.
Я перевела взгляд на Лукаса. Парень как будто не особо радовался, но и не особо огорчался. Он ко мне приглядывался. Я была что та хавронья на рынке, которую он собрался покупать. И он надеялся, что я разжирею и принесу ему множество поросяток до того, как сама пойду на окорок.
– Твой отец, разумеется, рассказал мне эту историю про долг, – продолжил Кайюс. – И я говорю ему, что больше он ничего никому не должен. Долг мы переведем на мой счет, его ты и отработаешь. И раз в неделю будешь навещать отца с кувшином моего лучшего крупника, чтобы Горек не забыл дочкино лицо. Твое здоровье и счастье! – И он поднял чашку с крупником и пригубил из нее, а отец тоже поднял чашку, но осушил ее целиком. А Кайюс тут же подлил ему еще.
Значит, отец за меня даже не получит козы, от которой хоть молоко будет. И ни одной свиньи не получит. И четырех пенни в месяц у него не будет. Он продает меня за выпивку. За кувшин крупника раз в неделю. Кайюс все еще улыбался. Он-то, должно быть, смекнул, что мне платят деньгами. Или, может, решил, что раз уже теперь я поселюсь у него, Мирьем сбавит ему долг. Он отправится к отцу Мирьем и не прогадает. Долг мне простят. Это будет их свадебный подарок. А потом, может, Кайюс заставит меня и дальше работать у заимодавца, но затребует плату побольше. И будет требовать еще и еще. Мирьем больше нет. Некому прийти к Каюйсу и дать ему отпор. Остались только ее отец с матерью, но с Кайюсом они не совладают. Да и ни с кем не совладают.
– Нет, – сказала я.
Они все вылупились на меня. Отец озадаченно моргнул.
– Чего? – пробубнил он.
– Нет, – повторила я. – Я не выйду за Лукаса.
Кайюс сразу перестал улыбаться.
– Да полно тебе, Ванда… – начал он, но договорить отец ему не дал. Он вскочил и так врезал мне по лицу, что я не устояла на ногах.
– Нет, говоришь?! – взревел отец. – Нет?! Ты думала, кто хозяин в этом доме?! Это ты мне перечить вздумала?! Заткнись, скотина безмозглая! Завтра же пойдешь за него замуж! – Он рванул было с пояса ремень, но никак не мог справиться с пряжкой.
– Горек, да она растерялась просто. – Кайюс, не вставая, протянул к отцу руку, пытаясь его урезонить. – Дай ей время, и она одумается, я уверен.
– Одумается, если проучу ее как положено! – проорал отец. Он вцепился мне в волосы и дернул со всей мочи. Я краем глаза заметила, как Лукас пятится к двери. Вид у него был испуганный. Отец мой был дюжий мужик, куда здоровее Кайюса с Лукасом. – Так, значит, нет? – повторял отец и бил меня по лицу, но обеим щекам, так, что в голове звенело. Я пыталась закрыться, но он лупил меня по рукам.
– Горек, ты ж ей все лицо изукрасишь! А ведь ей под венец идти! – Кайюс хотел обратить все в шутку. Но голос у него был малость напуганный.
– Да кому нужна ее рожа! – рявкнул отец. – В бабе не рожа главное. А ты мне тут руками не размахивай! – зарычал он на меня. – Ишь, артачиться вздумала! – Он наконец оставил в покое свою пряжку и, отшвырнув меня к очагу, схватился за кочергу, стоявшую тут же поблизости.
И вдруг Стефан с криком «Не смей!» ухватился за другой конец кочерги. Отец замер в изумлении. Даже я, утирая слезы, сумела поднять голову и посмотреть на брата. Он был совсем маленький, щуплый, как годовалое деревце. Отец мог бы поднять Стефана на этой самой кочерге, и тот только пятками бы задергал. Но Стефан намертво вцепился в кочергу обеими руками и повторил:
– Не смей!
Отец так опешил, что не сразу сообразил, как быть. Вырвать у Стефана кочергу не получилось: тот держал крепко, и отец только подтянул его к себе. Тогда отец вцепился Стефану в плечо и принялся его отпихивать, но кочерга оказалась длиннее руки, а поскольку папаня был в стельку пьян, ему в голову не приходило бросить треклятую кочергу. Вместо этого он стал трясти ею изо всех сил, и Стефана мотало по всему дому. Отец все больше свирепел и наконец взревел жутким голосом, выпустил кочергу, схватил Стефана и с размаху припечатал кулачищем ему прямо в лицо.
Стефан упал, весь залитый кровью, все еще стискивая кочергу и повторяя сквозь слезы:
– Не смей!
Папаня так разъярился, что потерял дар речи. Он вскинул вверх свой табурет и грохнул им Стефана по спиие; табурет разлетелся на деревяшки. Брат растянулся на полу. И тогда отец ножкой от табурета принялся колотить Стефана по пальцам, пока тот не выпустил кочергу. Отец тут же сам вцепился в нее.
Лицо у него сделалось багровое от гнева. Глаза налились кровью. Он скалил зубы. Если сейчас он набросится на Стефана с кочергой, то уже не остановится, пока не забьет его насмерть.
– Я выйду за Лукаса! – крикнула я. – Отец, я согласна!
Но когда я подняла свое распухшее лицо, то увидела, что Лукаса уже в доме нет, а Кайюс крадется к двери.
– Куда это вы?! – прорычал папаня.
– Если девица не согласна, значит, мы не сговорились, – ответил Кайюс. – Лукас не станет жениться на девушке против ее воли.
Это означало, что Кайюс не готов терпеть ничего подобного в своем доме. Он пришел к нам со своим крупником и с хитрым умыслом, напоил отца и пробудил его ярость, и теперь эта пылающая ярость, как пожар, спалит тут все дотла. Кайюсу оно и даром не надо. Кайюс собрался удирать.
И он мог удирать с чистой совестью. Лукас успел выскочить из дома, и сам Кайюс уже стоял возле двери. Папаня мог орать им вслед сколько угодно, они бы его все равно не послушали. Потому что папаня им не указ. Кайюс с сыном живут в городе, они люди солидные, платят высокую подать. А тронь их хоть пальцем – так Кайюс живо доложит воеводе, и тот прикажет высечь отца плетьми. Отец и сам хорошо это знал. А потому орать он принялся на меня:
– Из-за тебя все! Сладу с тобой нет, кому такая баба нужна!
И он замахнулся на меня кочергой. Но тут Кайюс распахнул дверь, а на пороге стоял Сергей. И он слышал, как мы все кричали. Он вбежал в дом и перехватил кочергу над моей головой. Отец рванул ее на себя, но не тут-то было. Сергей держал крепко. Ростом он уже догнал отца и в весе успел немного прибавить – на двойных-то харчах в доме Мирьем. А отец за зиму отощал, да к тому же был пьяный. Он снова дернул кочергу к себе и хотел наподдать Сергею кулаком в лицо. Но вместо этого Сергей вырвал у отца кочергу и сам с размаху его ударил.
Наверное, это папаню и сразило наповал. Ему прежде не доводилось быть битым. Никто не мог одолеть его, даже городские. Слишком уж он был рослый. Отец попятился и споткнулся о Стефана, свернувшегося возле очага, да так и рухнул. Падая, головой он ударился о горшок с гречкой, что грелся в очаге, и выбил из-под него подпорку. Папаня повалился прямо в огонь, а горячая каша опрокинулась ему на лицо.
У Кайюса аж дух перехватило. Он шмыгнул за дверь и кинулся прочь во всю прыть. А папаня все еще вопил и извивался. Я все руки себе обожгла, пока скидывала с него эту кашу, и мы вытащили его из огня, но у него и волосы горели, и одежда. Лицо у него все пошло волдырями, а глаза под веками выпучились, стали как две луковицы. Мы сбили пламя своей одеждой. Но отец уже умолк и перестал корчиться.
Мы все трое стояли над ним. Что делать, мы не знали. Отец больше и на человека-то не походил. Голова у него раздулась в сплошной белый волдырь, только местами виднелись красные пятна. Он не издавал ни звука, не двигался.
– Он умер? – наконец спросил Сергей.
Папаня не отозвался, не шевельнулся. И так мы поняли, что он на самом деле мертвый.
Стефан испуганно смотрел то на меня, то на Сергея. Лицо ему все залило кровью, и с носом совсем была беда. Он хотел знать, что же теперь делать. Сергей побелел как полотно.
– Кайюс всем расскажет, – просипел он, сглотнув комок в горле. – Все узнают, что…
Кайюс всем расскажет, что Сергей убил отца. Воевода пошлет своих людей, они схватят Сергея и повесят его. А что Сергей это сделал не нарочно и что отец сам нас едва не убил – так это им без разницы. Отцов убивать не полагается. Меня тоже, наверное, заберут. Кайюс ведь скажет всем, что я отказалась выйти за его сына, а Сергей меня спасал от побоев. Так что мы с Сергеем вместе его убили. Сергея точно повесят. Даже если меня и не посадят в тюрьму, дом и поле все равно отберут и отдадут кому-то еще. Стефан еще мал, чтобы вести хозяйство, а я женщина.
– Нам надо бежать, – сказала я.
И мы побежали к белому дереву. Выкопали наши пенни – там скопилось всего-навсего двадцать два. Мы все трое смотрели на монетки. Я-то знала, сколько на них можно купить. Втроем на это не прокормишься, а ведь нам придется идти куда-то далеко, искать работу.
– Стефан, ты пойдешь к Панове Мандельштам, – велела я. Стефан глянул на меня с испугом. – Ты еще мал. Никто тебя обвинять не станет. А она позволит тебе остаться.
– Да с чего бы ей? – возразил Сергей. – Помощи-то от него никакой.
– Он за козами присмотрит, – ответила я.
Я так сказала, чтобы Стефан с Сергеем не переживали. Мать Мирьем не выгонит Стефана, даже если от него не будет в доме никакого толка. А толк все же будет – Стефан на диво хорошо управляется с козами. А уж с козами-то они точно не оголодают, даже если я перестану собирать долги. И пока Мирьем нет, со Стефаном все-таки веселее. Стефан помолчал немного, вытер слезы и кивнул. Он все понял. Мы с Сергеем можем идти быстро и долго. Нам проще найти работу. А ему пока работать рано. Оставить его у заимодавца – и нам спокойнее, и ему легче. Но это значило, что сейчас нам надо попрощаться – и, может статься, навсегда. Неизвестно, вернемся ли мы с Сергеем. А Стефан не будет знать, где мы.
– Матушка, прости меня, – сказала я белому дереву.
Деньги ведь и впрямь накликали на нас лихо. Надо было нам слушаться матушку. В белых листьях зашелестел ветер, словно дерево вздохнуло. А потом дерево медленно склонило к нам три ветви и коснулось наших плеч. Меня будто кто-то по голове погладил. На той ветви, что протянулась к Стефану, висел один-единственный белый плод – спелый орех. Стефан покосился на нас.
– Бери, – сказала я ему.
Потому что так было по-честному. Матушка спасла однажды меня и однажды Сергея, а ведь это из-за нас пришла беда. Стефан-то тут ни при чем.
Стефан сорвал орех и засунул его в карман.
– Куда мы пойдем? – спросил Сергей.
Я подумала немного и ответила:
– Сперва в Вышню. Найдем дедушку Мирьем. Может, у него будет для нас работа.
Я знала, что дедушку Мирьем зовут Мошель. Если по правде, я сомневалась, что мы сумеем добраться до Вышни и не заблудиться, да еще отыщем там панова Мошеля. Но надо же нам хоть куда-то идти. Я вспомнила, что Мирьем говорила насчет шерсти: вот бы, дескать, ее отправить на юг, как река вскроется. Ведь и мы тоже можем пойти на юг по реке мимо Вышни. Так далеко за нами никто гнаться не станет. В тех краях до нас никому нет дела.
Я все это выложила Сергею, и он кивнул. Мы пошли в сарай и отвязали четырех наших тощих коз. Стефан вместе с козами медленно зашагал по дороге. Каждые несколько шагов он оглядывался на нас, пока не скрылся из виду. А мы с Сергеем разделили наши серебряные монеты поровну, и каждый спрятал свою долю в самое надежное место. В дом нам возвращаться очень уж не хотелось, ведь отец там лежал мертвый, но мы все-таки себя пересилили. Я прихватила отцовский жупан, что висел возле двери, и пустой горшок, чтобы в дороге нам готовить себе еду. И мы отправились в лес.
* * *
Мы с Мирнатиусом обвенчались на третий день его визита к нам. Я надела кольцо, и ожерелье, и корону. Отец объявил все эти драгоценности моим приданым, сказав, что они принадлежали моей матери. «Да, пусть будет так», – небрежно обронил царь. Его не заботило мое приданое. Думаю, он взял бы меня и бесприданницей, однако отец был обескуражен легкостью своей победы. Ему было не по себе, и он стремился увериться, что добился желаемого благодаря собственным козням. Пока я шествовала к алтарю, весь двор таращился на меня с завистью и тоской, как если бы мои шею и лоб украшали все звезды Вселенной. Однако для моего жениха волшебное серебро было не ценнее меди. Он так настаивал на скорой женитьбе, а сам произнес обеты скучающим тоном и выронил мою руку, словно то была раскаленная головня. Судя по всему, женился он из чистого азарта, всем назло, просто чтобы заполучить невесту, которая не мечтала стать царицей. А ведь все красавицы его царства сохли по нему и охотно отрубили бы себе пальцы на ногах, лишь бы им впору пришлась хрустальная туфелька.
Сразу после венчания мы уехали. Мой недокрашенный сундук с приданым кое-как запихнули на задок серебристо-белых саней. Роспись на них едва просохла: один из отцовских воевод наспех переделал свои сани и вручил мне как свадебный подарок. Меня тоже усадили в сани. Со мной никто не поехал. Мирнатиус сказал отцу, что ему во дворце и так старух хватает, поэтому Магрета осталась на крыльце горевать и лить слезы, спрятавшись за спиной у остальных женщин.
Мирнатиус расцеловался с отцом, как положено близким родственникам, и уселся рядом. Я про себя радовалась, что мы с ним хотя бы не притиснуты друг к другу в закрытых санях, где и так мало места. Впрочем, для царя Литваса любые сани тесны. В наших санях было невыразимо жарко: всюду громоздились тяжелые меха, под ногами у нас и под сиденьями лежали горячие камни. Мирнатиус изящным движением откинулся назад и удобно развалился на сиденье. Он протянул мне кошелек.
– Вот, швыряй монеты по пути, любовь моя, – промурлыкал он. – Пусть народ порадуется с нами. И постарайся выглядеть счастливой, какой тебе и надлежит быть. Улыбайся, – со значением прибавил он. И снова его слова окатили меня волной жара, подобной тем, что поднимались от горячих камней у меня в ногах. Но кольцо под перчаткой гасило жар и дарило мне спасительную прохладу. Опасливо протянув руку, я взяла кошелек. Я швыряла блестящие копейки и пенни горстями без разбору, не глядя, не откидывая капюшона. Пока есть монеты, людям на улице не до меня, никому нет дела, улыбаюсь я или нет. А сама я неотрывно смотрела на царя. Он глядел на мой капюшон неодобрительно, но ни слова не сказал мне.
Сани скользили по замерзшей реке. Четыре раза мы меняли лошадей и еще засветло прибыли к герцогу Азуоласу, у которого решили заночевать. Герцог был богатым землевладельцем с обширными полями, однако дворец его располагался в маленьком городишке, обнесенном стеною для защиты скорее от воинства Зимояров, чем от обычных захватчиков. Это было укромное местечко, слишком тесное, чтобы вместить царскую свиту. Поэтому Мирнатиус повелел всем своим спутникам искать приюта у мелких воевод и рыцарей в окрестностях, а назавтра снова присоединиться к нему. Стоя на ступенях герцогского дворца, я провожала взглядом разъезжавшихся придворных – тех самых, что были на моем венчании, – и холодок полз у меня по спине. Тут хватило бы места хотя бы нескольким из них. Многие рыцари негодовали и обижались оттого, что их вот так бесцеремонно выдворяют. Слуги вытащили мой сундук из саней и понесли в дом. Я взглянула на Мирнатиуса. Солнце еще не успело сесть, а глаза его уже полыхали жадным рубиновым огнем.
Я спустилась к ужину, надев все свое серебро, даже корону снимать не стала. Серебро искрилось в отблеске свечей, и все мужчины за столом смотрели на меня раскрыв рот, как малые дети. В их глазах была растерянность и зависть – они завидовали царю, сами не понимая почему. Я говорила с этими завороженными серебром людьми – я постаралась побеседовать с каждым. Но я едва успела притронуться к последней смене блюд, как Мирнатиус извинился за меня и препоручил меня горничным, отправив со мной пару стражников.
– Сторожите хорошенько покои молодой царицы, а то как бы не убежала, – шутливо наказал он своим людям, и гости за столом засмеялись.
Когда я поднялась из-за стола, царь вдруг повернулся, грубым движением поймал мою руку и порывисто поцеловал. Губы у него так и обжигали.
– Я скоро приду к тебе, – прошептал он повелительно и жарко и отпустил меня.
От этого поцелуя у меня кровь прихлынула к щекам. Дожидавшиеся меня горничные стыдливо захихикали. Они-то решили, что я вся зарделась от пылкой страсти к красавцу мужу. Я была им только признательна за такую ошибку. Едва за мной закрылась дверь моей спальни, я отослала горничных, не позволив им раздеть меня.
– Мой господин сам мне поможет, – произнесла я, скромно потупившись, чтобы они не заметили в моих глазах страха вместо предвкушения.
Девушки понимающе заулыбались и без возражений выскользнули за дверь. А я осталась одна в своем тяжелом наряде.
Два дня назад я сказала Галине: «До Корони путь долгий и холодный, а мои старые меха нынче тесны мне». Я рассудила так: придворные и воеводы с рыцарями, что служат моему отцу, узнав о помолвке, поднимут безумную возню – все кинутся искать мне свадебные подарки. И наверняка многие решат испросить совета у моей мачехи. В итоге я обзавелась очень красивым роскошным одеянием из горностая, которое вполне пристало и царице. Сейчас меха лежали мягкой белой грудой в углу спальни, где я их сбросила, но едва горничные вышли, я снова облачилась в своего горностая: надела тяжелую шубу, взяла муфту. На голове у меня уже была корона, но шайку я не решилась оставить в спальне: слишком уж она заметна без остальных мехов. Поэтому я затолкала шапку в муфту.
Я подошла к высокому зеркалу, что висело на стене. Там, за стеклом, я стояла среди снежной круговерти в темном лесу. Я приблизилась к зеркалу, и жалящий холод ударил мне в лицо. Я закрыла глаза и сделала шаг, страшась любого исхода: уткнуться носом в твердое стекло и остаться без убежища – или пройти сквозь зеркало и очутиться одной в ночи, в другом мире, из которого, может статься, нет возврата.
Но к моему лицу приникло не стекло, а лишь зима, и мороз принялся кусать мне щеки. Я открыла глаза. Я стояла одна среди темных сосен под снежными шапками, и конца-краю не было этим соснам. Над головой раскинулось темно-серое вечернее небо без проблеска звезд. От пронзительного холода лицо у меня тут же закоченело, пришлось уткнуться в муфту и отогреваться дыханием. Вокруг меня порхали хлопья снега, тонкими иголочками покалывая мне кожу. Это была не просто морозная зимняя ночь, не просто вьюга. Это был мучительный, терзающий холод, и он словно вопрошал, что я здесь делаю, и стремился пробраться к самому моему сердцу, к самым легким.
Никакого укрытия поблизости я не видела. И домов, где я могла бы попросить о помощи, тоже не было. Я стояла на берегу глубокой реки, покрытой уже почти твердым льдом. Лед сверкал подобно стеклу, но вместо моего отражения в нем была опустевшая спальня. Я как будто смотрела в зеркало с другой стороны.
По ту сторону льда дверь отворилась, и я вся напряглась, как натянутая тетива, но через миг поняла: Мирнатиус меня не видит. Он вошел в комнату с широкой, алчной улыбкой на лице и, не обнаружив меня, просиял. Он захлопнул дверь, привалился к ней и, не глядя, повернул ключ в замке у себя за спиной – до меня долетел приглушенный щелчок, как из-под воды.
– Ирина, Ирина, ты что, прячешься от меня? – негромко спросил он жарким, восторженным голосом, опуская ключ в карман. – Ну так я тебя найду…
И Мирнатиус принялся за поиски. Он заглянул за каминную заслонку, под кровать и в шкаф. Он даже подошел к зеркалу – и я отпрянула назад, когда он оказался прямо рядом со мной. Но, к счастью, он лишь проверял, не скрывается ли что-нибудь в стене за зеркалом. Его улыбка мало-помалу гасла. Мирнатиус раздвинул занавески. Однако же спальню для меня он выбирал весьма осмотрительно: тут было одно-единственное маленькое окошко, и то наглухо закрыто.
Лицо Мирнатиуса исказилось от бешенства. Я обняла себя обеими руками, холод немилосердно кусал меня, а царь тем временем буйствовал в моей спальне. Наконец он остановился – растерянный и разгневанный; скривившись, он сжимал в руках обрывки балдахина с моей кровати, а по всей комнате валялась перевернутая мебель.
– Где же ты?! – завизжал Мирнатиус скрипучим, каким-то пугающе нечеловеческим голосом. – Появиться ты должна! Ты отныне мне жена! – И он топнул ногой с такой силой, что громоздкая резная кровать вздрогнула. – А не то твою родню изведу я на корню! Если выйдешь сейчас, я тебя не трону… – добавил он неожиданно вкрадчиво, будто решил, что я ему поверю. Царь подождал еще мгновение и, поняв, что я не появлюсь, предался приступу неукротимой ярости. Он больше не искал – только громил, ломал и рвал, как бешеный зверь, крушащий все вокруг и себя самого заодно.
Царь долго не унимался, но потом издал свирепый вопль, повалился на пол и забился в припадке. С минуту он колотился о пол, корчился, на губах выступила пена, а потом внезапно обмяк и замер с полуоткрытым ртом. Его невидящий взгляд, казалось, был обращен прямо на меня. Я тоже смотрела на него – и так прошло несколько томительных минут. Наконец Мирнатиус заморгал.
Он свернулся калачиком и поднялся сначала на колени, потом, морщась, кое-как встал на ноги. Изорванная одежда лохмотьями свисала с плеч. Он обвел взглядом поломанную кровать и спальню, где устроил весь этот кавардак. Алчный огонь в его глазах погас; взгляд у него был настороженный и потерянный.
– Ирина! – нерешительно позвал он. Он даже приподнял изорванное покрывало и заглянул под него – вдруг я между делом как-то туда проскользнула. Уронив край покрывала, он направился к окну и снова внимательно осмотрел его, видимо позабыв, что он уже это проделал каких-то несколько минут назад.
Все с тем же недоуменным выражением на лице Мирнатиус прошагал через спальню к камину и заговорил с ним, словно ожидая, что тот ему ответит:
– Ну вот, теперь тебя нет, а мне что прикажешь делать? Дочь герцога! И даже тела не осталось! Что ты такое творишь! Что с ней сталось?
Пламя вскинулось вверх – высоко, исступленно – и метнуло в спальню целый сноп искр. Мирнатиус даже внимания не обратил; крошечные ожоги там, где искры попали ему на кожу, мигом затянулись.
– Найди ее! – Голос у огня оказался трескучий, шипящий, жадный. – Верни ее!
– Вернуть? – переспросил Мирнатиус. – Так ее тут не было?
– Дай ее мне! – прошипел огонь. – Я получу ее! Найди мне ее!
– О, великолепно. Она, должно быть, подкупила стражу и была такова. А от меня-то тебе что нужно? К чему эта женитьба на единственной в мире девице, готовой сбежать из-под венца? Мне и так придется повозиться с ее папочкой. Попробуй-ка задобри его после трагического несчастного случая с его дочкой. Но теперь, когда она исчезла, задача куда как осложняется!
– Убей его! – протрещал огонь. – Раз родня ей помогла, всю родню спали дотла!
Мирнатиус раздраженно отмахнулся:
– Вот еще глупости. Если на то пошло, герцог был счастлив препоручить мне дочь. С какой стати ему устраивать Ирине побег? Нет, она сбежала сама. Теперь уж она наверняка в соседнем королевстве. Или в монастыре – что, согласись, было бы мило.
Огонь зашипел, будто на горячие угли плеснули воды.
– Старуха все знает, пошли за старухой, – выговорил он. – Коль старуха будет здесь, разузнаю все как есть.
Мирнатиус недовольно скривился:
– Да-да, хорошо. За ней можно послать, но ее привезут через день. А тем временем из-за тебя мне придется объясняться со всем честным народом. Ведь моя возлюбленная женушка куда-то сгинула посреди ночи. А этот восхитительный разгром? Чтобы здесь прибрать, мне нужен месячный запас силы, имей в виду. И мне все равно, что ты прогоришь.
Пламя взметнулось вверх так неистово, что заполонило весь камин и ринулось в трубу; оранжевый отсвет плясал на лице царя, но тот невозмутимо стоял скрестив руки. И вот огненная лента неохотно вырвалась из камина и потянулась к царю. Мирнатиус закрыл глаза и, запрокинув голову, раскрыл губы, а огненная струйка, щелкнув как хлыст, нырнула ему в рот. Его тело засветилось изнутри, и на мгновение я разглядела внутри его какие-то причудливые очертания и странные линии, змеившиеся под кожей.
Мирнатиус стоял напряженный, трепещущий под струей пламени. Наконец огненная лента окончательно оторвалась от камина и исчезла во рту у царя. Свет внутри его медленно угас. Мирнатиус открыл глаза; он покачивался точно пьяный, в каком-то бессильном исступлении, разрумянившийся, похорошевший.
– Аххх, – выдохнул он.
Огонь, только что бушевавший в камине, улегся.
– Дай мне ее, дай… – трескуче нашептывал он, но уже еле слышным, тлеющим голосом. – Я голодаю, я жажду… – Огонь померк и стих, в золе остались только горячие угли.
Мирнатиус повернулся к спальне. Он смотрел из-под полуприкрытых век и слегка улыбался. Подняв руку, он повел ею в небрежном широком жесте, и все обломки и щепки от мебели устремились на прежние места, все разорванные нити соткались в прежние покровы и занавески. Все это плясало в воздухе, послушное руке царя. А он смотрел и улыбался – той же самой улыбкой, с которой теребил в грязи мертвых белочек.
Наконец он опустил руку – неторопливо, плавно, словно играл на сцене перед публикой. Комната выглядела так, точно к ней никто не прикасался, разве что какой-то искусный мастер: резьба на спинке кровати сделалась более замысловатой, на покрывале появилась вышивка зеленой, серебряной и золотой нитями, и такая же вышивка украсила занавески. Мирнатиус удовлетворенно оглядел спальню и удалился, что-то напевая себе под нос. Он поглаживал кончики пальцев, как будто все еще ощущал ту силу, что вселилась в него.








