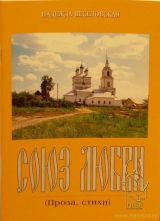
Текст книги "Союз любви (проза, стихи)"
Автор книги: Надежда Веселовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
На обед в Сочельник полагался винегрет с черным хлебом и по кружке клюквенного киселя. За столом сидели в молчании, хотя детям, как младшим, так и старшим, которых не отправляли на каток, а позволяли принять участие в предрождественских хлопотах, очень хотелось поговорить о завтрашнем дне. Но до Звезды полагалось молчать – мать семейства, дама восточного типа Надежда Ивановна Лепорская, еще не в нарядной, с кружевами и рюшами, но уже и не в обычной будничной блузе, выразительно поглядывала на всякого, кто пытался завязать разговор. Отца за столом не было – как протоиерей военной церкви Георгия Победоносца, он уже ушел туда готовиться к ночной службе.
После киселя кухарка Устя уносила со стола посуду. Бала она красная, запарившаяся – в кухне дышало тесто на дюжину больших пирогов. Правда, Устя знала, что в этом деле ей быть только на подхвате, а главным выпекалой заладится сама барыня.
В четыре часа Надежда Ивановна отдергивала занавеску, чтобы видно было первую звездочку. Глядя на нее – или просто в темь зимнего неба, если оно бывало пасмурным – все вместе пели "Рождество Твое, Христе Боже наш" и "Дева днесь Пресущественного рождает", после чего Надежда Ивановна уходила, приказав детям не выглядывать из комнаты. Дети знали, что сейчас она вместе с денщиком Филиппом /отцу, как военному священнику, полагался денщик/ будет устанавливать в зале елку.
Но даже не о дивной елке, украшенной звездами, сластями и крымскими яблочками, все мысли оставшихся в столовой детей. Главное – то, что ночью в специально открытую вьюшку печи должен влететь Ангел с рождественскими подарками. Он положит их в башмаки, которые надо с вечера поставить у печки.
Старшие дети, гимназист Андрей и институтка Наташа знают, кто принесет им подарки, но не знают, какие. Поэтому они тоже взволнованы и увлечены. Таня упоенно говорит об Ангеле, широко раскрыв свои темно-вишневые глаза:
– В прошлом году он принес мне куклу, а Грише и Лене – стадо маленьких овечек...
– Да, стадо, – двумя одинаковыми голосами откликаются белокурые мальчики-близнецы; их темперамент не столь горяч, но в обычно спокойных голубых глазах светится оживление.
– Ангел приносит подарки только хорошим, послушным детям, – увлекается Таня до звучащего в голосе неистовства. – А я?.. – вдруг испуганно обрывает она себя. – Я была хорошей девочкой?
Наташа не прочь обсудить этот вопрос, но дверь уже открывается и в столовую вновь заглядывает Надежда Ивановна:
– Можете выйти, но в залу не заходить. Учите уроки, читайте книжки. В девять часов Таня и мальчики – спать, Андрей и Наталья пойдут со мной в церковь, – И прежде чем закрыть дверь, добавляет с обрадовавшей детей улыбкой: – И не забудьте поставить к печке башмаки!
В постелях только и разговору, что об Ангеле. Но перед сном еще нужно сыграть в свою обычную игру, иначе куда деваться зайчикам, белочкам и пеночкам? И вот Гриша, откинув одеяло, важным голосом говорит:
– Пароход готов.
И сейчас же Леня начинает испуганно звать:
– Зайчики, зайчики! Все ко мне – сейчас отплываем!
– Белочки, сюда! – вторит ему Гриша.
– Пеночки, летите ко мне! – надрывается Таня, больше всех вкладывающая душу в эту игру. Кроме того, что ей было бы щемяще-жалко отставшую пеночку, Таня знает, что старается еще и ради папы: ведь это он прозвал дочку, которая любит петь, певчей птичкой – пеночкой. Папу своего Таня любит больше всех на свете, потому это слово ей особенно дорого.
Наконец пеночки слетаются, зайчики и белочки собираются на кроватях. И пароход отплывает – в завтрашний день.
В это время на кухне Устя ведет разговор с Филиппом, который зашел погреться перед тем, как пойдет в церковь.
– Прислуживать будешь на заутрене?
– Наше дело вертеп поставить, – отвечает Филипп, – Паникадила зажечь; а прислуживать пущай Андрюша.
– Известно, попович, – соглашается Устя. – А учиться, говорит, на доктора буду... Мне вот барыня нынче ходить не велела, – вздыхает она. – После отпустит, а покуда не одних же детей в дому оставлять.
–Ну и не ходи. – Филипп усмехается в усы, – Оставайся – может. Ангела увидишь, как он обновы те носит!
– Да я энтого ангела кажный день вижу! – всплескивает руками Устя. – Барыня наша хошь порой горяча, а все одно ангел. Ни единого праздника не пропустит, не подарив! – Расчувствовавшаяся Устя смахнула слезу кухонным полотенцем. – А уж его преподобие, так тот вовсе ангел во плоти...
– Ну, его преподобие... Я как попал сюда в денщики – месяц солдаты завидовали. Ты теперь, говорят, у Христа за пазухой... – и Филипп зашуршал мешком, вынимая из него старые поношенные сапоги»
– Принес? – лукаво спросила Устя.
– Велено! В новых-то я в церкву пойду, а энти для ангела.
– Ну, пойдем к печке, – говорит Устя, – и я свои поставлю, мне тоже велено.
Вскоре в доме воцаряется тишина. Наступает Святая ночь. Она окутывает поскрипывающий деревянный дом, в котором предстоит вырасти и состариться детям – всем, кроме Лени, убитого в сорок втором году под Можайском. Здесь они переживут тревоги и беды, испытают горькую нужду, отрадуют свою радость. Через много лет у еще не родившейся девочки Нади будет храниться щепочка, взятая при сломе этого дома на память... А пока на него спускается темнота, и в открытую вьюшку печи слетает Ангел; неслышно обходит комнаты, благословляет спящих детей, кладет в башмаки книги, игрушки, сласти; кусок ситца в козловые полусапожки, три рубля в солдатские сапоги...
Длится Святая ночь.
Всю свою жизнь баба Тата была верующей. Об Иисусе Христе она говорила с трепетом. Божьей Матери молилась с умиленными слезами, а из святых главным своим покровителем считала преподобного Серафима Саровского. Его прославление пришлось примерно на те года, когда маленькая Таня болела брюшным тифом. Тиф был тяжелый и осложнялся с каждым днем. Звезды медицины, памятники которым украшают ныне район, где до старости жила баба Тата, а тогда – просто молодые, энергичные доктора были приглашены на консилиум. Решение их вышло единогласным – молча, один за другим, они покинули детскую, отводя глаза, поклонились Надежде Ивановне... Маленькая Тата едва дышала – на ее щечки легли серые тени, ногти начинали синеть... Вне себя мать бросилась наземь перед иконой недавно открывшегося в своей святости угодника:
– Отец Серафим! Милостивый, добрый святой? Даю обет съездить к твоим местам, в Саровскую пустынь... спаси мою дочку!
На следующий день доктора вновь были собраны. Удивляясь, что младенец все еще жив, они вошли в детскую, выстроились вдоль кроватки и – застыли на месте, увидев это спокойно спящее, ровно дыщущее дитя, на котором явственно читалась печать выздоровления. Надежда Ивановна рассказывала потом: "Они мне говорят – это чудо. Я говорю – я просила преподобного Серафима Саровского. Они только перекрестились – Дивны дела Твои, Господи – а один даже заплакал. Слава Богу, говорят, теперь девочка будет жить.
Баба Тата жила после этого девяносто лет и редко когда об отце Серафиме без слез. Не особо склонная к анализу, она в старости серьезно, продуманно говорила: "На мне явлено чудо. В детстве ко мне прикоснулась риза отца Серафима". Когда они с Надей читали ему акафист, баба Тата всегда крестилась на словах: "Радуйся, ризою твоею многия недужныя исцеливый..."
Своего обещания съездить в Саровскую пустынь Надежда Ивановна так и не исполнила. Сперва она заразилась от выздоравливающей Таты тифом и на два месяца слегла. Потом дало о себе знать другое недомогание, в результате которого на свет появились близнецы. Первое время в доме было столпотворение, когда Надежда Ивановна качала Гришу, а специально нанятая нянька – Леню; на кухне денщик кормил Тату манной кашей; Андрей и Наталья ссорились в детской, не думая учить уроки, а Устя металась между неготовым обедом и стиркой.
Потом выдалось два-три года, когда, пожалуй, можно было исполнить обет... Но Надежда Ивановна ждала, чтобы дети еще подросли. Тут началась первая мировая война, и протоиерей Афанасий Лепорский, как военный священник, должен был отправиться с полком на фронт. Провожая его до поезда, Таня была в таком исступленье, что привлекала внимание прохожих. Простые женщины сочувственно покачивали головой: вишь, как убивается, болезная.
Потом пришла революция, борьба с классовыми врагами, голод, холод, непосильная работа... и снова война. Из всего этого вынырнула уже не Надежда Ивановна, а Таня, которую тоже звали теперь по имени-отчеству. А как же – не молоденькая уже, дочь вырастила. А там пошли внуки.
Баба Тата не раздумывая приняла на себя материнский обет съездить в Саровскую пустынь и часто тужила, что не в силах его исполнить. "Не пускают теперь к отцу Серафиму, – тосковала она при маленькой Наде, разделявшей все ее невзгоды и радости. – Закрыла советская власть это место, теперь там военные".
И вот в 1991 году грянула весть – мощи преподобного чудесным образом открылись, их повезут по крупным городам, чтобы верующие могли приложиться. Донельзя взволнованная баба Тата собиралась на вокзал – встречать отца Серафима, "который сам теперь едет к нам". Надя собиралась с ней, хотя задыхалась от тяжелой простуды, какие случались у нее каждый год, и к тому же не знала, с кем оставить маленького сына. Родители не советовали ей ехать – ведь святыню все равно доставят в Елоховский собор, где она будет находиться три месяца. Хватит времени выздороветь и прийти...
– Как вы не понимаете, мы хотим встре-чать, – раздельно произнесла баба Тата, округлив свои выразительные глаза. – Мы хотим видеть, как на нашу землю... мощи отца Серафима... – расчувствовавшись, она была готова рассказывать все сначала, от брюшного тифа.
– Но Надя совсем простужена!
– Я тоже хочу встречать, – подала голос Надя. – Я столько раз слышала, что нельзя ехать в Саров – но уж на вокзал-то можно... И вообще, мы там будем совсем недолго: только увидим – и сразу домой.
На том и порешили.
Раннее утро было холодным, но не крепко-морозным, а скорей пронизывающим сыростью. У запертых ворот на платформу толпились люди – сперва немного, но число их быстро росло. Вскоре Надя и баба Тата были уже не с краю, а в середине ожидающих. Поезд к назначенному времени не пришел и никто не знал, когда его ждать. Два молоденьких милиционера, охранявших ворота, пожимали плечами: "Мы ничего не знаем. Нам не сообщено. Ваше дело – стойте хоть до вечера".
Толпа волновалась, но не рассасывалась. Все чаще люди пробивались к воротам с намерением попасть на платформу.
– Пригласительный билет, – требовали милиционеры.
– Я священник.
– Ваши документы... идите.
– Роман, Роман! – звала пожилая звонкоголосая женщина пробивавшегося сквозь толпу мальчика. – На вот, отнеси папе стихарь, – совала ему в руки какой-то сверток и проталкивала юного поповича в ворота, чтобы получил большую долю святости, встретив мощи прямо из вагона.
– Иди, кисанька, ты замерзла, – заметила баба Тата.
– А ты как? Выстоишь одна?
– Неужели нет, – баба Тата всегда бодрилась, но в данном случае, пожалуй, не преувеличивала свои возможности. – Иди, а то будешь потом болеть...
Обняв ее поверх толстого пальто, Надя заработала локтями и скоро уже шагала по вокзальной площади. Правду оказать, она чувствовала облегченье – сейчас будет теплое метро, которое доставит ее домой, там – горячий чай, аспирин; если температура высокая, можно и в постель лечь. Сейчас, сейчас... вот уже и пересадка. Надя еще могла заскочить в поезд, но почему-то села на скамейку ждать следующего. А потом почему-то перешла на другую сторону и снова поехала на вокзал. Зачем, она и сама не знала: неужели ради того, чтобы вновь перемолвиться с бабой Татой? Или чтобы стоять до вечера?
Первое, что она увидела по выходу из метро – выплывающий из-за угла высокий фонарь с цветными стеклами, а за ним – парные золотые хоругви. Крестный ход! Взбежав на сугроб и вытянувшись на цыпочках, Надя сумела разглядеть большой образ преподобного Серафима, украшенный живыми цветами и крест, также в живых цветах... дальше стеклом и золотом блеснул ларец с мощами, и снова хоругви, а потом – темные головы повалившего вслед народа...
– Ну что, встретили? – открывая дверь, спросила Надина мама, остававшаяся все это время с малышом. – Привезли мощи? А крестный ход был?
– Все было, все видели. Отец Серафим милости прислал! – в пояс поклонилась баба Тата дочери и малолетнему правнуку, игравшему на полу посреди разбросанных кубиков.
–Ну, а ты как?
Надя, забывшая в последние полчаса о своей простуде, вдруг с изумлением обнаружила, что от нее ничего не осталось: ни головной боли, ни насморка и щекотки в горле, ни ломоты в костях. На следующий день она окончательно поняла, что совсем здорова. Больше того – не с этого ли времени у нее вообще прекратились мучительные простуды?
До революции баба Тата два года проучилась в Александро-Марьинском институте благородных девиц. По рангу он был московским аналогом Смольного. Его основала императрица Мария Федоровна, супруга Александра III – эти два имени и дали институту название.
– Как же вы там учились? – спрашивала Надя.
– Было две классных дамы, – охотно рассказывала баба Тата. – Одна весь день говорила с нами по-французки, другая свой день – по-немецки. А учителя само собой – вели уроки словесности, арифметики, истории. Танцмейстер приходил: ножку так, ножку так... А в старших классах девочек учили и шить, и готовить, и дом вести. Мне уж не довелось...
Из этих и других рассказов на Надю глядел большой темноватый из-за опущенных штор коридор, по которому парами шли девочки в длинных зеленых платьях. На рукавах и вокруг шеи белели жестко накрахмаленные оторочки. Все девочки были гладко причесаны и все как одна держались прямо – в программу воспитанья входило каждый день по часу держать за спиной скалку. Дисциплина царила строгая – даже выбившийся из прически завиток мог стать предметом взыскания. Так что шалить и проказничать оставалось втайне.
В столовой, построившись по классам, долго читали и пели молитвы. Потом рассаживались за длинными столами. Классная дама брала половник и тарелки с горячим супом плыли по рукам девочек в самый конец стола. Последней получала свою порцию та, что сидела возле классной дамы.
Однажды баба Тата из троллейбуса показала Наде невысокое желтое здание старинного типа, стала называть окна: прямые на втором этаже – дортуары, закругленные внизу – столовая, самые большие – зала.
– В зале проходили всякие торжества, – рассказывала она, и Надя подмечала в ее углубленных воспоминаниями глазах искорку детского интереса и детской же почтительности. – Например, выпуск. Кто кончал наш институт на отлично – получал бриллиантовый шифр императрицы. С ним можно было посещать все придворные балы... А девочек у нас принимали не ниже семьи полковника.
– Как же тебя взяли?
– За меня хлопотала одна дама, преподававшая там музыку... И офицеры папиного полка. Знали, что с его жалованьем не выучить всех детей, вот и пропихнули меня на казенный счет. Милый мой отец... – умиленно вздохнула баба Тата. – Его не только что офицеры – все солдаты любили: наш батюшка. Он в жизни никого не обидел. А вот был там еще священник, отец Рафаил, так тот придирался к солдатам и жаловался начальству. И когда пришла революция – они все на германском фронте были – Рафаилу сразу – пулю в лоб, а моему папочке выдали охранную грамоту – совет солдатских депутатов просит содействовать возвращению в Москву гражданина Лепорского А. Г. Так его любили...
– И когда паспорта выдавали, да? – спрашивала не первый раз слушавшая Надя.
– Что ты? Мы дрожмя дрожали, когда пришло время получать паспорта. Вот, думает, придут папа с мамой в домком, а там скажут – поп пришел, давайте его на высылку!.. А папа сан не снимал, – поясняющим голосом вставляла баба Тата. – Не служил уже, церковь сломали, но оставался священником. Вот и скажут – нечего попам здесь делать. Насмеются, надругаются и велят в двадцать четыре часа убраться из Москвы,
– А вышло как?
– А вот слушай. Пришли папа с мамой в домком, там за столом с красной скатертью сидят члены комиссии: сапожник наш, извозчик знакомый, дворник с соседнего двора... Все папу знают, помнят, как он всегда с ними кланялся, на чай давал, хоть мы и сами небогато жили. И мама тоже – она не такой мягкой была, но все по чести: нашалит, бывало, Андрюша, испортит что у кого, сломает – всегда платила. Хоть и поди докажи, кто из мальчишек виноват...
– Ну, а дальше? – торопила Надя возвращенье рассказа в его основное русло.
– Ну вот: пришли они, поджилки у них трясутся, а домкомовцы говорят: пожалте, Афанасий Григорьевич, Надежда Иванна – и выдали им паспорта...
Каждый рассказ бабы Таты делал живым определенный отрезок времени, который без того мог бы остаться для Нади сухим текстом учебника истории. Как внутри многолетнего дерева сердцевина окружена все более расширяющимися кольцами, так и опыт человека должен соприкасаться с памятью других поколений /самое широкое кольцо через много промежуточных граничит с внутренним/ и покрываться общей корой – готовностью хранить все свои слои в их единстве и монолитности. Это и есть историческая память народа, обретающая свой сокровенный смысл как раз через память рода, семьи.
Много лет баба Тата посещала лоскуток земли внутри железной кружевной ограды – могилы на Новодевичьем кладбище. Хлопотала, чистила, красила – осенью сгребала лист, весной сажала цветы, на Рождество приносила елки, на Радуницу – красные пасхальные яйца; даже привезла горсть земли с братской могилы из-под Можайска, чтобы и воин Алексей имел свою часть в общем родовом пристанище. И вот пришло время ей самой успокоиться здесь, передав память рода в более молодые руки. Как она желала, на похоронах присутствовали все ее правнуки, вплоть до трехлетней малышки, названной в ее честь Татьяной. А кладбищенский мастер не имел в тот день черной краски и поэтому сделал заказанную надпись медью: золотые по цвету буквы радостно засияли на белой плите, обозначили имя, отчество, фамилию, даты жизни усопшей, а потом сложились в три не совсем обычных слова:
НАША БАБА ТАТА
СВЯТАЯ РУСЬ
РУССКИЙ СЧЕТ
Что такое есть "один"?
Это значит – Бог един.
Ну, а что такое "два"?
Стал Он Богочеловеком,
Два в Нем было естества.
Так считай, дойдем до трех.
В лицах трех – Единый Бог.
Смысл такой тут кроется –
Пресвятая Троица.
Словно крылья ангелья,
Четыре Евангелья.
Пред Распятым падай ниц.
На Распятом пять язвиц.
На руках – следы гвоздей.
На ногах – следы гвоздей.
А еще меж ребер рана,
Все Он вынес за людей!
Дальше счет ведет стихира:
За шесть дней – созданье мира.
Семь – собор святых отцов.
Восемь у Креста концов.
Девять чинов ангельских,
Также и архангельских.
Десять Заповедей Божих.
Посмотри-ка – даже счет
Русь на святость переложит,
С Православием сплетет!
Х Х Х
Как лица женщин в церкви хорошеют!
Льет свет на них высокий потолок,
На лист похож касающийся шеи
Повязанной косынки уголок.
Они стряхнули праздное, пустое:
Тщеславья пыль, обыденности след.
На них печать традиций и устоев
Лишь оттеняет женственности свет.
Быть иль не быть? Вопрос издревле главный.
Но не поглотит разума разлад,
Пока под оводом церкви православной
Молящиеся женщины стоят.
Надежда Веселовская
НИКОЛАЙ УГОДНИК
Исцелить ли душу пожелай,
Устоять ли в горести тяжелой -
Не отринет просьбы Николай,
На Руси зовущийся Николой.
Он – заступник бедных и сирот,
Всякой справедливости оплот.
Сухощав, стремителен и прям,
С небольшой бородкой поседелой,
Николай всегда являлся там,
Где должно свершиться злое дело:
Отмыкал темницы без ключа,
Не давал разбойникам покою,
Страшный меч убийцы-палача
На лету задерживал рукою...
Скор на помощь он в любой беде.
Милостыню подает в нужде...
И в честь Николая
Во дни урожая
Народный обычай таков:
Останется в поле
"Бородка Николе" –
Нетронутый ряд колосков.
Для старых, для малых,
От странствий усталых,
Бредущих с чужбины домой.
Для сирых, убогих –
Для многих и многих,
Кто ходит с холщовой сумой.
В нерадостной доле
"Бородка Николе"
Ослабит и голод и гнет,
Как дар от Святого,
От люда простого
Бедняк подаянье возьмет.
Надежда Веселовская
РОЖДЕСТВО
Во всем имеет
дед Мороз достаток.
Но вот рисует каждый раз одно:
Еловой ветки
светлый отпечаток
В морозный день гофрирует окно.
Живет природа в вечной круговерти:
Слетит
и вновь рождается листва,
Лишь елка,
чей покров не знает смерти,
Знак вечности
и символ Рождества.
На фоне стекол, стынущих сурово,
В алмазах, в блеске – елки негатив,
И вся зима –
в честь праздника Христова,
И Он грядет –
Божественное слово,
И даст бессмертье,
землю просветив.
ГОВОРЯТ ВОЛХВЫ
/Рождественское стихотворение/
– Мы звездочеты, мы провидцы,
Мы в тайны все посвящены.
Идем Младенцу поклониться
Мы каждый из своей страны.
– По гласу Божьего веленья
Ведет нас яркая звезда –
Через пустыни и селенья,
Через леса и города.
– Прозреньем движимы во всем,
Дары Младенцу мы несем.
– Он – Царь царей; и значит, надо
Нести Ему в подарок –
злато...
И вот оно, горит как жар,
Богомладенцу первый дар!
– А я несу совсем иное:
Благоухающий сосуд,
Здесь смирна.
Смирну и алоэ
При погребенье возлиют.
Увы! Я знаю наперед:
младенец за людей умрет.
Но посрамятся ложь и злоба,
И Он воскреснет ото гроба!
– Он – Божество, и оттого
Несу я ладан для Него,
Ведь ладан жгут во славу Бога,
Он – ароматная смола...
–Смотрите! Кажется, дорога
Нас в новый город привела.
– Звезда – ни с места.
– Значит, тут. Пусть нам ворота отопрут...
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
В трудах и изнурительной борьбе
Христианин стяжает совершенство.
Блажен, кто нищ желаньями к судьбе,
И кротким уготовлено блаженство.
Блажен, кто мучим совестью своей
За все дела,
где был неправ и грешен -
Чье покаянье
горше и полней,
Тот первым будет
радостно утешен.
Блажен, кто жаждет правды.
Ибо он
Узрит ее победу во вселенной.
Ложь, озлобленье – радости заслон.
Все люди, сердцем чистые –
блаженны.
Те, кто бывал за Истину гоним,
В духовном свете вечности
пребудут.
Блаженны милостивые – они
Когда-нибудь помилованы будут...
Блаженны миротворцы...
Смерти нет
Идущим добродетельной стезею...
Дочитан древний перечень-завет
И время говорить
с самим собою.
Надежда Веселовская
ПОМИНАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Идут года, теряют люди близких,
И вот старухи слабою рукой
Выводят поминальные записки,
Где значится вверху:
"За упокой".
За все они пред памятью в ответе!
Начнут с отца и матери своих,
А дальше – муж,
невыжившие дети,
В войну пропавший без вести жених...
Все имена спешат соединиться,
Сплестись в одну – незыблемую – суть;
Растущий список длинной вереницей
Среди листа прокладывает путь...
За ним лежат бескрайние просторы,
Туманной дымкой скрытые вдали...
А сам он служит
точкою опоры
Общения умерших
и земли.
БАБА ТАТА
Мне б ни серебра ни злата,
Ни какой красы иной.
Мне бы только – баба Тата
Навсегда была со мной.
Детству чуждого не надо,
Знаю истину душой;
Если рядом баба Тата –
Все на свете хорошо...
Вот прошли десятилетья,
Изменилось бытие,
Бабы Таты нет на свете,
Я же чувствую ее.
Только дом угомонится,
Замолчит в преддверье сна –
Все отступит, растворится
И останется – она.
Детство с Вечностью – соседи,
Вот и вышло, как тогда:
Что б ни делалось на свете,
Баба Тата – навсегда.
Надежда Веселовская
В СЕРАФИМО-ДИВЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
Как цветут в Дивеево цветы!
Флоксы в шапках розового цвета,
Пышных мальв высокие кусты
Чуть дрожат-колышатся от ветра.
Ноготки, петуньи, резеда,
Пышные гвоздики в три ряда,
Легкий рой ромашек разноцветных,
Чуть подальше – лилии вразброс,
Горделиво поднятые ветки
Держат свертки нежно-желтых роз...
Богомольцам просто благодать
Выходя из храма, отдыхать.
Дети так и бегают по травке
Меж цветочных грядок и куртин.
А вон там, за мальвами, один
Старичок в потертой камилавке,
В белом балахончике простом
И с большим,
поверх него,
крестом,
С детворой играет в салки, в прятки,
Кружит по дорожкам цветника...
Детям строить незачем догадки.
Взрослые не видят старика.
ДУХОВ ДЕНЬ
На Духов день,
едва начнется лето,
Как было с незапамятной поры,
Особый дождь -
сквозной и полный света
Несет на землю
свышние дары.
Шумят деревья, радуются травы,
Земные силы будятся от сна –
Сегодня кистью молнии кудрявой
Святая Русь с небес окроплена.
Х Х Х
Лес замер, дымкой солнечной об"ят.
В сплетенье веток бьют лучи тугие.
И чинно и торжественно стоят
Деревья, как во время Литургии.
И пахнет по церковному – смолой,
Нагретым крепко ладаном сосновым,
И впереди – торжественный налой
Под златотканым солнечным покровом.
Так в бесконечном следованьи дней
У всякой жизни, с нашею соседней;
У птиц, деревьев,
даже у камней,
Все так и начинается – обедней.
Нам недосуг, томительно и лень;
О, твой свободный выбор, человече!
А все живое,
славя новый день,
Кладет поклон
и зажигает свечи.
Надежда Веселовская
ГЕОРГИЙ
Чудовище – чешуйчатый дракон,
Прищурившись,
как будто сам лукавый,
Встал на дыбы -
но есть такой закон,
Что в страшной схватке
побеждает правый.
Глаза дракона – два сосуда зла,
А тело вьется,
словно в вихре оргий,
И тут не меч,
копье или стрела
Страшны ему -
а только сам Георгий...
Ничто не дрогнет в воине святом!
Он безупречной Истиной проникнут...
И бьет дракон поверженный
хвостом,
И два огня
в очах бесовских никнут...
X X X
Не так легко
задуть свечу России!
Там, где царит иное бытие,
Монахи, старцы, схимники святые
Воительствуют с адом за нее.
Там преподобный Сергий неустанно
Отмаливает праведность Руси.
Там ангелы едиными устами
О ней взывают:
Господи, спаси!
И там, для зла губительный и грозный,
Военачальник всех небесных сил,
Стоит с мечом Архангел Михаил.
А по преданью,
он России – крестный.
ЖИВАЯ ИСТИННОСТЬ СКАЗАНИЙ
X X X
Люблю твердить названия народные!
Душе светлей становится от слов:
Дурман-трава,
калужница болотная,
Гусиный лук,
речной болиголов.
Иван-да-Марья – брачные соцветия,
Чистяк болотный,
чина,
череда,
Татарник – красный памятник столетия,
Когда деревни грабила орда...
Бессмертник – вечный символ упования,
Фиалка-любка – стройная свеча.
Живой водой
от каждого названия
Напьемся,
как от чистого ключа.
Поля, леса, трясины непроходные –
Все обошла родимая молва.
Пока звучат названия народные,
Жив наш язык.
И Родина жива
X X X
Твердь литая,
доблесть славная!
Русь святая православная!
Ты в потемках,
вроде семени,
В нас, потомках,
спишь до времени.
И забьет потом,
как колокол,
И взойдешь цветком
и колосом,
И красу свою нетленную
Возвестишь
на всю вселенную...
Х Х Х
Там русский дух,
Там Русью пахнет!
А.С.Пушкин
Снова хочется ведать клады,
Знать сокрытую силу трав,
Петь старинные были-склады,
Горстью жемчуга их собрав,
Мерить бархатные уборы,
Любоваться на их узоры,
Да заглядывать в сундуки,
Что стоят у бабы Яги.
Словно рядом стена какая,
А за ней – отодвинь засов –
Русь давнишняя, колдовская,
Русь чудес и глухих лесов.
Русь немереного раздолья,
Русь Буяна и Лукоморья,
Русь кикимор и водяных,
Змей Горынычей и иных...
Русь, не знавшая потрясенья,
Безрассудная в те лета,
Но почуявшая спасенье
В славном знамении Креста.
Русь, что, сделавшись православной,
Укротила порыв свой нравный,
Чтоб взамен колдовских огней
Свет лампад засиял на ней.
ПЛАКУЧАЯ БЕРЕЗА
Слилась береза с Русью воедино,
И по лесам растет, и по долам;
Ведь все года,
где горе и кручина,
С родной землей
делила пополам.
Когда пожар горел до ослепленья
И уводили русичей в полон,
Вокруг взошло, наверно, поколенье
Берез плакучих,
с ветками внаклон.
Но чем они, казалось бы, покорней
Склонялись долу,
пряча рост и стать,
Тем глубже в землю впутывались корни,
Чтоб средь ветров разбойных
устоять.
И так же,
трепеща под тучей черной,
Сгоравшая едва ли не дотла,
Бывала Русь
подавленной и скорбной,
Но сломленной
вовеки не была.
Х Х Х
Высокий ствол отблескивает чисто.
Сучки на нем намечены едва.
А наверху,
как звонкое монисто,
Дрожит чеканно-круглая листва.
Не зная в древнем ужасе остуды,
Дрожа без ветра,
в печке не горя,
Живет на свете
дерево Иуды,
Что годно
лишь на кол для упыря...
Сорвешь да покусаешь листик – горько!
Но, все простив осине наперед,
Ее поутру розовая зорька
Сквозяще-нежным светом обольет.
И в этот миг расторгнется нежданно
С былым злодейством пагубная связь,
И вновь осина
кажется желанна
Всему вокруг,
с чем свыклась и сжилась.
МАСТЕРАМ
На земле – естество,
над землей – волшебство,
А звеном, что меж ними
издревле блестело,
Нам в наследство от предков
пришло мастерство,
Завершенье искусное
всякого дела.
Нужен меч-кладенец, чтоб осилить врага,
Нужен ключ расписной,
чтоб распались затворы.
Дышит сдобой
воздушная плоть пирога,
На холстах
петухами краснеют узоры...
Вникни в дело
и внутренне весь соберись.
Выжидай:
а в последний момент напряжения
Ухвати
промелькнувшие образ и мысль,
Не просрочь
подоспевшего к месту движенья!
Это – древняя битва,
живая игра








