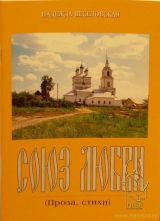
Текст книги "Союз любви (проза, стихи)"
Автор книги: Надежда Веселовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Конечно, Вера тоже любила деда, преданность которого была для нее в порядке вещей. Но как всякой девочке, выращенной "под солнцем любви", как сказал какой-то писатель, ей хотелось поскорее стать взрослой, открыть для себя новые горизонты. Она рвалась из детства к той долгожданной новизне, которую теперь наконец ощутила и поняла, что эта новизна настоена на горьком привкусе разочарованья.
Когда-то дед, горделиво вздернув подбородок, говорил, что "придет пора, за тобой будут ухаживать молодые люди". По его виду совсем еще маленькая Вера отлично поняла суть сказанного и все нетерпеливее ожидала с годами его воплощенья. Она была хорошенькой и спортивной (не зря посещала в детстве секции), но удачи в личных делах все не приходило.
Может быть, тут сыграла роль повышенная требовательность, заложенная опять-таки дедом: он приучил Веру к тому, что всякое ее слово слушалось со вниманием, а всякое желание исполнялось.
Поступив в институт, она с надеждой оглянулась вокруг, но ничего для себя приятного не увидела. Некоторые студенты казались ей инфантильными, некоторые – чересчур хищными; старшекурсники и аспиранты уже успели обзавестись женами, а то и детьми, хотя в отношениях с девушками данным обстоятельством не смущались. Свое вниманье они расценивали как подарок, не сомневаясь в том, что он будет благоговейно принят. Вера же не могла понять, что за радость идти на сближение с уже определившим свой выбор человеком, тайно встречаться с ним, делать от него аборты или, если уж очень повезет, оторвать это сокровище от жены и беречь пуще глазу. При всем том студенты данной категории не отличались особыми достоинствами в смысле обаянья, внешности или ума. Вера сама их в этом превосходила.
Институт как храм науки тоже не оправдал ожиданий: усредненно-скучные задания давались легко, но не оставляли чувства удовлетворенья. Между тем для многих они оказались трудными и основной педагог, она же куратор группы Александра Ивановна с завидным спокойствием объясняла одно и то же по десять раз. Вера подумывала о свободном посещении, но потом узнала, что до первой сессии его не дают.
В общем, едва начавшаяся самостоятельная жизнь оказалась на деле совсем не такой, какою виделось из детского далека. И тут на Веру обрушился главный, самый страшный удар – рядом с ней уже не было деда. Сперва она не могла этого осознать и чувствовала себя так, словно он уехал куда-то гостить (такое, хоть и редко, случалось). Потом Вера очень соскучилась по нему, затосковала и наконец поняла, что это – по-настоящему, навсегда. Она еще и еще соскучится, с ума сойдет от тоски, а его всё равно не будет.
Стали щемить воспоминания, высвечивающие то, что раньше проходило незамеченным. Каждую пенсию дед выдавал ей – как маленькой, так и уже большой – определенную мзду на расходы. И вот теперь она решила сама устроиться на работу, чтобы иметь собственные деньги, предназначенные д л я д е д а. Ну, хотя бы на памятник. Правда, памятник на могиле уже стоял, но Вера просто не знала, на что еще эти деньги могли пригодиться... В конце концов её дело заработать. Приняв на себя эти новые труды, Вера стала ближе чувствовать деда – ведь человек всегда связан с тем, о ком заботится.
В это время началась дружба с Маней, тоже искавшей для себя работу. Маня ориентировалась быстро – вскоре ее стараньями они обе оказались сговоренными на ночные дежурства в детдоме. Платили мало, но дело было понятным и неопасным. Существовал еще вариант – служащими в Макдональдс, где заработки обещали быть больше. Но Вера в ответ на это сообщение не встрепенулась, и девушки с молчаливого согласия утвердили для себя детдом.
Жизнь стала хлопотливой и утомительной. В свои рабочие дни, три раза в неделю. Вера с Маней оставались в институте допоздна, прячась от охранников и дежурных, чтобы не выставили на дождь – осень выдалась холодной и мокрой. Заезжать домой не было смысла: Верина мама, не одобрявшая затею дочери, грозилась просто не выпустить ее вовремя из квартиры, а Маня, задешево снимавшая угол, избегала лишний раз мозолить хозяевам глаза. Тем более не одна, а с подругой.
В детстве Маня обожала нянчить малышей, играть в дочки-матери, укачивать на руках кукол. Поэтому она выбрала самую младшую в детдоме группу – шестилеток, только что поступивших из Дома ребенка. Пела им перед сном деревенские баюканья и пыталась рассказывать сказки, которых дети не понимали. Они не привыкли слушать никакое повествование, потому что до сих пор им никто ничего не рассказывал.
Похожее получилось и у Веры в более старшей группе. Она пыталась разговаривать с мучившимися бессонницей, успокаивала вскрикивающих во сне, плачущих в подушку. Главным её аргументом было то, что жизнь похожа на зебру – за темной полосой следует светлая. А дети не понимали ее, так что потом Вера перешла на самые простые слова: "Ну что ты...", "Ну успокойся..." "Ну ничего, ничего..." И это действовало, дети успокаивались.
Получили первую зарплату – смех, кошачьи слезы. "Лучше, чем ничего", – философски заметила Маня и умчалось на рынок за дешевой крупой и за колготками – главной статьей расхода, потому что рвутся быстро, а стоят дорого. Вера свои деньги убрала в специально приготовленный конверт, потом еще добавила туда со стипендии, которую родители у нее великодушно не забирали. Подсчитала – до памятника далеко. Этот памятник, давно уже стоящий на своем месте, стал теперь для Веры неким символом, мерилом затраченного труда.
Однажды она увидела монашку, держащую у груди деревянный ящик для милостыни. С этого ящика на Веру взирал с детства знакомый старичок в высокой священнической шапке, перед которым они с дедом когда-то ставили свечи – до тех пор, пока мама не запретила ходить в церковь. Дед называл его – "мой святой".
Опуская в щель ящика свернутую вчетверо десятку, Вера расслышала, что монашка вроде ей что-то говорит. Вера склонилась к ее морщинистому, оказалось, нестрогому лицу, обращенному со всех сторон черной материей – рядом на автостраде вовсю ревели машины.
– Как зовут тебя, дочка, скажи!.. Имя свое скажи! – выкрикнула монашка неожиданно звонким голосом.
– А зачем? – удивилась Вера.
– Помолюсь за тебя!.. О твоем здоровье!..
– А вы можете, – закричала Вера в то место черной материи, за которым должно было находиться ухо. – Можете помолиться о человеке, который уже умер?
Выяснилось, что можно. Вера назвала имя деда и смотрела, как монашка, шевеля губами, записывает его в возникшей откуда-то из складок одежды школьной тетрадке.
– Молитва покойным – что дождь, греховные язвы орошающий. – Это было сказано в благодатной тишине, наступившей оттого, что машины замерли у светофора. – А милостыня за них – им богатство.
С того дня проблема "памятника" была решена: отныне он воздвигался в особом виде – нерукотворный, как сказал Пушкин. После Вера не раз встречала это слово в церковных книгах и поняла, что оно относится не только к искусству. Нерукотворный значит ДУХОВНЫЙ. Первая икона, возникшая оттого, что Христос отерся полотном, на котором осталось изображение, – называется Спас Нерукотворный.
"Дедовы деньги" она носила теперь с собой в кошельке, в особом отделении, чтобы не путать с другими. И раздавала встречным нищим-старухам, калекам, женщинам с детьми. Для детей Вера старалась покупать сладкое – булочку, конфету – чтобы поддержать в них не только физические силы, но и слабеющий интерес к жизни. Ребенок с недоумением взирал на вложенную ему в ручку конфетную красоту – он привык разве что к тусклым, захватанным потными руками монетам. Во всяком случае, они должны были казаться ему таковыми, думала Вера.
Этой осенью на дачном участке Кореневых яблони дали небывало обильный урожай. Казалось бы, собирай да радуйся; но возить в город было тяжело. Электричка, потом еще автобус... Родители махнули рукой – "Всё равно не съедим". Но Вера знала, что тяжесть её сумок в скором времени растворится по нищенским мешкам, по немытым детским ручонкам, протянутым за милостыней. Яблоки были как на подбор – крупные, поскрипывающие от здоровых соков. Новобранцы, готовые вступить в бой с детским авитаминозом. А когда Вера, нагруженная, как ишак, плелась на электричку или к дому, над ней ощутимо веяла невесомая, словно золотой осенний лист, улыбка деда. Он был доволен, что его имя сопрягалось с еще одним добрым делом.
Когда-то в детстве дед водил Веру в церковь. Сперва они ставили свечку перед тем самым старичком, вопрошающе-строго и в тоже время ласково глядящим из-под высокой священнической шапки. Дед называл его "Мой святой".
После этого шли к иконе, где в полный рост стояли три девочки – в красном, зелёном и голубом – а сзади всех троих обнимала их мама, в неяркой светлой одежде. "Вот и твоя святая" – указывал дед на старшую из девочек. Как и сестры, она подняла глаза вверх, в небо, а её красное платье, казалось, поблёскивало искрами.
– Почему у нее платье горит?
– Горячая вера, пламенная вера, – непонятно отвечал дед. – А вот надежды цвет зеленый, будто травка весной. Вера в красном, а Надежда в зелёном. А Любовь в голубом, как небо... потому что любовь возносит до небес.
Чем непонятней дед говорил, тем интереснее было его слушать, по-своему представляя себе всё неподдающееся объяснению. В детском сознанье Веры так и осталось эти три символа: поблёскивающие язычки пламени, сочность первой травки, нежная голубая высь. И вокруг всего этого – светлая неяркая дымка, обволакивающая чем-то спокойным и мудрым, изначально-родным, как песня над колыбелью...
Но вскоре дед перестал водить Веру в церковь и рассказывать ей о святых – "заступниках и благотворителях наших", как он называл в приливе красноречия. Мама сказала: "Если хотите заниматься ребенком, исключите всю эту мистику". Вере хотелось спросить, что такое мистика, но взрослый было не до неё – спор разгорался с каждой минутой. В комнату прошёл отец, а Веру оттуда выставили. В тот вечер она так и заснула в уголке на ковре, неуложенная, решив для себя, что мистика – это нечто вроде мастики, которой натирают пол.
С тех пор дед больше не заговаривал о церкви – видимо, дал слово молчать до Вериного совершеннолетия. Недаром его любимой присказкой было: "Вот исполнится тебе восемнадцать лет..." Но даже на сегодняшний день этого еще не произошло.
После первых, самых горестных дней, встал вопрос, куда девать дедовы вещи. Мама предлагала вынести их из квартиры, но не выбрасывать в помойку, а разложить неподалеку: вещи еще вполне приличные, какой-нибудь пенсионер вполне может подобрать что-нибудь для себя. Надо отдать свёкру должное, одежду он носил аккуратно. Но отцу не понравилось, что вещи его отца должны оказаться пусть и не в самой помойке, но где-то в её радиусе – он предлагал отвезти их на дачу и сжечь: "по крайней мере не выбросим". Вера упрашивала оставить одежду деда как память и дошла до такого исступленья, что плащ, пальто, пиджаки, а заодно портфель и фонарик перекочевали в ее личный шкаф. Там они были в безопасности. Прижимаясь лицом к поношенной ткани, Вера впитывала не выветрившийся, годами скопленный запах пожилого сухощавого человека, аккуратно носившего одежду и вообще умеренного в потребностях... Она закрывала глаза и ей казалось, что дед гладит её по щеке...
"Молитва покойным – что дождь, греховные язвы орошающий. А милостыня за них – им богатство", – сказала тогда старушка, впервые наставившая Веру на путь нерукотворного памятника. Из этого следовало, что вещи деда надо раздать, чтобы и через них творилось добро, связанное с его именем. Так Вера попала на церковный двор, где одела двух мерзнущих нищих, а после зашла и в саму церковь.
Навстречу ей хлынуло зеркальное отражение того, что с давних пор хранилось под спудом воспоминаний: высокие стены, закругляющиеся кверху гладкими арками, цветная роспись, позолота подсвечников. Тот же старичок, святой деда, ободряюще-ласково заглянул на нее из-под строгих бровей. Впереди что-то пели, что-то читали; воздух, нагретый дыханьем многих людей и огоньками горящих свечек, отдавал широко растворившейся сладостью церковных курений.
Так началась для Веры новая жизнь с новыми заботами: по будням забежать в церковь до института, в воскресенье выстоять службу, на которой она всегда починала деда. А еще чтенье. За свечным ящиком продавались православные книги, постепенно собравшие все Верины наблюденья, воспоминанья и догадки в одно целое. В то самое, что хотел сказать ей дед и не мог, придавленный бременем вынужденного молчания.
Там же за ящиком Вера приобрела "Молитвы об усопших", которые положила себе прочитывать каждый день. Случались дни, когда на это трудно было подняться – не хватало времени, сил, вечером хотелось спать, а утром ждали дела. Зато потом она чувствовала себя так, словно протерла мутное стекло, за которым угадывался облик деда. Предстояло протереть сотни, тысячи таких стекол, чтобы окончательно отделить от него всю серую муть.
– Простите меня, – произнесла после паузы внимательно слушавшая Александра. – Выходит, ваш дед не был хорошим человеком?
– Почему? – встрепенулась Вера. – С чего вы...
– Я знаю, что, по христианскому учению, хорошие люди и так попадают в рай. Зачем же столько сложностей – молитвы, поминанье, "нерукотворный" памятник?
Вера, а также Маня, хотели ответить, но Александра предупреждающе выставила вперед ладонь:
– Одну минуту. Я живу по законам логики и хотела бы разговаривать на ее языке. Вы согласны, что хорошему человеку после смерти обещан рай?
С этим они были согласны.
– Следующий вопрос: можно ли считать таковым вашего деда?
– Можно! – вздернула подбородок Вера.
– Следовательно, ни в какой помощи он не нуждается.
Несколько секунд было тихо – девочки искали слов, чтобы облечь в них свое несогласие. Но логика есть логика, с нею просто так не поспоришь.
– Дело в том, что понятие "хороший" неоднозначно, – наконец нашлась Вера. – В церковном смысле это все равно что святой. Святым, естественно, не нужна наша помощь, это они нам благодетельствуют...
– Святые не пример,– сухо сказала Александра, вообще сомневавшаяся в их существовании. – Будем рассуждать, исходя из человеческих возможностей.
– Так они ж как раз люди, – вмешалась Маня.
– Если люди, то необычные.
– Сделали себя необычными, – подхватила Вера. – А жили в тех же условиях, что и мы. Сама Богородица человеческого происхожденья.
– Она не считается Божеством? – удивилась Александра.
– Она сочетает земное естество с добродетелями, превосходящими небожителей, – медленно ответила Вера, стараясь вспоминать формулировки недавно прочитанной книги – "Земная жизнь Пресвятой Богородицы". – Она соединяет небо и землю, божеское и человеческое для спасения людей.
– НУ хорошо, – сказала Александра. – Но мне хотелось бы говорить о будущем обыкновенного человека, такого, как мы с вами.
– Возьмем обыкновенного, – согласилась Вера. – Вот обычные люди: Иванов, Петров, Сидоров... (В лице кураторши что-то дрогнуло, и Вера спохватилась, что её фамилия как раз Сидорова. Да еще и отчество "Ивановна").
– Продолжайте, – сказала Александра.
– Допустим это был человек, с вашей точки зрения, хороший – в общем добрый, в общем порядочный. Но не без своих недостатков...
– Естественно.
– Вот эти-то недостатки, иначе говоря – грехи, ему нужно отстрадать, прежде чем попасть в рай. – Вера сама удивлялась, что говорит как по писаному. – Переболеть ими и исцелиться.
– То есть вы считаете, что критерий совершенства слишком велик для обычного человека, – подытожила Александра. – Происходит какая-то работа, в результате которой он подтягивается под норму... под уровень святых.
– Вот именно, а поскольку этот уровень очень высок, то и путь очень труден и может длиться тысячелетья... поэтому нужна помощь близких.
– Откуда вы знаете, что она до них доходит?
– Это христианское учение о загробной жизни, – Вера чуть пожала плечами. – И потом, я просто чувствую...
– Ага, а ещё, бывает, снятся, – снова не выдержала Маня. – Вот у нас в поселке мужика бревном раздавило, так он потом три дня к жене приходил – есть, говорит, хочу... Помянули в церкви – перестал.
Вера бросила на кураторшу быстрый взгляд – нет ли в ее лице недоуменья, а то и насмешки. Раньше она сама посмеивалась над такими рассказами. Совсем недавно, в свете открытий, связанных с православным чтением, к ней в числе других пришла следующая истина: всё, что грубо и ярко говорится в народе, более изощренным языком излагается в научных трудах, в литературных произведениях, в богословских трактатах.
Разве сейчас не подтверждаются научно импульсы невидимого мира, улавливаемые ещё древним человеком? Разве кто-нибудь усомнится в существовании ведьм и колдунов, которых сегодня, увы, хоть пруд пруди? Нет дыма без огня, и народные поверья не возникают на пустом месте.
Кураторша не смеялась, она выглядела задумчивой. – Назовите мне хоть одну точку соприкосновенья между нами и нашими... теми, кто уже там, – попросила она. – Хоть одну точку. Без этого я не могу допустить вашей правоты.
Вера задумалась, и Маня наморщила свой круглый лобик, надеясь подсказать подруге. Александра сама мысленно прикинула, что они могли бы назвать, тут же отбрасывая каждый предполагаемый вариант. Бытие в том и в другом случае полностью различно; чувства? – это уже производное от какого-то отправного пункта, если он существует...
– Бог, – коротко произнесла Вера.
Александра и даже Маня вздрогнули от такого простого решенья такой, казалось бы, неразрешимой задачи. "И ведь не придерешься", – думала Александра, слушая о том, что Христос, оказывается, один для живых и мертвых, а православная церковь представляет собой единство всех верующих – как земного, так и потустороннего мира. На словах выходило убедительно, а пропустить эту информацию сквозь фильтр своего здравого смысла она уже не могла. Слишком много всего, сразу не разберешься.
Девочки видели, что кураторша от усталости клонит голову над всё еще раскрытым "Акафистом за единоумершего". Очевидно, ей попалось на глаза особняком стоящее слово, потому что она спросила:
– Что такое аллилуйя?
– Ангельская хвала, – опередила Маня подругу. – Ангелы так восхваляют, а от них уже мы...
– Дословно переводится – "Слава Богу", – добавила Вера.
– А в церкви поют так красиво, -
Манин голосок потянул витиеватую мелодию, задерживаясь на гласных, звонко рассыпая солнечное "л" – действительно, красиво, хотя вообще музыка не производила на Александру особого впечатления. – Трижды поют, в честь Пресвятой Троицы.
Но Александра уже не отслеживала их слова: она была до предела наполнена новыми сведениях и ощущеньями. Унести бы "Молитвы за усопших" с собой и завтра на свежую голову... наверное, это желание отразилось на ее лице, потому что Вера сказала:
– Хотите, возьмите книжку домой... – и осеклась: ей ведь надо было прочитывать молитвы за деда каждый день.
– А можно отксерить... Умница Маня, это выход!
– Завтра на первой же перемене я отксерю. – Александра посмотрела на Веру, кивнувшую в знак согласия. – Сегодня вы успели прочесть?
– Не до конца. И теперь не поздно – через пять минут мы должны идти. – Вера опустила рукав, приподнятый для того, чтобы взглянуть на часы, и самоуспокоительно добавила: – Завтра прочту два раза.
– Маня, делайте бутерброды, – засуетилась Александра. – Вы их возьмете с собой. Простите, девочки – чайник-то я так и не включила!
Но оказалось, что Маня под сурдинку вскипятила воду и даже успела заварить чай. Оставалось только его выпить, что они и сделали в последние четыре с половиной минуты. Это чаепитие как-то удивительно гармонично закончило насыщенный эмоциями разговор, который велся здесь последние полчаса и оставил свой вещественный след в сумке – там между студенческими работами и сделанными с утра покупками лежала теперь тоненькая книжка с изображенным на обложке крестом.
3
В палате готовились к процедуре – как всегда, братья-сестры неслышно прошли вдоль ряда коек, отмечая те, над которыми сегодня прольется душ. Над такими они взглядом натягивали слой летнего предгрозового неба, готовящегося разразиться благодатным ливнем. В первый раз за все время это было сделано не четко; воздушный пласт над соседом, стариком Николаем, захватывал и пространство над койкой самого Ивана Петровича. Таким образом, он, никогда не получающий душа, оказался включенным в эту многообещающую подготовку, сродни детскому ожиданью праздника. Однако не приходилось сомневаться, что праздника для него не будет – изначальный импульс процедуре могли дать только за больничной стеной, в его случае – только Саша. Но ждать от нее этого было по меньшей мере преждевременно.
Воздух над головой колебался, источая запахи полевых трав и цветов. И вдруг сверху хлынули теплые душистые струи, смывающие муть и коросту, уносящие в какое-то сладостное предчувствие, где были все вместе – он, Саша, бабушка, старик Николай со своей внучкой, соседка из прежнего дома и еще многие незнакомые, а в то же время знакомые люди, потому что о каждом Иван Петрович знал, кто он есть. И все неотрывно смотрели в одну точку, ожидая появления того, кого звали в больнице Главврачом и кому пели сейчас братья-сестры одно длинное, переплескивающееся на гласных слово:
А л л и л у и я.
БАБА ТАТА
рассказ
У Соколовских умерла бабушка. Этого ждали – вот уже несколько дней дочь или внучка стелились на полу возле больной. Со стола блестели сусальным золотом специально выставленные родовые иконы, рядом лежал молитвенник, заложенный на странице "Канун на исход души". Недавних склянок и пузырьков с лекарствами уже не было – больной давали только по ложечке святой воды из притулившегося возле икон кувшинчика.
Внучке все казалось странным, ненастоящим. Как нарочно, она подхватила грипп, ломивший тело под шубой, в ночи дежурств заменявшей ей одеяло. За стенкой спал ее сын, тоже гриппующий, в жару, а рядом толчками дышала кто? – баба Тата, само имя которой было символом.
На рассвете она скончалась. Соколовские засуетились в необходимых практических действиях, на время заслонивших все остальное. Отец пошел в поликлинику за справкой, мама – за продуктами для поминок. Внучка Надя искала на книжной полке Псалтырь: ее не оставляло чувство, что в хлопотах семьи не хватает самой бабы Таты. Словно еще предстояло рассказать, предвкушая, как в детстве, эффект своего сообщения: "А знаешь, баба Тат, у нас умерла..." "Да что ты?! – воскликнула бы она, широко раскрыв свои темные, с ясной наивностью, глаза. – Неужели правда?!" "Конечно, правда – послезавтра хороним".
Насчет похорон все было обговорено задолго до наступившего дня. "Я смерти не боюсь, – говорила баба Тата год, десять, двадцать пять лет назад. – Вы тогда наденьте на меня... положите..."
Пухленькая рыжеволосая девочка сердилась, зажимая ей рот рукой.
– Ничего особенного, самое обыкновенное дело, – оправдывалась баба Тата перед своей мнительной внучкой. – А то другие старухи не говорят, а родные потом за голову хватаются – не знают, как хоронить"
И вот вынули на свет все, что было когда-то собрано, а потом много лет лежало в закрытой коробке. Платье делалось специально к рукавам, которые – два холста – пятиклассница Надя расшила когда-то яркими нитками по заданию в школе. А баба Тата увидела и забрала: "Это мне на смерть. Твои ручки вышивали..." – и сделала из холстов рукава, а к ним – платье.
В голубой ладье, пышно обитой глазетом, расстелили белую накидку, под изголовье подложили платочек, когда-то приложенный к мощам преподобного Серафима Саровского, и – пожалте, Татьяна Афанасьевна, как непременно сказала бы она сама.
Когда все уже было устроено, Надя не спешила отходить, отводить взгляда. Прежде чем начать чтение Псалтыря, поцеловала неизгладимо знакомый высокий лоб с глубоко врезанными продольными морщинами /все называли их "молодые морщины" – от частого смеха, оживленной мимики/. Вдруг на лице усопшей явственно проступила улыбка – не тронув губ, она набежала со стороны лба, и на мгновение все черты словно просияли изнутри.
Главным в бабе Тате было – чувство, порыв, почти всегда направленные к людям. Она везде искала общения. Диапазон ее дружеских связей удивлял своей широтой: от старушек "из бывших", в буклях и шляпках, умилявшихся, "как Татьяна Афанасьевна жизнерадостна и энергична", до разномастных Светок и Зоек большого советского НИИ, где она работала машинисткой; от родственников и давних друзей до случайных уличных знакомых. Еще в детстве Наде приходилось пережидать во время гулянья различные баби Татины разговоры -с соседкой, с другой бабушкой, выгуливающей малыша, со знакомым дворником, почтальоном, продавщицей. Ее интерес и сочувствие к людям были неподдельны – она и после разговора находилась под впечатлением услышанного. "Ты подумай, у нее ноги почти не ходят!" – обращаясь к маленькой Наде, искренне тужила баба Тата о какой-нибудь из своих знакомых. Или, наоборот, говорила с удовлетвореньем, растягивая для себя приятное чувство: "Славная девочка, дай ей Бог. Наконец замуж вышла. А то смотришь – все одна да одна, а уж лет ей не так уж мало..."
Живость, готовность к отклику баби Татиной натуры угадывалась людьми не только непосредственно, но даже и окольным путем. Было время – к молодой и задорной Наде приходил в гости человек, с которым она кокетничала. Серьезного поворота судьбы не предвиделось – он имел уже в другом городе семью, а в Москву приехал учиться в институте, где они с Надей и познакомились. Весь курс проявлял к ним живейший интерес – вопросы, усмешки, волны ревности с двух сторон. "Володя, я вам сочувствую!" – смеялась одна из студенток, когда Надя, дабы утишить эти страсти, нарочно уходила после лекций одна. Северокавказец, грустноглазый Гаджи, был проницательнее: "Домой идешь? Или с Ильенко? Кино-вино?"
Володя был человеком иного склада, иной жизненной атмосферы, нежели та, которой дышала дома Надя. Но как раз это им, возможно, и нравилось: она впитывала исходящую от спутника силу и крепость реальной жизненной простоты; он с уважительным интересом улавливал веянья старомосковской интеллигентской среды, наложившей отпечаток на выросшую в ней Надю. С родными она его не знакомила, но, придя в гости, он сразу же обратил внимание на портрет бабы Таты.
– Кто это, Надя?
– Моя бабушка.
– Какое необычное лицо! Вроде молодая, хотя видно... сколько же ей лет?
– За восемьдесят, но она живет не в своем возрасте. Она такая энергичная, и дома все делает, и работает до сих пор – по два дня в неделю...
– Знаешь, Надя, – задумчиво сказал он, – Вот с таким человеком можно куда хочешь идти. Это видно. Такая веселая и простая и... непростая в то же время. Она из дворян?
– Нет, из духовенства. Дочка священника.
– Вот, Надя! В ней именно что д у х о в н о е!
Духовность баба Тата несла всей своей жизнью. Даже быт у нее был одухотворен: стирая, она радовалась большой мыльной пене; готовя обед – предвкушала, как его с аппетитом съедят. Ее по-детски веселила какая-нибудь забавная картофелина или не первый раз выскальзывающая из рук ложка. Вообще в баби Татиной натуре наряду с большим жизненным опытом было что-то детское, какой-то особый интерес к маленьким, даже чужим. Она не могла пройти по улице мимо ребенка, не сделав ему знак глазами и не щелкнув пальцами. А уж игра была поистине ее стихией – здесь баба Тата увлекалась настолько, что и сама, и играющие с ней дети забывали о возрастных границах. Последние восстанавливались лишь тогда, когда надо было от кого-то защищать, где-то представительствовать – словом, исполнять обязанности взрослых.
Словно внутри радужной оболочки мыльных пузырей, пускаемых по баби Татиной затее, Надино детство прошло среди игр, песен, забав, придуманных бабой Татой. И еще в этом мире радости жил смешливый стриженый мальчик – брат Коля, на три года старше. Смеялся он тонко и взахлеб, и еще всплескивал при этом руками. Глядя на внука, баба Тата и сама порой не могла удержаться от смеха. А тут и внучку не надо просить. Так они и заливались все трое, пока совершенно лишние, по мнению детей, дела не оттягивали бабу Тату к плите или к стирке.
– Надь, – сказали в телефонной трубке.
– Да, Коля.
– Ну что?
– Читаю Псалтырь. Готовь детей к завтрому, – на всякий случай напомнила она, хотя это само собой разумелось. – Баба Тата всегда говорила, чтобы все ее правнуки были на похоронах.
– Знаю, – ответил он.
Это было одним из самых истовых убеждений бабы Таты – что младшие представители рода должны присутствовать на проводах старших в последний земной путь. Об этом она говорила со свойственной ей горячностью:
– В интеллигентных семьях детей от покойника не прячут, а водят прощаться, как положено! Вот у Аксакова, помнишь? – умер дедушка, и детей привели руку целовать. У Пушкина, у Толстого... а то нынешние мамаши, мнят себя культурными, а как ребенка на похороны вести, так "у нас соль-фед-жио!" – нарочно в нос растягивала баба Тата. – На сольфеджио пойдут вместо того, чтобы попрощаться с дедушкой, с бабушкой, которые ее ребенку жизнь проложили. Тьфу!"
Не только внукам, но и правнукам, которых у бабы Таты общим числом насчитывалось пять /Коля стал многодетным отцом да плюс Надин сынишка/, было известно многое из того, чему они сами не могли являться свидетелями – история рода, люди, которые давно уже сошли с земного поприща. "Мой папочка", "Мой дедушка", – до последнего времени сыпалось от бабы Таты. – "На этом пианино играла моя мама – твоя прапрабабушка...", "Вот вещи тети Любы...", "Берегите часы – они висели у нас в столовой..." Эти большие прямоугольные часы черного дерева долго не мог починить ни один мастер. Они молчали на стене до тех пор, пока старший из баби Татиных правнуков, трехлетний Вова, не потянул, играя, за свисающие на цепях гири. После этого часы пошли и до сих пор исправно оглашают дом звонким поцокиванием и очередями гулких ударов.
– Баба Тат, расскажи, как ты была маленькой...
Самый любимый – рассказ о Рождестве.
В Сочельник младших детей с утра посылали на каток. Он уже был украшен елками, но музыка не играла. Взявшись крест-накрест за руки, в чинном молчании проезжала по льду детвора: девочки с висящими на ленточках муфтами, младшие гимназисты, воспитанники училищ – ремесленного и реального. Кто где учится, было видно по фуражкам. Уличные мальчишки ловко скользили на дешевых коньках или даже, ближе к обочине, на подметках. Крупный звездчатый снег мелькал в воздухе, пестрил елочные гирлянды, засыпал катающихся... Когда нос и щеки начинало щипать с морозу, Таня звала младших братьев, близнецов Гришу—Леню, и все трое взапуски бежали домой. По обеим сторонам заснеженной улицы мелькали выставленные в витринах рождественские картинки, высящиеся в окнах домов еще не наряженные елки.








