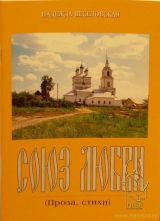
Текст книги "Союз любви (проза, стихи)"
Автор книги: Надежда Веселовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Бабушка и братья-сестры искали обходных путей, но всякий раз оказывались в тупике. С другой стороны, объяснение с Сашей тоже не представлялось возможным: прийти в больницу, чтобы увидеть отца – это, сказали они, только первый шаг. Иное дело понять столь многое, о чем она до сих пор не имела представленья.
Кто-то завел речь о благотворителях, которые могли бы помочь в этом деле. Иван Петрович их уже знал: случалось, они посещали палату по призыву кого-нибудь из больных. Сам он, не обращаясь к ним никогда прежде, не чувствовал себя вправе сделать это сейчас. К тому же они были такие красивые, величественные, светлые, в различно благоухающих одеяньях: от иного пахло жасмином, от иного – свежестью утренней росы; многие оставляли за собой струю благовонных курений, кажется, называемых ладаном. Все это завораживало Ивана Петровича – он робел привлечь внимание таких людей к себе, изможденному и никогда не получающему душа. Правда, благотворители не проявляли брезгливости: они садились на койки к тем, кто их звал, внимательно всматривались в лица, беседовали вполголоса, так, что беседа оставалась для прочих тайной.
Говорили, что по своей природе благотворители более близки больным, чем, например, братья-сестры. Когда-то они имели дело с той самой опасной заразой, сгубившей всех находящихся в палате. Но благотворители еще прежде смогли ее побороть, навсегда оставшись иммунизированными. Теперь они видели свое призванье в том, чтобы помогать жертвам болезни.
Еще говорили о стоящей во главе их Попечительнице, трудящейся для больных не покладая рук. Она откликалась на все нужды, собирала все просьбы и прошения, чтобы потом с личным ходатайством представить их Главврачу. Этим хлопотам Попечительница предавалась постоянно, посвящая им все время до секунды. Она не гнушалась никакой немощью и снисходила, несмотря на высокое положение, к каждому, кто звал: но надо было суметь сосредоточиться и послать зов с такой силой, чтобы он достиг соответствующих высот. Это требовало сильнейшего напряжения. Не способные на него звали сперва благотворителей (тоже внутренний труд, но меньший), упрашивали их взять данное дело и самим передать Попечительнице. После этого можно было не беспокоиться: в палате не помнили случая, чтобы Попечительница отказала. Ей же Главврач не отказывал никогда.
Мало-помалу Иваном Петровичем овладело блаженное расслабление. Убедившись, что все его проблемы в надежных руках (бабушка и братья-сестры сделают, как нужно), он испытывал чувство защищенности – сладкое чувство мальчика, о котором заботятся представительные взрослые. Он и впрямь ощущал себя сейчас мальчиком и пожилым человеком одновременно. Определенный возраст вообще перестал существовать. Само время отступило куда-то, дав место исключительно качеству состояния. Рамки, ограничивающие память, распались – Иван Петрович увидел то, что с ним было д о всякого времени, д о той самой Вещественности, которую он узнал сегодня в комнате для свиданий...
Он находился в каком-то особом месте – общем, как и больница, но, в отличие от нее, пронизанным не тоской, а пульсирующей изнутри, рвущейся наружу радостью. Те же самые братья-сестры (ах, не зря он, глядя на них, всякий раз силился что-то вспомнить!) нянчились, резвились с ним и подобными ему существами нулевого возраста. Мог ли он подумать, что когда-нибудь не узнает своих ближайших друзей? Но узнать было действительно невозможно: здесь, в больнице, братья-сестры двигались бесшумно, смотрели печально-соболезнующе, дотрагивались до больных так легко, что те чувствовали лишь прохладную освежающую волну, исходящую от белых одеяний. "Перстами легкими, как сон" – точно сказал Пушкин. Здесь братья-сестры являли собой одно беспредельное состраданье. А там он запомнил их сияющими, звонкоголосыми и такими стремительными, словно за спиной у них росли крылья.
Только однажды они были серьезны: когда показывали ему вьющуюся посреди полей и холмов и терявшуюся за горизонтом дорогу. Он вдруг понял, что сосредоточенную в этой месте радость необходимо подтвердить и упрочить. Для этого ему надо пройти по открывшейся взору дороге, нигде не свернув и не заблудившись: тогда она под конец опять приведет его сюда, только с другого входа. С парадных ворот, возле которых встретят его ликующие братья-сестры. После этого уже не придется ничего подтверждать, ничего доказывать – все и навсегда будет хорошо.
Окрыленный этим представлением, он рвался в путь, чтобы скорей совершить назначенное. Он не сомневался, что справится; ответственность предстоящего пути ощущалась им радостным морозом по коже. Он уже дрожал от нетерпенья, но братья-сестры удерживали его: с непонятной тщательностью они еще и еще раз объясняли как идти, держась правой стороны, и что делать, когда начнутся бугры и ямы. Особенно страшили их завешенные туманом пропасти.
Каждое слово врезалось в его сознанье кристальной ясностью – он глубоко, до последней мелочи, понимал эти наставления. Оставалось только приложить их на деле. Но братья-сестры вновь и вновь возвращались к сказанному – втолковывали, предупреждали, волновались. Он запомнил их лица, обращенные на него с тревогой и надеждой. Тревоги в них было больше, чем надежды.
С пути он сбился. Это перед тем, как выйти, все казалось бесспорно-ясным, а с первых же шагов представления стали расплываться, понятия – смешиваться, и вскоре от всего сказанного братьями-сестрами остались лишь смутные воспоминания. Правда, при усилии с его стороны они слегка прояснялись. И еще можно было, оглянувшись назад, увидеть в золотистой дали чуть заметные светлые фигуры, глядящие ему вслед. Но вскоре он перестал делать то и другое: из придорожных зарослей вышла, отряхиваясь, Вещественность, взяла его за руку и повела. Рядом с ней ни вспоминать, ни оглядываться было несподручно...
И все-таки, как понял теперь Иван Петрович, братья-сестры не совсем упустили его из виду – кто-то из них отправился следом и незримо опекал путника всю дорогу. Это он разгонял туман, чтобы показать скрытую за ним пропасть, он поддерживал при переходе трясины, располагал держаться в пути правой стороны. Все это совершалось исподволь, оставляя конечный выбор на волю Ивана Петровича – он мог соглашаться или противиться , исполнять или не исполнять. И он в основном исполнял, облекая эту внутреннюю незримую тягу к правильному в сознательное стремленье быть порядочным человеком. А если ему случалось данный критерий нарушить, долго потом чувствовал себя не в своей тарелке.
Это и спасло его от того, чтобы заблудиться совсем глухо. Тогда бы дорога закончилась не в палате с неузнаваемо-тихими братьями-сестрами, а внизу, в подвальном этаже, где, как с содроганием рассказывали больные, день и ночь бушует кремационное пламя. Черные от копоти санитары, усмехаясь, сталкивают туда каждого вновь прибывшего... Это и было основным различием между подвалом и палатой – там торопили умереть, в то время как здесь, при всей тоске долгосрочного ожидания, больные ориентированы на жизнь – Жизнь с большой буквы.
2
Вечерние лекции заканчивались поздно, потом еще студенты толпились вокруг кафедры, задавая вопросы, на которые следовало подробно отвечать. Она так и делала, хотя сегодня это давалось ей через силу. Но человек должен владеть собой – что бы ни случилось, исполнять свои обязанности необходимо.
Наконец за последним студентом хлопнула дверь, и в аудитории наступила тишина. Теперь можно было не спеша обо всем подумать, тем более, что уйдет она сегодня поздно.
Раз в две недели каждый преподаватель, за исключением стариков и самых заслуженных, должен был дежурить по этажу. Это значило – уходить вместе с охранником, предварительно проверив, закрыты ли окна, не текут ли краны, нет ли где горящих окурков, а тем паче предметов, похожих на взрывное устройство. Преподаватели игнорировали неоплачиваемую обязанность, этот "пережиток социализма", как они называли, и старались, отси дев час-другой в аудитории, незаметно сбежать. Только в дежурства А.И.Сидоровой охранник запирал дверь не в гордом одиночестве.
Александру эти дежурства не тяготили. Раньше ей легко было высидеть положенный срок, предвкушая, как потом она с легким сердцем выпорхнет из института и поспешит домой, к отцу, кутающему для нее в одеяло еще теплый ужин. Теперь она тем более не роптала на необходимость задерживаться – дома ей не давала расслабиться пустота, внутренним холодом опечатавшая квартиру. Здесь было легче, чем дома.
"Меня выбило из колеи", – призналась себе Александра, закуривая горькую сигарету – с тоски она начала курить. Что остается человеку, у которого только и была эта самая колея? Именно она спасала до сих пор Александру – строгая упорядоченность жизни, в которой нет места эмоциям, пусть даже это эмоции самого горя. Зато есть определенность, которая вчера основательно пошатнулась.
Александра провела рукой по лбу, готовясь вспоминать и мысленно отслеживать произошедшее. Извлечь корни, как сказал бы отец. Ясно, что эти корни выросли раньше вчерашнего вечера, но само их появление представлялось загадкой. Александра ни с кем не говорила об отце: родственников и друзей после него не осталось, собственных же друзей она не имела никогда: слишком прочной была душевная скорлупа, не позволяющая хорошим отношениям с людьми перерастать в дружбу. Итак, говорить было не с кем, да и к чему? Бесполезно ворошить свою боль, которая от этого только поднимется и разбухнет.
Но в доме была соседка, раз от разу заводившая речь о том, что "надо бы в церковь сходить, за Ивана Петровича свечку поставить". Соседка жила на той же площадке, жила давно, так что помнила отца еще молодым, а саму ее – девочкой. Поэтому Александра не могла собраться с духом ее прервать. Так и стояла, во дворе ли, на лестнице, выслушивала, опустив голову, каждый раз внутренне страдая. Разве она не была бы рада – нет, счастлива – узнать, что загробная жизнь действительно существует? Разве поленилась бы рано встать, чтобы не опоздать с поминальной запиской, не наставила бы десяток свечей, если бы это хоть в малой степени пошло на пользу отцу? Но ему ничто уже не поможет: он ничего не чувствует, не сознает. Его отсутствие – это исчезновение навсегда, без какой-либо вести или надежды... до чего ж больно!
Вчера Александра возвращалась из института на срыве душевных сил. Казалось, еще немного – и она ссутулится, станет смотреть исподлобья, послав подальше вымученное подобие улыбки, еще удерживаемое на губах. Но отец всегда говорил, что у каждого свои кошки на душе скребут и дома в шкафу свой скелет спрятан. Поэтому не стоит приобщать людей к твоим собственным огорчениям; если ты на людях – стой прямо и улыбайся.
Александра мечтала о той минуте, когда захлопнет за собой дверь и сбросит с лица маску утомленной, но все же нормальной женщины, в меру радующейся жизни. Но когда дверь уже готова была захлопнуться, послышался оклик соседки – той самой, заводящей всегда речь о свечках. Она протягивала обернутый целлофаном хлебный каравай, которого Александра вовсе у нее не просила. Дело в том, что в их дворе работала палатка от хлебозавода, торгующая без наценки самым свежим хлебом. Однажды Александра просто так, для поддержки разговора, обмолвилась, что по вечерам не успевает купить хлеб – когда идет с работы, палатка уже закрыта. И вот вам пожалуйста – совершенно не нужный ей (или все-таки нужный?) каравай ситного, и теперь уже неудобно не взять. Пришлось пригласить соседку в квартиру.
Собственно говоря, она не имела ничего против этой старой, но еще деятельной женщины, безусловно отзывчивой и расторопной, обслуживавшей, несмотря на свои годы, большую семью. Ее домашние по утрам расходились на работы и в школы, чтобы к вечеру вновь собраться в убранной квартире за накрытым бабушкою столом. Ради этого соседка весь день хлопотала. Отец в свое время отдавал ей должное, считая "порядочным человеком" (главный его критерий оценки людей), к тому же трудолюбивой и энергичной. Всё так – но зачем, скажите, лезть в чужие дела, тем более настолько личные, открывающие самую глубокую человеческую уязвимость?
– Устали, Сашенька? – спросила соседка, с неподдельным участием глядя в её осунувшееся лицо. – Что-то вы бледная сегодня. Убиваетесь всё а это не дело...
И разговор вошёл в привычное русло: свечка, поминанье, "не думайте, Сашенька, что с земной жизнью всё кончается". Она думала именно так и уже собиралась с духом ответить – не резко, но окончательно, чтобы поставить на всём этом точку. Но как раз духа у нее не было – наоборот, вышло так, что уверенная в своей правоте соседка безотчётно подчинила её измученную волю. Знакомая с детских лет, она показалась вдруг такой домашней и милой, что пришло желанье расплакаться в её синий кухонный фартук, пахнущий стряпней. Если бы у Саши была бабушка, от нее бы, наверное, тоже исходили эти слабые запахи лука, картофельной кожуры, жарящихся котлет – а вместе с ними ощущенье налаженности жизни, родственного участия, которое не даст в обиду никакой напасти.
На прощанье соседка сказала: "Не думайте об отце, как будто его не существует. Думайте как о живом – у Бога все живы".
И после её ухода Саша решилась попробовать. Конечно, она не могла верить в то, что отец как личность продолжает существовать – разве что на один процент из ста, да и это, пожалуй, много... на какую-то долю процента. И всё-таки, малейший шанс оставался. Надо было вникнуть в него, настроиться на соответствующую волну – но Саша чувствовала, что это нельзя сделать просто так. Они с отцом всегда любили прямоту и старались действовать честно – теперь от нее требовалось совершить некое волевое усилие, чтобы честно перед самой собой постучаться в двери вышеозначенного шанса. Она не могла сказать, что верит – но могла определить себя сторонницей того, чтобы именно этот малейший шанс воплотился. Здесь и было то самое волевое усилие, которое от нее требовалось.
За спиной слегка шевелились занавески, слышалось негромкое постукиванье часов – привычные, уже никак не воспринимаемые звуки. Но в наступившей, вернее, только что замеченной Сашей тишине (до этого она слишком напряженно думала) этот домашний шумок обернулся какими-то дальними отголосками, приглушенными вздохами и чуть различимым шелестом шагов. Должно быть, ветер шуршал бумагами на столе. Саша обернулась запереть форточку, и ей навстречу пахнуло что-то живо напоминающее об отце – вроде бы свежесть его одеколона вперемежку со сладковатым дымком любимых им папирос... Но запахи были полыми, не затрагивающими обонянья – запахи без запаха, одна оболочка. Ими только обозначалось нечто присущее отцу. А через минуту у неё перехватило дыханье от ощущения его близкого присутствия – настолько близкого, что она завертела головой, готовая обернуться в ту сторону, где оно было сконцентрировано. У лица развеялось что-то изначально знакомое, что могло быть присуще только ее отцу. И в следующее мгновенье ничего уже не осталось.
Она разрыдалась, чувствуя потребность излить в слезах вое напряженье последних дней и месяцев. Ее трясло как в ознобе – судорожные плач, казалось, выворачивал наизнанку, но перехлестывающая через край горечь при этом уходила из души. После долгих слез пришло бессилье и облегчение.
Столбик пепла упал на юбку, спохватившаяся Александра принялась торопливо стряхивать его в ладонь. Вспоминая вчерашний вечер, она отключилась. Между
тем ей теперь предстоит быть особо собранной и внимательной чтобы доискаться до сути произошедшего. Нет сомнений, что она ощутила присутствие отца; и даже, кажется, это чувство не было исключительно субъективным... Ведь людям
ее плана не кажется что-либо ни с того ни с сего. Однако если предположить, что отец действительно приходил к ней – или она к нему, если учесть ее сознательное стремленье поверить в малейший шанс – получается, что он... что загробная жизнь в самом деле существует.
Признать это за факт Александра все-таки не могла, а как объяснить вчерашнее, не знала. Но она пойдет до конца – обратится, если потребуется, к экстрасенсам, прежде всего к тем, которые работают на научной основе. Впрочем все они так или иначе подвизаются в области парапсихологии и эниологии. Что же касается соседки, той самой соседки, доброй, но примитивной с ее свечками-поминаньями, то тут лучше, пожалуй, промолчать – не то еще сама в эти свечки поверишь. А верить надо в науку.
Обычно принятое решение действовало на Александру успокоительно – разберешь, словно захламленный ящик, определенную область мыслей, и дело с концом, можно запирать на ключ. Но сейчас такого ощущенья не возникало – где-то на дне запертого ящика шевелилось беспокойство. Отец экстрасенсов не любил, да и сама она привыкла относиться к ним с осуждением – обманывают народ! Даже с некоторой насмешкой. Но ведь не зря говорят, что хорошо смеется тот, кто смеется последним; теперь ей предстоит зависеть от этих трудно определимых людей, ловить каждое их слово и выкладывать им самое свое сокровенное. Плюс немалые деньги, которые она с трудом, но найдет. И сокровенное выложит, потому что ищет не внутреннего комфорта, а решенья проблемы.
С такими мыслями Александра поднялась со стула и отправилась на вечерний обход этажа. В эти часы он выглядел так, словно сознательно прикрывал глаза после дневной сутолоки: на всем лежал отпечаток пустоты, затененности, облегченья. Дежурный мог чувствовать себя в зачарованном царстве: стены лак будто раздвигаюсь, делая проход шире, мягкие туфли неслышно касались сливающейся с темнотой ковровой дорожки. Вдруг Александра с ходу остановилась – впереди в торце коридора кто-то стоял. Там было окно, над которым со стороны улицы висел старинный витой фонарь (здание когда—то принадлежало богемному купцу). Часть света заливалась внутрь коридора, позволяя различить застывшую лицом к стеклу девичью фигурку с каким-то чтивом в руках.
«Дня им мало», – сердито подумала оправившаяся от неожиданности Александра. Ладно бы перед экзаменом, а то ведь сейчас почти ничего не видно. Вообще в ситуации было нечто странное: обычно читающие люди не стоят так прямо и не выглядят так сосредоточенно, без отрыва в раскрытую страницу. "Наверняка не учебник», – подумала Александра.
Но даже самая интересная беллетристика не могла, в ее представлении, увлечь человека настолько, чтобы он не замечал ничего вокруг, Может быть, девица получила любовное послание? Однако нынешние студенты таких посланий не пишут, у них все это устным текстом, а то и вообще по Есенину: "Ты моя – сказать лишь могут руки..."
"А правда – моя или не моя?" – спохватилась Александра. В этом учебном году ее назначили куратором группы первокурсников, и хотя времени прошло совсем мало, она уже собрала некоторые сведения с каждом из своих подопечных. И узнать, естественно, могла – только лучше в лицо и при нормальном свете.
Почувствовав наконец исходящий от Александры импульс, девушка вздрогнула и обернулась. Вера Коренева, студентка ее группы! И тут же со стороны лестничной площадки возникла девица номер два – Маня Деревенько, тоже из подопечных Александры, с Верой они были подругами. Обе, увидев кураторшу, смутились, словно их застали врасплох.
– Что ж, девочки, добрый вечер.
Спохватившись, они вперебой поздоровались и сразу залопотали о том, что сейчас уйдут – маленько, по выражению Мани, припозднились, но уже собираются...
– А я смотрю – кто там, не бомбу ли подкладывают, – пошутила Александра. В самом деле, ситуация была похожей. Если б не Верино чтенье, да не то, что обе девочки не годились для этой зловещей роли, можно было подумать именно так.
– Что вы, Александра Иванна. Просто нам на работу скоро, домой заехать не успеваем, а на улице дождик, – объяснила Маня.
– Вы работаете?
Это было для Александры новостью, особенно в отношении Веры. Маня, приезжая, снимает угол (надо похлопотать за нее насчет общежития) и, само собой, нуждается в деньгах. Но Верина семья, по имеющимся у Александры данным, являлась достаточно обеспеченной. Впрочем, чего в жизни не бывает...
– Мы дежурим по ночам в детском доме. Не каждый день, – уточнила Маня, прочитав на лице кураторши сочувствие. – Когда не дежурим, валимся в постель сразу после лекций, чтобы отоспаться. – Она слегка засмеялась.
Все это вызвало у Александры искреннюю симпатию. Учиться и работать – таких людей она уважала. И отец бы сказал – молодцы девчонки – особо отметив, что подрабатывают они не какими-нибудь моделями-манекенами, барменшами ночными, а по-настоящему нужным делом. Благородным и к тому же малооплачиваемым.
Вера стояла молча, успев спрятать свое чтенье, на которое Александре любопытно было бы взглянуть, улыбалась слегка принужденной улыбкой, долженствующей показать, что внимание кураторши ей приятно. На самом деле она явно ждала, чтобы разговор свернулся. Маня с готовностью ожидала новых вопросов, но и в ее вскинутых серо-голубых глазах плескалось на дне некоторое нетерпение. Задерживать их дольше было неделикатно. И Александра, еще раз заверенная, что девочки сейчас уйдут, направилась посмотреть, не текут ли в туалетах краны.
За ее спиной шуршали куртки (знали, хитрюги, что гардероб будет закрыт и где-то прятали, должно быть, в ближайшей аудитории), вжикали молнии, щелкали пластмассовые кнопки-застежки. Сквозь этот легкий «галантерейный» шумок долетел приглушенный голос Веры:
– А может, в метро?
– Что ты, девушка, мешком стукнутая? – так же шепотом отозвалась Маня. – Завтра дочитаешь.
Александра обернулась раньше, чем успела дать себе отчет в том, что сейчас никто иной как она сама намерена лезть в чужие дела. Но, с другой стороны, надо выяснить, что Вера читает – может, тут вскроется нечто важное... К тому же Александра должна была признать свою личную заинтригованность, за которую себя осудила. Но первое соображение перевешивало второе. А девочки уже смотрели на нее вопросительно – зачем вернулась.
– Во сколько у вас дежурство?
Они ответили с удивленьем, так как считали тему исчерпанной.
– А ехать далеко? – продолжала допытываться кураторша. Узнав, куда ехать, она заговорила уверенно, как человек, принявший определенное решение:
– У вас еще уйма времени. Чем в метро сидеть (Вера вздрогнула и затем приняла независимый вид), пойдемте лучше пить чай.
По огоньку в глазах Мани и по тому, как Вера стала усиленно отказываться, словно отрезая себе путь к отступлению, Александра поняла – девчонки голодные. Значит, ее предложение в любом случае кстати. Пусть выпьют чаю с теми припасами, которые она из любви к порядку берет каждый день из дома, а потом уносит домой нетронутыми – ее аппетит последнее время держится на отметке ноль. А сегодня и вовсе стоял комок в горле, который теперь, кажется, растаял.
Щелчок выключателя – и мрачная аудитория, из которой полчаса назад вышла Александра, обратилась, говоря высоким словом, в светлое прибежище посреди окрестной тьмы. Помаргивая привыкающими к полутьме глазами, девочки смущенно стаскивали только что надетые куртки. Маню Александра отправила набрать в чайник воды, а Вере поручила резать хлеб для бутербродов; дощечка-подставка под цветочный горшок отлично подошла и для данной цели. А нож, ложки, чашки – всё это хозяйство было заведено Александрой еще в те времена, когда она не страдала отсутствием аппетита.
И вышло как в детективном романе – книжка, о которой неловко было спросить и которую Александре так хотелось видеть, оказалась лежащей на краешке стола. Видно, до сих пор Вера держала ее при себе, а когда руки понадобились для дела, просто положила рядом. И повернуть вниз обложкой не догадалась, так что Александра могла беспрепятственно взглянуть.
На обложке был изображен большой деревянный крест с опущенными вниз концами, какие можно увидеть на старых кладбищах. Над ним переливался розово-красный закат, сбоку трепетали какие-то былинки, клеточки ковыльной травы. Лентообразная надпись возвещала: Молитвы об усопших".
В сознанье Александры тут же сработало, что все это из области её основной проблемы.
– Ваша книжке, Вера? Можно посмотреть?
Вера кивнула – а что ее оставалось делать? Александра раскрыла страницу наугад и прочла:
"Ты без числа милосерд нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе, Всесильному – так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.
Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.
Иисусе, по смерти милующий нас по ходатайству близких.
Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми". [1]
Александра была удивлена. Она ожидала от церковной книги витиеватости, скрывающей в сплетении недомолвок и завитушек слога отсутствие чёткой мысли. Вроде бы обо всем сказано, а конкретно – ни о чём; таков был опыт её предыдущих, правда, немногочисленных попыток знакомства с подобными текстами. Они оставляли ощущенье некоей глубокомысленности, искусно нагнетаемой автором (кстати, а кто пишет такие книги?), но ответов на мучившие душу вопросы не давали. Да и можно ли ответить, когда смысл человеческого бытия, проблемы жизни и смерти никому доподлинно не известны? А раз так, то и не обещайте, господа в церковных одеждах, не заманивайте своими книжками, полными красивостей и отступлений, но пустыми по сути дела.
Данный текст при обилии восхвалений не имел тайной цели потопить в них читателя – Александра сразу уловила это своим обостренным на прямоту и порядочность чутьем. Видимо, здесь действительно пытаются дать ответы, которых она не может пока воспринять в силу общего своего незнания. Но это такая малость по сравнению с фактом существования – предположительного, ибо точно еще ничего не известно – книги, ставящей все на свои места.
– Что это? – бестолково спросила Александра, вкладывая в вопрос свою растерянность и едва ли не восхищение. Вера заглянула через её плечо:
– Акафист за единоумершего. – И, подметив непонимающий взгляд кураторши, объяснила: – Заупокойный акафист. Читается отдельно за одного умершего.
– А кто такой Симон Киринейский?
– Он какое-то время нес Крест Христа, – отвечала Вера с таким волнением, что Александра сразу отнесла её про себя к разряду верующих. – Христос шел на распятье, теряя под тяжестью Креста сознание. Его приводили в чувство бичами. А потом увидели, что так ничего не выйдет и заставили нести Симона Киринейского.
– Выходит, Христос не мог донести, – вычленила Александра. – Как же это понять? Он – Бог, обладающий сверхъестественными возможностями.
– Он воплотился в человека.
– Зачем? – удивилась Александра. – Для чего делать себя уязвимым, если можешь быть неуязвим?
– Он пришел пострадать. – Вера даже поднялась с места, очевидно, не считая возможным говорить о таких вещах сидя. – Пострадать во всех смыслах, и физически тоже. Его тело должно было воспринимать боль, иначе Христос не мог бы спасти людей.
– От чего спасти? – спросила Александра. – Разве после Христа на свете стало меньше горя?
– От смерти.
Александра словно споткнулась на ровном месте. До сих пор она следила за мыслью своей собеседницы, но теперь поняла, что это невозможно. Скажите пожалуйста, от смерти! Несмотря на то, что ее отец, и тот, по ком эта девица читает заупокойные акафисты, и еще многое множество людей – мертвы. От смерти! Стоит ли вообще отвечать на столь очевидный абсурд?
– Смерть – значит ад, – услышала она Верин голос. – По-церковному, смерть – не смерть, а только переход к другому существованию. Умереть же в полном смысле слова значит оказаться в аду.
– В аду ничего не чувствуют?
– Чувствуют вечные мученья.
– Значит, смерть – это не конец, а концентрация всего плохого? – уточнила Александра. – И как же от этой смерти Христос спас людей?
– Он добровольно мучился и Сам умер, чтобы победить ад. "Смертию смерть поправ" – так говорится в пасхальной молитве.
– Кстати, что значит праздник Пасхи?
– Воскресенье Христово. – Вера говорила медленно, боясь неправильно подобрать слова, но тут ее интонации стали уверенными. – Через три дня после крестной смерти Христос воскрес.
– А спасенье людей осталось?
– Конечно. Оно совершилось навсегда.
– Но ведь если верить церковному ученью, многие и теперь попадают в ад! – Александру вновь стало раздражать отсутствие логики.
– Не принявшие Искупленья.
– То есть?
– Крестных страданий Христа. Если человек в них не верит, и вообще... не старается жить по-христиански, то для него их как будто и не было.
Скрипнула дверь, вошла Маня с чайником. Увидев "Молитвы об усопших" в руках кураторши, мгновенно отреагировала улыбкой. Маня не любила ничего скрывать, а в данном случае вообще считала бессмысленным. Это Верке втемяшилось делать изо всего тайну.
– Показала? – улыбнулась Маня в сторону подруги. – Ну и правильно. Знаете, Александра Иванна, она эти молитвы каждый день читает. Только не хочет, чтобы кто знал. Я удивляюсь, как она вам-то...
– Каждый день? – переспросила Александра.
Это уже выглядело не увлеченьем, а довольно устойчивой жизненной позицией, в свете которой все сказанное Верой обретало некоторый статус. Каждый день! Это не так просто. Наверняка бывает, что нет времени, настроенья, в конце концов может что-нибудь заболеть... каждый день!
– Ага, так у ней заведено. А когда мы работаем, вообще цейтнот, – с увлечением продолжала Маня, игнорируя Верины попытки прервать этот увлеченно текущий рассказ. – Тогда она дома не успевает, а на работе тоже не почитаешь – там то одно, то другое. Прерываться ж нельзя, вы понимаете. И вот Верка придумала – вечером из института не уходить и, пока нет никого, читать. Там фонарь под окошком...
– Знаю, – отозвалась Александра. – Теперь я поняла.
– Мы уж не первый раз: она читает, я на стреме. Но обычно никого нет, вот я сегодня и расслабилась. Вас прозевала, – слегка рассмеялась Маня. – А вообще это был для нас выход, – серьезно добавила она. – Иногда и я прочитывала.
Несколько секунд все молчали.
– Акафист за единоумершего, – раздумчиво произнесла Александра. – Читается за одного умершего. Можно узнать, за кого вы читаете? – обратилась она к Мане.
– За разных. Сегодня за одного, завтра за другого. Самые-то близкие у меня все, слава Богу, живы.
– А вы, Вера?
Она отвечала не сразу, словно колеблясь, стоит ли говорить:
– Я – за своего деда.
Сколько Вера себя помнила, дед всегда состоял при ней. В раннем детстве катал на санках, привозил в парк, где она кружилась на карусели, подводил к другим детям, чтобы внучке было с кем поиграть. В школе Вере стоило задержаться после уроков, как снизу уже шел дежурный старшеклассник: "Коренева, за тобой пришли... Кореневу дедушка ждет..." В многочисленных кружках и секциях, которые она в разное время посещала, все хорошо знали ее деда: в группе "Волейбол" он чинил прорвавшуюся сетку, в драмкружке клеил картонные декорации. Большинство школьных опытов по физике и по химии Вера увидела не в классе, где учителя предпочитали не брать на себя лишней нагрузки, а дома, в ванной комнате, которую дед временно превращал в лабораторию. Он даже обзавелся специальной литературой – в восьмом классе Вере намозолила глаза книжная обложка, на которой атомы были изображены в виде воздушных шариков, а снизу шла надпись: "И.П.Сидоров. Занимательная химия".








