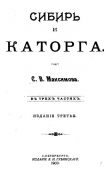Текст книги "100 великих узников"
Автор книги: Надежда Ионина
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Алжирский пленник Сервантес
Простодушный Санчо Панса, один из любимых героев великого испанского писателя Сервантеса, говорит: „Слышал я, что эта, называемая нами, судьба – баба причудливая, капризная, всегда хмельная и вдобавок слепа. Она не видит, что творит, и не знает ни кого унижает, ни кого возвышает“. По отношению к Сервантесу „хмельная и слепая баба“ неизменно оказывалась капризной и решительно не хотела знать того, кого так упорно унижала. Если писатель и не был до конца побежден несчастьями, то только благодаря счастливым свойствам своей человеческой натуры, которыми наделила его более благосклонная к нему природа. Когда его личные мечты разбивались о действительность, горячо любящее сердце писателя было счастливо чужим счастьем, а веселый нрав позволял быстро забывать собственные страдания и неудачи.
Юношей Сервантес стремился к военной карьере. Брат его Родриго уже находился с войсками во Фландрии, и младшему брату, естественно, следовало бы оставаться в семье, но Сервантес и слышать не хотел ни о какой гражданской деятельности. Военные доблести представлялись ему выше всех других добродетелей, так как первое правило испанского рыцаря – уметь воевать. Звание солдата Сервантес ставил выше всех других, но только солдата-рыцаря. Он даже готов был жалеть, что появился порох, ведь после его изобретения личное мужество утратило свое былое значение, так как даже самый доблестный рыцарь может быть сражен шальной пулей.
Сервантес был исполнен отваги и силы и мечтал в бою завоевать новые лавры своему древнему роду. Он будто рожден, чтобы быть героем войны – таковы у него и повадки, и внешность: мужественное смуглое лицо, высокий лоб, орлиный нос, брови дугой, резко очерченный рот, черные волосы зачесаны назад… Для такого красавца-рыцаря дерзким вызовом судьбе должны стать личные мужество и храбрость. Нужно только поле битвы, и оно нашлось…
На Средиземном море тогда шла неутомимая борьба с турками. Турция была могущественной державой, ее султан грозил всему христианскому миру, и жители средиземноморских городов дня не могли прожить спокойно. Борьба была беспощадная, отчаянная и вместе с тем героическая. Обе стороны – христиане и мусульмане – совершали чудеса храбрости; это был грозный поединок лицом к лицу, и не было юноши, который бы не мечтал о славе именно в этих сражениях.
Битва при Лепанто длилась все утро 15 сентября 1571 года. Каждое судно превратилось в арену отчаянной схватки. Сервантес, попавший в самое горячее место сражения, получил четыре раны, пуля раздробила ему левую руку. Турки в этом сражении потерпели поражение, и 15 000 невольников-христиан были освобождены с турецких кораблей.
Но 26 сентября корабль „Эль Соль“ („Солнце“), на котором Сервантес с братом возвращались домой, был окружен алжирскими пиратами. Испанцы несколько часов яростно сопротивлялись, и многие из них погибли, а оставшихся в живых пираты связали и отвели на свои галеры. Так начался алжирский плен Сервантеса и его брата Родриго.
Прибыв в порт Алжир, корсары начали делить добычу. Пленников разделили на две группы: одних сохраняли для выкупа, другие предназначались для работы. Ожидающие выкупа не работали, однако порой их держали строже остальных. Сервантес достался свирепому албанцу, носившему арабское имя Дали-Мами, но большинству он был известен под кличкой „Хромой“. На его корабле были гребцы-рабы, которые не имели цены и потому были обречены сидеть здесь до самой смерти. Некоторые из них были без ушей, другие без глаза – следы минутного раздражения Дали-Мами. Рассказывали, что однажды он приказал отрубить одному из нерасторопных гребцов руку и этой рукой избить всю команду…
При Сервантесе были хвалебные письма от своих начальников, в том числе и от принца Хуана, в которых говорилось о храбрости и мужестве изувеченного рыцаря и призывалась на него особая милость короля. Пираты тотчас вообразили, что им попался очень важный пленник, за которого можно получить большой выкуп. А значит, его следует держать покрепче и построже.
Сойдя на африканский берег, Сервантес увидел совершенно новую для себя картину. В Алжире, который был гнездом пиратов и корсаров, в то время царило настоящее вавилонское столпотворение. Здесь можно было встретить представителей всех европейских и азиатских народов, и все они говорили на удивительном наречии, составленном из смеси разных языков. Это пестрое смешение рас и национальностей поразило и оглушило Сервантеса. В невообразимой сутолоке толпились арабы, греки, турки, евреи; среди иноверцев суетились христиане-рабы, служившие садовниками, ремесленниками, гребцами… Привезенные с разных концов света товары или тут же продавались, или обменивались на местные. Между купцами сновали покупатели, на пристани в невообразимом шуме и хаосе толпились алькады, свирепые военачальники и янычары. У самого моря строились, оснащались и снаряжались галиоты – и все это делалось руками рабов-христиан.
Легко и весело жилось в разбойничьем городе Алжире, где всегда можно было увидеть массу интересного: шествие дея и его телохранителей, парад янычар под рев труб и дудок, ежедневные бичевания перед замком, едва над Большой мечетью взовьется белый флаг, возвещающий полдень. Для жителей Алжира праздником было и прибытие кораблей с добычей. Никогда не пустовал Бадистан – рынок рабов, находившийся у самого моря возле Большой мечети. Это была красивая площадка, огороженная кольями и уставленная столиками для расчетов. Здесь пленников раздевали, и вся толпа принимала участие в оценке их физических качеств. Вместо собственной одежды пленникам выдавали грубую рубаху, штаны, подобие короткого кафтана, туфли и красную шапку, в придачу бросали небольшое шерстяное одеяло. Потом начиналась торговля. Турки, иудеи и мавры осматривали „живой товар“, ощупывали плечи, ноги, руки… Так жил жестокий и сумасбродный город, в который был занесен испанский идальго Мигель Сервантес де Сааведра – верующий человек, полный отваги, фантазии и сострадания. Тяжелые мысли овладели Сервантесом, когда он оглядел этот берег, где еще не так давно – в царствование короля Фердинанда Католического – развевалось кастильское знамя. Ему вспомнилась экспедиция короля Карла V, который мечтал основать на африканском берегу свой военный пост.
Сервантес был непродажным, поэтому его отвели в сторону, а потом вместе с тремя другими пленниками – в тюрьму. Он вступил в большое сводчатое и полутемное помещение, в котором пахло сыростью и гнилью. Так как за него надеялись получить большой выкуп, его содержали строго-в цепях и с большим кольцом на шее, чтобы усилить в нем стремление к свободе и сделать его более сговорчивым при обсуждении размера выкупа. Повествуя о жестокости Гасан-паши, турецкого наместника в Алжире, Сервантес вспоминал в „Дон Кихоте“:
Каждый день он кого-нибудь вешал, других сажал на кол, третьим отрезал уши, и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без повода… Единственно, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Сааведра, – тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу… Однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избивать его и не сказал ему худого слова, а между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную проделку посадят на кол.
Сервантесу даже разрешили развлекаться в Алжире, и он мог целыми днями бродить по городу, позванивая цепью на ноге и разглядывая окружающее. Через неделю он уже освоился со всеми закоулками города, а потом нашелся для него и заработок. Стольким невольникам нужно было отправить на родину письма с просьбой о выкупе, а писать умели немногие. Существовали, правда, специальные писцы, но они плохо владели даром слова, письма у них получались холодные и сухие, к тому же за свои услуги они брали дорого. Сервантес же требовал от просителей, чтобы они рассказали ему о тех родственниках и далеких друзьях, кому отправлялись письма. Его обступали судьбы многих людей, и потому под быстрым пером каждое их слово, каждая жалоба оживали. Он писал к андалузским крестьянам, рыбакам с Майорки, итальянским горожанам, богатым покровителям в канцелярии и монастыри…
Сервантес был суров к себе, но мучительно чувствовал чужие страдания. А кругом творились ужасные вещи, людей ежедневно сжигали на кострах, колесовали, вешали, четвертовали, раздирали на части, привязывая к лошадям. За несколько украденных грошей голодным и нищим людям отрубали руку. Казни, увечья, пытки были для алжирского дея повседневной забавой, вопли замученных – привычными звуками вроде ослиных криков или позвякивания колокольчиков водоносов. Стоило лишь пройти в полдень мимо Дженины, где обитал турецкий наместник, и можно было увидеть нагих, распростертых „преступников“. Двое стражников держали наказываемого за ноги и за шею, двое других размеренно били его тяжелыми палками, выкрикивая число ударов… Сам Сервантес ничего не делал для своего выкупа, да и кто бы мог его выкупить? Брат Родриго, попавший в дом к врачу-еврею, с каждым отплывавшим за море кораблем отправлял письма о несчастьях Мигеля. Родители и сестры Сервантеса продали все, что только можно было продать, и старательно копили деньги. Одна из сестер, монахиня, не щадя сил, обслуживала настоятельницу монастыря; другая отказалась от покупки новых платьев и украшений и старательно копила реалы, которые ей дарили кавалеры. Родственники Сервантеса подавали петиции, целыми днями просиживали в королевской канцелярии; они питались практически только луком и хлебом, но суммы, набиравшиеся с таким трудом, были очень ничтожными, а требовалось 2000 дукатов.
И тогда Сервантес решил бежать, что уже само по себе было величайшим преступлением. „Товар хочет быть свободным“? В этих случаях жадность и жестокость объединялись, и зверски каралась даже сама попытка побега. Стенные крючья за воротами тюрем были постоянно „украшены“ головами христиан, и у алжирских коршунов всегда была сытая трапеза.
Первая попытка побега закончилась для Сервантеса и его товарищей неудачно, так как нанятый проводник покинул беглецов уже через несколько дней. Им пришлось возвратиться в Алжир, где они поплатились за свою дерзостную попытку новыми цепями и карцером. Не увенчалась успехом и вторая попытка побега, и Сервантеса по приказу Гасана-паши доставили к нему во дворец. Ожидая мучительной казни, Сервантес взял всю вину за организацию побега на себя, но жестокий Гасан-паша распорядился посадить пленника в дворцовую тюрьму, заковать в цепи и держать в полном одиночестве. Но и после второй неудачи Сервантес не пал духом.
Из тюрьмы он вышел через семь месяцев, и жизнь его в последующие годы была весьма своеобразной. Достойный смерти в глазах алжирских правителей, Сервантес тем не менее оставался жить, и даже ни один волосок не упал с его головы. Он по-прежнему жил в тюрьме, но мог подолгу пропадать и ночевать где угодно, хоть под звездами, так что при возвращении стража встречала его как докучливого знакомца. Его знали в городе все, и о нем говорили многое: например, что ужасный Гасан-паша питал к нему мрачную привязанность и потому щадил его. И это было до того удивительно, что многие шептали о колдовстве.
В марте 1578 года Сервантес попытался отправить письмо Мартину де Кордова, коменданту Орана, с просьбой прислать людей и средства для организации нового побега группы невольников.
Мавра, отправившегося с этим письмом, задержала алжирская пограничная стража, а письмо передали Гасану-паше. Тот приказал забить гонца до смерти, а Сервантесу дать 2000 ударов палками. Однако наказание это не было приведено в исполнение, благодаря заступничеству „третьих лиц“.
В сентябре 1579 года у него был готов новый план: в осуществлении его должны были принять участие два валенсийских купца, проживавших в Алжире. Они согласились приобрести фелюгу, на которой в Испанию собирались отплыть 69 пленников во главе с Сервантесом и неким лиценциатом Хироном. Но от доминиканского монаха Хуана Бланко де Паса о плане узнал Гасан-паша, и Сервантес скрылся в доме испанца Диего Кастельяно. Через уличных глашатаев было объявлено о его розыске. Не желая, чтобы пострадали другие участники заговора, Сервантес сам явился во дворец наместника. Допрошенный с веревкой на шее и со связанными руками, он отказался назвать имена своих товарищей, кроме четырех, которые были уже в безопасности. Сервантеса снова заключили в дворцовую тюрьму, заковав в цепи. Он был прикован у самого входа в большой двор, но длинная тонкая цепь давала ему возможность прохаживаться: эта цепь была специально изготовлена для Сервантеса, и была она серебряной.
Многие исследователи жизни и творчества Сервантеса пытались разгадать причину хорошего отношения Гасана-паши к своему узнику. Что скрывалось за ним? Может быть, правитель Алжира видел в Сервантесе своего рода талисман? Слуга передавал слова, которые однажды вырвались у паши за столом: „Не погибнет город Алжир, корабли его, рабы и добро, пока будет во дворце однорукий“. Гасан-паша держал при себе Сервантеса как держат благородного неукротимого зверя. „Мой знаменитый леопард“, – говорил он гостям, подводя их к нише, где сидел и писал Сервантес, потому что паша разрешил ему заниматься всем, чем тот захочет. Кроме того, его два раза в день спускали с цепи и позволяли вдоволь плескаться в одном из колодцев. Через каждые две недели приходил цирюльник и подстригал „леопарду“ бороду.
А Сервантес сидел в своей нише, и перед глазами его проходила вся жизнь Дженины. Он изучал пестрые церемониалы разбойничьего двора, затейливое смешение западного с восточным, видел суд и расправу, видел, как людей обезглавливали, вешали, сажали на кол, а потом отмывали кровь с каменных плит, по которым в вечерней прохладе прогуливался паша. Узник знал о таких делах государства, о которых, пожалуй, не знал никто.
Но наступил день, когда Сервантеса выкупили за 500 эскудо. И вот он свободен! Однако, прежде чем отплыть на родину, ему пришлось „оправдываться“, ведь выкупленный доминиканский монах Хуан Бланко де Пас, опасаясь разоблачения своего предательства, стал писать на Сервантеса ядовитые доносы. Он приписывал ему осмеяние христианской веры, приверженность к исламу, продажность, развращенность и всякие беспутства… И вместо того, чтобы радостно устремиться на родину, Сервантесу пришлось еще много недель топтать знакомые мостовые, вымаливать свидетельские показания, обстоятельно доказывать свое смирение: что он – не еретик, не тайный мусульманин, не лжец, не развратник, а верный и добронравный сын католической церкви.
Он покинул Алжир 24 октября 1580 года. Впоследствии в „Великодушном поклоннике“ Сервантес писал:
На следующий день они увидели перед собой желанную и горячо любимую родину. Веселье снова заиграло в их сердцах; новое, неиспытанное блаженство потрясло их души, ибо выйти после долгого плена живым и здоровым на берег своего отечества – одна из самых больших радостей нашей жизни.
Этому вторит в „Дон Кихоте“ и пленный капитан: „Нет на свете большей радости, нежели радость вновь обретенной свободы!“
В монастырских тюрьмах
Стоустая молва распространяла о монастырских тюрьмах самые невероятные рассказы, будто целые десятилетия люди в них сидели без суда и следствия, а заточали их сюда „по высочайшему повелению“ навечно. И имен их назвать никто не может, разве что изредка в каком-нибудь раскольничьем скиту, молясь за своего исчезнувшего собрата, называли посвященным место его заточения. При этом часто называли подземные тюрьмы и „каюты“ Соловецкого монастыря или „арестантские чуланы“ Суздаля.
Монастырские тюрьмы находились вне всякого контроля со стороны судебных и правительственных органов. Общеизвестен факт, что в Средние века вообще все монастырские тюрьмы относились исключительно к церковной юрисдикции, и если подсудимый не признавал свою вину, то отцы инквизиции видели в этом только его упорство в ереси. Если инквизиторы считали, что все средства словесного убеждения исчерпаны, а подсудимый все не сознается, его подвергали страшным пыткам, выдержать которые могли немногие. Например, жертву клали на стол или на скамью, утыканную острыми гвоздями, нос и рот ему затыкали тряпкой и медленно лили на нее воду. Несчастный задыхался, испытывая в то же время ужасные мучения от острых гвоздей. В другой раз ноги жертвы заковывали, смазывали жиром и начинали пытать огнем: кожа лопалась, обнаженные кости обугливались, причиняя человеку страшную боль… Оправдываться подсудимый вообще не мог, все его уверения заведомо считались ложными, к показаниям приглашенных им свидетелей относились с предубеждением, к тому же родственники и прислуга давать показаний в его пользу не могли, а вот их показания против подсудимого имели огромное значение. И несчастному оставалось только раскаиваться или упорствовать дальше… Но даже и раскаяние под пыткой для еретика – в лучшем случае! – оборачивалось длительным заключением, а чаще всего пожизненным.
В средневековых тюрьмах существовала строгая градация. Например, „теснейшие тюрьмы“ (одиночные) обычно располагались в самых подземных темницах, и узники содержались здесь на „хлебе печали“ и „воде скорби“. Свое происхождение такая тюрьма ведет от бенедиктинского монаха Мобильона, но впервые такую тюрьму построил римский папа Климент IX, разместив ее в доме Святого Михаила в Риме. Предназначалась она для несовершеннолетних преступников, труд которых нещадно эксплуатировался. Взрослые же арестанты должны были работать в общих камерах, молча, а за нарушение их подвергали строгому наказанию. На ночь и взрослых преступников разъединяли…
По сообщению русского криминалиста И. Я. Фойницкого, некто Дефорж был брошен в камеру площадью в 8 квадратных аршин, куда дневной свет проникал лишь через темное отверстие в церковном полу. В камере под церковью узник пробыл три года, а когда его освобождали, то были приняты все меры, чтобы от быстрого перехода к свету он не потерял зрение.
В России всякий узник, направлявшийся в „тесное заточение“ монастыря, сопровождался инструкцией, в которой указывалось, как его содержать, как охранять и т. д. Почти каждый из доставляемых в монастырскую тюрьму арестантов предварительно подвергался жесточайшему наказанию, о чем тоже говорилось в церковных актах. Например, „бить кнутом нещадно и, вырезав ноздри… скована в ручных и ножных кандалах содержать в особом уединенном месте под крепким караулом“. Самых опасных преступников, которых предписывалось держать „до смерти неисходно“ в особо уединенном месте, сажали в „каменные мешки“. Их устраивали в стенах верхних этажей крепостных башен, и представляли они собой каменное помещение длиной около полутора метров, шириной чуть более метра и высотой три метра. У одной из стен выкладывалась каменная лавочка шириной около одного метра; маленькое окошечко „каменного мешка“ было такой ширины, чтобы в него можно было только просунуть руку с едой. В таком месте невозможно было лечь, и несчастный узник годами сидел в полусогнутом положении.
В одном из казематов Николо-Корельского монастыря был замурован новгородский епископ Феодосии Яновский – соперник и враг Феофана Прокоповича. Он был брошен на хлеб и воду в тюремную „келью“, находившуюся под церковью, „за дерзость“ против императрицы Екатерины I и „за бранные слова на дворцовый караул“. „Келья“ его была запечатана губернаторской печатью с предписанием „содержать Яновского накрепко, а придет смерть – похоронить в том же монастыре“. В тюрьме Ф. Яновский провел чуть более семи месяцев, а потом было приказано перевести узника из запечатанного каземата в другую келью. Но заключенный был уже так плох, что не мог ходить, и его несли на руках.
Но самыми ужасными были „земляные тюрьмы“, которые обычно устраивались под башнями. Они представляли собой вырытую в земле яму глубиной около 2,5 метра. Края ее облицовывались кирпичом или просто плитняком; иногда в нее вставлялся сруб, а для спанья узнику постилали солому. Крыша „земляной тюрьмы“ состояла из досок, покрытых тонким слоем земли или дёрна; в крыше имелось отверстие, в которое можно было подать и опустить узника и подать ему еду. Отверстие это запиралось на замок, ключ от которого хранился у монахов. В таких „погребах“ разводилось множество крыс и паразитов, и часто заключённых вынимали оттуда с отъеденными пятками, носом или ушами, о чем тоже свидетельствуют монастырские акты. Давать же узнику что-либо для своей защиты строго запрещалось под угрозой самому оказаться в „земляной тюрьме“. В монастырях, кроме колокольного звона, часто раздавалось бряцание оружия и лязг кандалов; кроме божественного пения, слышались свист кнута, стоны и проклятия заключенных… За годы долгого заключения в „земляной тюрьме“ люди теряли рассудок, а чтобы они не кричали и не протестовали, им нередко отрезали языки.
В. Романов, сосланный по доносу своего холопа в Пелым, был посажен в „земляную тюрьму“ вместе со старшим братом Михаилом. Яму копали при них же, и Михаил, чем-то рассерженный, „хватил обеими руками сани, на которых их привезли, и отбросил от себя на несколько саженей. На него надели „железа“ весом в два пуда, „стул“ (плечевые железа) весом в 30 фунтов, ручные (12 фунтов) и ножные (19 фунтов) кандалы и замок для них весом в 10 фунтов. В. Романов погиб в „земляной тюрьме“ от истощения, хотя сердобольные жители посылали своих детей носить ему квас и молоко… в дудочках. Несмотря на свою необыкновенную силу, не прожил года и брат его…“
В „земляной тюрьме“ сидела и знаменитая помещица Салтычиха (Д. Н. Салтыкова), прославившаяся изуверскими истязаниями своих дворовых девушек. Слухи о ее мучительствах дошли до широких кругов общественности, и правительство вынуждено было начать официальное расследование. Оно подтвердило, что свирепая помещица замучила до смерти 38 дворовых людей; кроме того, ее подозревали в убийстве еще 26 человек, но доказательств этому „не нашлось“. Юстиц-коллегия присудила отсечь помещице голову, однако Сенат решил смягчить приговор: бить Салтычиху кнутом на площади, а потом сослать в Нерчинск в каторжные работы. Императрица и это наказание смягчила: на Красную площадь помещицу привезли на позорной колеснице, в саване, привязали к позорному столбу, где она под снежными хлопьями простояла около часа. Затем ее снова усадили в повозку и увезли в старый Ивановский монастырь. Здесь Салтычиху поместили в „земляную тюрьму“, располагавшуюся под соборной церковью, где она просидела около 11 лет.
Не спасали от монастырских казематов ни болезнь, ни возраст. Малолетний казачий сын И. Панасенко был заключен в Соловецкий монастырь за убийство 8-летней девочки Самому „преступнику“ было тогда 10 лет, и убийство произошло случайно, однако он пробыл в тюрьме шесть лет, а потом был отдан в солдаты.
В допетровское время право ссылать в монастырские тюрьмы принадлежало только царю, патриарху, митрополитам и архиереям, то есть люди попадали туда без решения суда. Но были случаи, что туда попадали и вопреки решению суда, когда в борьбе с „преступными мыслями“ правительство не находило поддержки даже в бюрократической судебной среде.
В монастырские тюрьмы часто отправляли людей, деяния которых не подпадали ни под какую статью закона, а с точки зрения евангельских истин они вообще заслуживали всяческого уважения. Но в основном в монастырских тюрьмах сидели так называемые „религиозные преступники“, вся вина которых заключалась в своеобразном понимании ими тех или иных вопросов веры, той или иной евангельской истины, а порой и того или иного житейского принципа.
Многих несчастных суровый монастырский режим доводил до умственного расстройства, но в монастырские тюрьмы ссылались и просто психически больные люди, в бреду которых начальство усматривало хулу на религию. Например, в 1820-х года шатался по монастырям один юродивый; зимой и летом он ходил босой и рассказывал всякого рода истории, вроде того, что святые архангелы – Гавриил, Михаил и Рафаил – и Святитель Николай ослушались Всевышнего Владыку, за что и были посажены под арест в небольшую избу. Юродивого арестовали и посадили в Шлиссельбург, потом он побывал в Литовском замке, в монастыре на Ужме, все церковные обряды исполнял, но крестился двумя перстами. Монастырское начальство усмотрело в его поведении умственное расстройство и послало его на медицинское освидетельствование, после чего врачи сделали такой вывод: „У крестьянина Сергеева при возбуждении религиозных ощущений воспламеняется необыкновенный энтузиазм, и воображение его, напитанное, Может быть, какими-либо невежественными понятиями о духовном мире, выходит из правил здорового рассудка, но обществу вреда наносить не может“. Однако Синод не согласился с мнением врачей, что крестьянина Сергеева можно оставить на свободе, и отправил его в Соловецкий монастырь.
Ссылали в монастырские тюрьмы и только за „сумасшествие“, и ничего больше за такими узниками не числилось. Например, дворовый человек С. Трифонов – „как он есть сумасшедший, оттого и происходили разные непристойные слова, и для того во всем; что он при разговорах произносить будет – не верить“. Протоиерей Савва Стоянов в 1813 году был отправлен в Суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь „на содержание в сем монастыре за повреждением в рассудке“.
Вообще состояние узников этого монастыря часто пестрит такими выражениями: „по причине исступления его в уме“, „для содержания по сумасшедствию“, „по причине помешательства ума его“ и т. д. а в сентябре 1894 года в „арестантское отделение Суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря был посажен крестьянин Рахов за распространение им штунды“[18]18
Штундизм – сектантское течение, появившееся в среде русских и украинских крестьян во второй половине XIX века. Возникло под влиянием протестантизма, а название его произошло от немецкого слова Stunde (час) – время религиозных чтений у немецких колонистов.
[Закрыть] [Штундизм – сектантское течение, появившееся в среде русских и украинских крестьян во второй половине XIX века. Возникло под влиянием протестантизма, а название его произошло от немецкого слова Stunde (час) – время религиозных чтений у немецких колонистов]. Инструкция предписывай „держать его там впредь до обнаружения им искреннего раскаяния и исправления“. Штундистом узник никогда не был, а к такому обвинению послужила его деятельность на пользу ближним. Невежество народа, бедность его и непробудное пьянство – все возбуждало в Рахове глубокое сострадание, и он, насколько позволяли силы, вносил в окружающий его ужас утешение и помощь. В глухой деревушке он обучал грамоте крестьянских детей, стирался воздействовать на взрослых, и скоро его проповеди стали давать желаемый результат. Однако местному духовенству деятельность Рахова не понравилась, и против него возбудили уголовное дело. Он переселился в Архангельск, где тоже вскоре сделался благодетелем всех обездоленных, словом и делом помогал беднякам, случалось, что при встрече с нищим отдавал ему свою шубу… В тяжелый 1892 год он открыл в разных концах города столовые, где кормили голодных; устроил мастерские и „дом трудолюбия“, для бесприютных открыл ночлежный дом.
Но и в Архангельске Рахова не оставляли в покое. Духовенство донесло в полицию, будто он не исполняет некоторые церковные обряды. Во всех основанных им учреждениях полиция произвела обыск, но ничего подозрительного не нашла и оправдала Рахова. И тогда духовенство обратилось в Святейший Синод с ходатайством о заключении Рахова в Суздальский монастырь, где он пробыл семь лет. Архимандрит Досифей докладывал, что узник „вел себя прилично и благопокорно, религиозных заблуждений не обнаруживал, к церкви был усерден и приобщался ее святых тайн“. В 1898 году к этим отзывам добавилось: „Освобождения заслуживает“, однако освобождения не последовало. Рахова лишь перевели из одиночной камеры в келью и „поместили среди братии монастыря“ – опять же под строгий надзор монастырского начальства.
Новый архимандрит, назначенный после смерти отца Досифея, тоже отмечал в своих рапортах, что Рахов не был сектантом.
Он соблюдает все посты и обряды, ежедневно ходит к обедне, участвует в хоре певчих, почитает иконы, перед которыми зажигает в своей келье четыре лампады, свободно беседует со всеми при его открытом характере о предметах веры. И никто в продолжение пяти лет – ни начальство, ни духовник, ни иеромонахи – не заметили в нем никаких заблуждений. Только по неопытности и молодости лет он слишком горячо относится к чужим недостаткам и разочарованно смотрит на современных христиан.
Однако это послание не подействовало, и архимандрит шлет новый рапорт, но уже осторожнее.
Если по указу Святейшего Синода признавались в нем (Рахове. – Ред.) какие-либо идеи, доказывающие его склонность к штунде, то за последние годы „надо их считать не существующими, исчезнувшими вследствие перенесенных им нравственных испытаний и в тюрьме, и затем во время нахождения под надзором. Теперь молодые годы его прошли и после всего пережитого им в Суздале, а в особенности после потери здоровья, он никакими идеями не увлекается…“