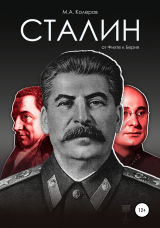
Текст книги "Сталин: от Фихте к Берия"
Автор книги: Модест Колеров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Машина
О присущем эпохе индустриальном превращении науки, позитивного знания в проективное искусство как область произвола великий французский историк Люсьен Февр (1878–1956) сказал так: «Бертло говорил в 1860 году об органической химии, основанной на синтезе.
Опьянённый первыми её успехами, он восклицал: “Химия сама творит свои объекты!”… современные учёные всё чаще и чаще определяют Науку именно как творчество, являют её нам в момент “создания своих объектов» и подчёркивают постоянное вмешательство в неё самого исследователя – его воли, его творческой активности”107107
Люсьен Февр. Как жить историей [1941] // Люсьен Февр. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 35.
[Закрыть]. Посетив СССР, лично связанный с русскими Джон Кейнс (1883–1946) с готовностью отказался от леса экономических формул в своём критическом описании практического коммунизма и поддержал в его образе проективно-символический синтез органицизма и сциентизма, который ничем не отличается от позитивистского пафоса XIX века, который хорошо видит массовое социальное и легко игнорирует его, прикрывшись энтузиазмом «социальной гигиены». «Временами ощущается, что именно здесь, – несмотря на бедность, глупость и притеснения, – Лаборатория Жизни», – писал об СССР Кейнс108108
Джон Кейнс. Беглый взгляд на Советскую Россию [1925] // Джон Кейнс. Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой / Пер. Э. Лаврик. М., 2015. С. 74.
[Закрыть].
Предчувствие русского писателя, высказанное из глубины французского фронта Первой мировой войны, прямо оперировало Машиной:
«Как-то рождается вопрос, какой будет война через сто лет, и встают видения не то апокалипсиса, не то утопического романа (…) я скорее чув– ствую, чем познаю этого страшного бога – Машину»109109
Илья Эренбург. Лик войны [Октябрь 1916] // Илья Эренбург. Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные статьи, 1915–1917 / Изд. подг. Б. Я. Фрезинский. СПб., 2014. С. 229. С тем же почти восхищением писал из Франции эсэр Б. В. Савинков: «Война стала машинной. Так говорят газеты, так говорят обыватели, так говорят даже те, которые дерутся в траншеях… Немцы 40 лет готовились к этой войне. Они предвидели значение машины. Они создали её, эту губительную машину. Они поклонились ей… И только через два с половиной года войны французы в неодушевлённом, в машинном, в производственном, в наживном сравнялись с ними и даже их превзошли» (Б. Савинков. Во Франции во время войны. Сентябрь 1914 – июнь 1915 [1916]. М., 2008. С. 251–252). Ср.: «Будущая война – это война механизированная. Каждая страна будет превращена в огромную фабрику средств истребления. Мотору в деле механизированного убийства будет принадлежать решающее место» (Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе против войны и военной опасности. Тезисы [Восьмого пленума ИККИ, 18–30 мая 1927] // Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 705).
[Закрыть]. Современный исследователь Валерий Подорога детализирует индустриальный Gesamtkunstwerk с высоты опыта XX века и науки ХХ века о новом времени:
«В центре европейского и русского авангарда – Великая Машина в своих самых различных ипостасях. В отличие от модернистской эпохи, где ещё не сформировался настоящий интерес к науке, её техническим возможностям и машинам. Западноевропейский авангард принял машину как род новой, высшей Реальности, заместившей собой старую, – реальность Природы. Машина, вытесняющая природное, и есть ожидаемая, “обесчеловеченная” новая Природа. Что такое Революция, как не процесс творения новой Мегамашины? Разве она могла стать возможной, если бы не обладала такой машиной, способной разрушить прежний политический строй (…) Общее представление о Машине можно разбить на классы, каждый из которых предполагает соответствующую машину. Классы эти следующие: первый, технические машины…; второй, социальные (сюда можно отнести педагогическо-ортопедические, медицинские, паноптические или следящие-надзирающие, бюрократические, милитарные, террористические, имперские (территориальные) и пр.); третий, биомашины или машины органические, репродуктивные (самовоспроизводящиеся); четвёртый класс машин, которые не относятся прямо ни к одному, ни к другому классу, они – “между”, это машины сновидные, воображаемые или фантастические (литературные, театральные, архитектурные и пр.)…» 110 110
Валерий Подорога. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос. М., 2010. № 1 (74). С. 22, 27.
[Закрыть]
Трудно избавиться от впечатления, что этот подробно описанный Валерием Подорогой образ Машины, в котором сливается пафос индустриального Запада и советского коммунизма, в авангардном и творческом его, коммунизма, прочтении – стоит на пути к его художественной реабилитации. А «обесчеловечение» более остаётся на совести западного капитализма, уличённого в обесчеловечении ещё в категориях Карла Маркса. Новая, коммунистическая тотальность Машины здесь выглядит, скорее, как охлаждённая временем цветистая утопия Каутского, нежели чем суровая индивидуалистическая антиутопия Евгения Замятина (1884–1937) в романе «Мы» (1920) – просто хотя бы по историческим и биографическим причинам вдохновлена она была вовсе не коммунизмом, а уже состоявшимся модерным опытом Англии, хотя в романе непрерывно проступает след «Что делать?» Чернышевского111111
Горан Милорадович. Роман Замятина «Мы»: между историей и утопией // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том IV. М., 2007. С. 171, 179, 186.
[Закрыть]. Бывший революционный социал-демократ Е. И. Замятин до предела минимизирует даже сексуальную индивидуальность «нумера» (бывшего человека) внутри «вечного, великого хода» интегральной «Машины», пронизанной «Часовой Скрижалью» и подчиняющей Вселенную «благодетельному игу разума»112112
Е. И. Замятин. «Мы». Запись 1-я и Запись 3-я.
[Закрыть].
Этой тотально примитивной, унифицирующей формуле замятинской индустриальной антиутопии противостоит тотально всепроникающая сложность утопии Революции. Авангардная и творческая Машина Революции порождает жизнестроительный пафос даже в индустриализме, а античеловеческая Машина капитализма его уничтожает на уровне биологического воспроизводства. И если начальником тотальной Машины (её мозгом – даже в статусе замятинского «нумера») и поэтому – начальником побеждённой Природы становится новый Человек, то это – не более чем взгляд нового Бога-творца на подвластные стихии, объединённые в новом Большом стиле, среди которых одной из стихий должно стать и подвластное (независимо от политической окраски) Машине творца человечество. Протестующий против этого в защиту частной жизни лица и непобеждённой природы М. М. Пришвин (1873–1954) записал в своём дневнике 17 февраля 1944 года, что сам принцип производственного объединения человечества содержит в себе акт и перспективу не только принуждения, но и дегуманизации:
«Возражения коммунистам: можно объединить людей духовн (как в церкви), без принуждения, а всякая организация людей в отношении производства материальных ценностей должна сделаться принудительной, как всякая механизация, и тот идеальный человек, “пролетарий” есть человек выдуманный, механический Робот»113113
М. М. Пришвин. Дневники. 1944–1945 / Подг. текста Я. З. Гришиной. М., 2013. С. 36.
[Закрыть].
В своей доктрине коммунисты много полагались на мечту о том, как роботизированное коммунистическое производство освободит работника от места в конвейере и принуждения к коммерчески управляемому потреблению, то есть зависимости от материальной тотальности, и достижения свободы от экономического измерения политики вообще. Радикальный марксист-эстет Дьёрдь Лукач (1885–1971), апеллируя к освободительному пафосу Маркса против «овеществления» человека, в 1920-е гг. так описывал эту утопию:
«Освобождение от капитализма равносильно освобождению от господства экономики. Цивилизацией создаётся господство человека над природой, но из-за этого сам человек попадает под власть тех средств, которые позволили ему господствовать над природой. (…) что означает коммунистическое преобразование общества в точки зрения культуры. Оно означает прежде всего прекращение господства экономики над всей жизнью… Господство над экономикой, социалистическая организация экономики означает упразднение автономии экономии»114114
Дердь Лукач. Политические тексты / Сост. С. Земляной. М., 2010. С. 153, 163.
[Закрыть].
Н. А. Бердяев в своей «энциклопедии русской жизни» для Запада горячо поддержал такое перетолковывание марксизма и самого Лукача, видя в его тотальной революционности – отвержение тоталитарной материальности и поиск новой целостной свободы:
«материализм Маркса оборачивается крайним идеализмом, Маркс открывает в капитализме процесс дегуманизации, овеществления (Verdinglichung) человека. С этим связано гениальное учение Маркса о фетишизме товаров. (…) Лукач… самый умный из коммунистических писателей, обнаруживший большую тонкость мысли, делает своеобразное и по-моему верное определение революционности. Революционность определяется совсем не радикализмом целей и даже не характером средств, применяемых в борьбе. Революционность есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни… Революционер имеет интегральное миросозерцание, в котором теория и практика органически слиты. Тоталитарность во всём – основной признак революционного отношения к жизни» 115 115
Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 1938. С. 59, 63, 64.
[Закрыть] .
Присутствует ли ядро понимания проблемы человека внутри церкви и внутри машины – в теории Х. Зедльмайра? Безусловно, да. Есть ли простор для хотя бы противоречивого соединения этого опыта творящего Gesamtkunstwerk’а с антикоммунистически ангажированной формулой Б. Гройса о предварительном «тотальном подчинении всей жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое»? Нет. Между ними, между этими тотальностями Сталина и Вагнера, конечно, нет той связи, из коей следует, что сталинская власть породила вагнеровскую утопию. Для такой связи нет даже хронологической одновременности: историческая пропасть лежит между серединой XIX века и 30-ми и 40-ми годами ХХ века. И связь носит обратную последовательность: между утопией Вагнера и диктатурой Сталина.
Не место здесь говорить и о том, что и формула Гройса о «тотальном подчинении» – публицистическая абстракция, для современной интернациональной науки о реальных Сталине и сталинизме с их практикой непрерывного «административного торга» вокруг плановой мифологии и управленческого репрессивного хаоса – абсурдная, пустота этой формулы стала ясна для западной советологии ещё за 30 лет до книги Гройса. Может быть, публицистичность этого определения Гройса была бы простительна для 1987 года, времени антикоммунистических переворотов и эволюций. Но она пуста и внутри антикоммунистического контекста, и именно потому, что уже в 1948 году, почти изнутри Большого стиля, Х. Зедльмайр – повторю: хорошо видя традиционный русский интеллектуальный контекст116116
Следуя за русскими экскурсами Х. Зедльмайра в глубь их русского контекста, мы можем убедиться в их точности и репрезентативности. Например, последователь и интерпретатор Владимира Соловьёва Е. Н. Трубецкой (1863–1920) демонстрирует, как Платон строит свой идеальный город как иерархическое, но на высшем уровне – коммунистическое государство как церковь, «монастырь идеальных граждан», занимающийся воспитанием человека в борьбе не только против его «человеческой, но и всей его земной природы» (Е. Н. Трубецкой. Социальная утопия Платона. Политические аспекты // Е. Н. Трубец– кой. Политические идеалы Платона и Аристотеля. М., 2011. С. 39, 41, 49–50, 56–58). Как отмечает современный исследователь, целое направление в дореволюционной русской философской мысли, выросло из «государства-церкви» Ф. Шеллинга через труды Б. Н. Чичерина, А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва и др. в известную идею «свободной теократии» как теоретической модели будущего (И. И. Евлампиев. Политическая философия Б. Н. Чичерина. СПб., 2013. С. 147).
[Закрыть], – дал Gesamtkunstwerk не публицистическое, а историческое содержание, в котором коммунизм стилистически неотделим от индустриализма.
И самое главное: что же именно в сталинском Большом стиле было, согласно Гройсу, его историческим «храмом», образным центром этого Gesamtkunstwerk – если не Фабрика и Машина117117
Позднее Гройс в своём анализе коммунизма не мог не эволюционировать в сторону признания его принципиально индустриальной природы, но нашёл генезис образа Машины в основе этого стиля не в проективной, рационалистической, капиталистической эпохе человеческой истории в целом, а чуть ли не в самопорождённых феноменах СССР, Сталине и их утопических внушениях. Трудно, живя на Западе внутри его истории, с большей решительностью игнорировать западные «первоначальное накопление капитала», «положение рабочего класса в Англии», пролетарскую казарму и Кафку. И сочинить такое иначе, как в целях пропаганды, заменяющей Замятиным Карла Маркса и девственно чистой от достижений западной науки, разведки и реальной политики: «в годы холодной войны Запад не был непосредственно знаком с советским опытом, его восприятие коммунизма как царства холодной рациональности, в котором люди превращены в машины, в первую очередь, связано с давней литературной традицией утопических социальных проектов и полемических антиутопий. Эта традиция ведёт от Платона к Томасу Мору, Кампанелле, Сен Симону и Фурье и далее к Замятину, Хаксли и Оруэллу» (Борис Гройс. Коммунистический постскриптум [2006]. М., 2014. С. 73.
[Закрыть]? Если вспомнить наиболее распространённое критическое клише о государственном проекте и искусстве сталинского СССР – «утопия у власти»118118
По книге М. Я. Геллера и А. М. Некрича «Утопия у власти» (1982).
[Закрыть], то логично уточнить: «утопия чего именно»? И, продолжая экскурсы в генезис утопий, задаться вопросом: «утопия, отражающая какую историческую эпоху»? Каков, наконец, новый образ этого «города солнца» и «фаланстера»? Гройс не даёт, по существу, ничего, кроме указания на тотализаторскую волю творца властителя в её самоцельной и самодостаточной борьбе с материей и природой.
Увы, этот ответ не может быть признан удовлетворительным. Тем более что – очевидно, вне критических опытов Гройса – эвристическая формула «эстетической» власти в современной политической философии либерализма эксплуатируется не как самоцель, а как разветвлённая система политической репрезентации, способной стать спасительной для демократии и, предполагается, эффективной и результативной. Её автор, классик современной либеральной философии Франклин Анкерсмит в трактате «Эстетическая политика» впервые подробно анализирует связь современного государства с платоновским образом управляемого вождём корабля-государства и актуализирует её для политической теории119119
Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности [2000] / Пер. Д. Кралечкина. М., 2014. С. 302 303. В советской эстетической риторике образ корабля-государства оживил многолетний нарком просвещения (1917–1929), пользовавшийся репутацией литературно-художественного архаиста и чудака, но оттого не ставшего менее функциональным идеократом, Луначарский: А. В. Луначарский. Джонатан Свифт и его «Сказка о бочке» [1930] // А. В. Луначарский. Статьи о литературе / Сост. И. А. Саца. М., 1957. С. 544.
[Закрыть]. Анкерсмит, живущий после «тоталитаризма», уже не только находит в его свободе от общества новый ресурс обновления демократии, ставит ей на службу спасительную диктатуру120120
Государство… сегодня может… вступать в конфликт со всеми политическими группами, существующими в гражданском обществе. Только эстетическая политическая философия, не страшащаяся эстетического разрыва между государством и гражданином, может в таких обстоятельствах обеспечить государство теоретическим оправданием его твёрдой решимости следовать тому, что оно считает единственно возможным курсом политических действий… Только так можно найти новый источник легитимной политической власти, который позволит демократии выжить, физически и политически, в эпоху непреднамеренных последствий. Словом, главная задача современной политической философии – выработка концепции демократии, наделяющей государство более широкими полномочиями для эффективного решения масштабных проблем, которые могут возникнуть в ближайшем столетии…» (Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. С. 427–428).
[Закрыть], но и легко обнаруживает корни «тоталитаризма» в западной демократии, в современной демократической практике – произвол, свободу её политики от демократии, самозаконную творящую тотальность в модерне, в которой узнаётся сталинский Gesamtkunstwerk:
«Ключевая идея состоит в том, что художественная репрезентация не даёт миметического подобия того, что представляется, а замещает его… на самом деле изобразительные искусства предлагают заместителя реальности – правда, такого, который вызывает к жизни иллюзию реальности, но всё же остаётся отличимым от самой реальности… Это имеет значение для политической репрезентации… Между представляемым лицом и представителем проходит та же разделительная линия, что и между реальным миром и миром искусства. Кроме того, мы не должны искать фиксированных правил, регламентирующих отношения между представителем и представляемым лицом (…) Реальность как таковая не существует до того момента, пока не появляется её репрезентация… только путём создания заместителя реальности (то есть репрезентации) мы оказываемся на расстоянии от реальности и тем самым делаем её существующей… политическая реальность не существует до политической репрезентации (…) Следовательно, политическая реальность, созданная эстетической репрезентацией, есть по существу политическая власть. Эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и его представителем оказывается источником (легитимной) политической власти, которой в связи с этим у нас есть основание приписать скорее эстетическую, нежели этическую природу (…) В результате… и общество, и государство стали двойной эманацией одной субстанции. И это привело к тому, к чему стремился и тоталитаризм: к подчинению государства и общества одному началу. Отсюда понятно, что насилие и варварство, которые мы обычно связываем с тоталитаризмом… – скорее просто средства достижения единства государства и общества, обещанного миметической теорией репрезентации. А это означает, что мы должны рассматривать тоталитаризм не как иной и абсолютно чуждый общему направлению развития западной демократии, а как её чудовищную и ужаснейшую фазу… Соответственно, огромные различия между современными либеральными демократиями и тоталитаризмом связаны не столько с внутренней природой политических систем этих двух типов, сколько с тем, как произошло в них взаимное отождествление государства и гражданина – путём постепенным и контролируемым или путём политического принуждения… Их разделяет только практика политической репрезентации (…) Бюрократия и миметическая репрезентация – ветви одного дерева, и нас не должно удивлять, что это дерево находит самую питательную почву в тоталитарном государстве»121121
Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. С. 65–69, 72–73, 76 (подчёркнуто мной). Исследователь сталинизма Дэвид Пристланд (D. Pristland. Stalinism and Politics of Mobilization. 2007) именно тем заслужил себе особое место в современной историографии предмета, что советские 1931–1934 гг. – время мобилизационного перелома (в области промышленности) – изобразил как апогей «техницизма» (Джон Кип, Алтер Литвин. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография / Пер. В. И.Матузовой. М., 2009. С. 167; оригинальное название: Stalinism. Russian and Western views at the turn of the millennium).
[Закрыть].
Исторически тотальность индустриализма и современности (Модерна, нового и новейшего времени) состоит из «кристаллической решётки» власти, инфраструктуры одновременно действующих всеобщих институций и практик:
(1)всеобщего (как минимум, массового) избирательного (как минимум процедурно) права (как минимум, на локальном уровне), превращающего каждого избирателя в объект централизованного (сетевого) политического воздействия;
(2)всеобщей (массовой) грамотности и единой языковой нормы;
(3)всеобщего санитарно-гигиенического контроля и медицинского обслуживания, превращающего каждого в объект биополитики (в её узком, не фукианском, смысле);
(4)всеобщей воинской повинности;
(5)единого общенационального рынка (народного хозяйства);
(6)централизованных общенациональной администрации и права;
(7)общенациональных средств коммуникации и информации;
(8)единой системы технических стандартов;
(9)единого рынка труда, капитала, услуг и др.;
(10)индустриальной урбанизации, подчинённой интересам промышленности и (в мегаполисах) максимальной экономии внутригородской территории.
Изучающая эту реальность с точки зрения истории экономики и технологического уклада современная наука устами, например, историка «первоначального накопления» в Великобритании и индустриализации в России / СССР Роберта С. Аллена даёт внятную формулу этого развития в России: Farm to Factory122122
Роберт С. Аллен. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции [2003] / Пер. Е. Володиной. М., 2013.
[Закрыть]. Именно этому образу и нормативу индустриализма подчинено развитие абсолютного большинства сфер обыденности нового времени вообще через выше перечисленные факторы исторической тотальности индустриализма и современности.
Изоляция и ландшафт
В прямое развитие Просвещения и Французской революции 1789 года следует не только политическая либерализация старой Европы и её периферии, вовлекающая в активное историческое действо растущие человеческие массы, но и масштабная индустриализация, которая учится заново подчинять массы интересам производства, и научно-технический прогресс, который, вслед за просветительским «воспитанием», учится не только воспитывать, но и дробить, селекционировать, изменять массы, управлять их эволюцией. Русский историк Р. Ю. Виппер (1859–1954), традиционно энциклопедичный для своего времени, нашёл удачную синтетическую формулу для этого нового мировоззрения, которое она сам называл «теорией бесконечного прогресса», а иные его русские современники – «религией прогресса». Р. Виппер описывает, как из просветительской утопии Н. де Кондорсе (1743–1794) и в либеральных теориях вплоть до отца позитивизма О. Конта (1798–1857) зримо вырастают на месте Театра, Ковчега и Храма универсалистские претензии нового Большого стиля – новой «церкви на земле», вавилонской Фабрики, формируются её новые инструменты, приближающиеся к неорганическом синтезу и конвейеру:
«Вместо хитрой правительственной машины должна стать во главе общества большая организация для научных опытов и открытий, для сосредоточения лучших умов и передовых идей… Соответственно этому должно произойти распространение по всему миру одного языка, научно-алгебраического, космополитического отвлечённого языка мысли, который рядом со старыми языками, живыми и народными. Будет могучим средством ускоренного обмена. Народы образуют единое целое… возникает идея, постоянно повторяемая в конце XVIII в., что земной шар – великая мастерская, в которой разнообразные организации, постепенно совершенствуясь, работают по известному плану, в известной гармонии для общей великой цели. Мечта идёт ещё дальше: иным кажется, что национальные различия падут так же, как сословные предрассудки, что все люди объединятся в один народ, что установится один общий язык просвещения … (выделено мной. – М. К.)
Главная черта – внимание к индустриальному перевороту и к научному прогрессу. Их представители берут у реакционеров мысль об органическом характере общества, но вкладывают в неё новое современное содержание. Они видят, что общество стало иным, что в нём господствуют интересы новой промышленности, что оно зависит от новой всесветной организации индустрии, что наука в нём стала мощной направляющей силой, и они пытаются найти регулирующие начала именно для этого общества, движимого новыми мотивами, разбитого по новым группам; из интересов самой индустрии, из общих принципов самой науки пытаются они извлечь новое связующее культурное и даже религиозное начало…
Множество новых видов растительных и животных, и между ними новые виды животного, именуемого человеком, открыли возможность широкого сравнительного изучения. Чем больше сравнивали, тем больше изучали промежуточные виды, больше вытеснялось старое представление о неподвижности форм; больше разгоралось желание, увлекала задача открыть в существующих видах непрерывную цепь развития, схватить в них биение одних и тех же законов жизни. Сильно действовали на общие представления также успехи физики и химии. Открытие магнетизма и электричества, разложение на составные части воздуха и воды, то есть того, что считалось раньше тоже неподвижными элементами, заставляло и в неорганическом мире искать движущих сил, искать возникновения сложных форм и образований из комбинаций простых начал. Между одушевлённой и неодушевлённой природой падали преграды, казавшиеся неодолимыми. Человек был поражён тем, что он находил там и здесь одинаковые составные части… Деятельность общественного организма, вся совокупность жизненных отношений человеческого мира управляется мнениями, идеями. Эта уверенность опирается у Конта на положение ещё более общее, на некоторую основную черту “органических теорий”, как бы возникших из жажды порядка… Если мировой порядок есть порядок логической системы, то пути к постижению этого порядка, то есть науки, должны образовать полное единство: они все работают к открытию единого закона, они должны составить иерархию, скреплённую строгим взаимным подчинением… Особенно это касается высших ступеней жизни, отношений общественных… Начало XVIII в. сознавало живо только одну “всемирную” организацию, именно западноевропейскую литературную республику. Позднее, во второй половине века, стали говорить о всемирной мастерской и всемирном рынке. Перевороты конца XVIII и начала XIX в. создали в европейском сообществе подъём религиозного настроения, и образ человеческого мира сложился уже в виде великой церкви на земле»123123
Р. Виппер. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе [1900]. М., 2007. С. 131, 182, 113, 221–222, 229 (Выделеноно мной. – М. К.).
[Закрыть].
Уже после Гитлера и на закате Сталина, поставленного в фокус «холодной войны», – почти одновременно с названным трудом Х. Зедльмайра классики левой критики капитализма не только не отшатнулись от установления прямой тотальной (и тоталитарной) связи Просвещения как апогея проективного знания, Модерна и «всеохватывающей индустриальной техники», но и подтвердили её со всей решительностью, исключающей компромисс: «Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал», «Просвещение – тоталитарно», «Просвещение тоталитарно как ни одна из систем»124124
Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты [1947] / Пер. с немецкого М. Кузнецова. М., 1997. С. 17, 20, 25, 40.
[Закрыть]…
Предвосхищая известные мысли Ханны Арендт об исторических корнях тоталитаризма в разрушении общества традиционных связей и перегородок, внимательный наблюдатель, русский православный социалист и антикоммунистический эмигрант Г. П. Федотов (1886–1951) одним из первых описывал современные ему диктатуры в понятиях тоталитаризма. Важно, что он описывал это явление как следствие утраты западной культурой ХХ века некоего Большого стиля: в мире демократии, растущем из достижений XIX века, по его мнению, «культура не имеет своего центра (…) Сейчас кажутся немыслимы ни общая религия, ни общая философия, ни даже общие основы научного знания. Стиль в искусстве утерян ещё ранее, чем в науке. При таких условиях культура всё более разбивается на отдельные секты (…) Более, чем когда-либо, западная культура напоминает вавилонское смешение языков. Находятся люди, которые готовы принципиально утверждать это смешение как духовную основу демократии»125125
Г. П. Федотов. Мы и они [1940] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 6 / Сост. С. С. Бычков. М., 2013. С. 428.
[Закрыть]. Г. П. Федотов и ранее жёстко анализировал принудительный и террористический характер коммунизации СССР, особенно крестьянства, целью которой видел создание «технического рая», здание которое на деле вырастало не как «новый град», а как «новая тюрьма»126126
Г. П. Федотов. К молодёжи [1932] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 4 / Сост. С. С. Бычков. М., 2012. С. 200–201.
[Закрыть], которая одновременно была «гигантами-заводами»127127
Г. П. Федотов. В плену стихии [1932] // Там же. С. 218.
[Закрыть]. И здесь в радикальном отвержении сталинизма начинала звучать общая с сталинизмом нота социалистической победы над природой и внепартийная, требуемая Просвещением, жажда новой целостности: «современная техника приводит человека к ещё большему рабству… но задача, поставленная историей, верна – освободить человека от рабствования природе»128128
Г. П. Федотов. Движение [РСХД] и современность [1933] // Там же. С. 255.
[Закрыть]. Более того – «марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру»129129
Г. П. Федотов. Проблемы будущей России [1931] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 5 / Сост. С. С. Бычков. М., 2011. С. 142.
[Закрыть], то есть – можно договорить эту мысль до конца – именно он достроил крестьянскую страну до индустриального интернационального Большого стиля.
Индустриализм как церковь и реализованная утопия делает сферой Gesamtkunstwerk даже ландшафт и в целом природу, доступную эксплуатации. Первым образом подчинения ландшафта стала его индустриализация и урбанизация, в исторических условиях XIX и начала XX века выраженная в практике прямо связанной с производственными цехами казармы как доминирующего стандарта промышленной городской застройки. В этом стандарте казармы легко узнавались (разумеется, минимальные) параметры фаланстера, который, в свою очередь, служил образующим элементом современного города как замкнутой Вавилонской башни, противостоящей ландшафту и природе. Как свидетельствует урбанист, «согласно строительному регламенту Берлина, принятому в конце XIX в. (и действовавшему до 1925 г.), здесь сооружались дома-казармы с плотностью застройки до 85–90 %; в Париже в <19>20-х и начале <19>30-х годов действовали нормы, допускавшие минимальную величину внутренних дворов в 30 м2, а если во двор выходили комнаты для прислуги и другие подсобные помещения – даже 8 м2; в Нью-Йорке в кварталах, застроенных пятиэтажными домами, допускался размер дворов в 26 м2»130130
Е. Н. Перцик. География городов (геоурбанистика). М., 1991. С. 174.
[Закрыть]. И перспективное преодоление этого урбанизма и освобождение народного большинства от реальности этой общегородской казармы виделось революционерам архитектуры и городского планирования не в расселении, а в создании на месте городов сети широко расположенных на озеленённом («природном») ландшафте изолированных – всё тех же в основе своей – гипер-казарм / башен, как то предлагал, например, Ле Корбюзье (1887–1965) для «Плана Вуазен» по перестройке Парижа (1925) – в сети небоскрёбов по 20 000–40 000 жителей в каждом.
В этом контексте примечательна аргументация одного из идеологов (но лишь идеологов, а не практиков) сталинской урбанистики, бельгийского инженера-механика по образованию, основателя советской политической цензуры Н. Л. Мещерякова (1865–1942). Опираясь на набор формул Энгельса, Ленина и Сталина и выхолащивая «вавилонское» усилие революционных образов Gesamtkunstwerk в исполнении Шухова и Татлина, Н. Л. Мещеряков описывает марксистскую главную цель коммунизма в пространственном развитии как преодоление «противоположности между городом и деревней» путём всеобщей механизации универсального, взаимозаменяемого труда, равномерного, сетецентричного расселения по ландшафту131131
Общепринятость идеи расселения по ландшафту, утопически (без учёта себестоимости транспорта и затрат времени на преодоление расстояния) сопровождающего концентрацию производства, хорошо демонстрировал коммунистический проект французских революционных синдикалистов: «вместо того, чтобы скучиваться в громадных и узких ящиках в 6–7 этажей, расселиться по предместьям и построить там коттэджи» (Эмиль Пато, Эмиль Пуже. Как мы совершим революцию [1909] / Пер. Л. В. Гогелия [1921]. М., 2011. С. 128). В этой же утопии трогательно (просвещенческое) единство Энгельса, идеолога-практика коммунизма Мещерякова и критика тоталитаризма и коммунизма Х. Арендт: «Современное градостроительство направлено на озеленение и урбанизацию целых областей, в ходе чего различие между городом и сельской местностью всё больше стирается. Эта тенденция вполне может привести к исчезновению городов даже в нынешнем виде» (Х. Арендт. Понятие истории: древнее и современное [1964] // Ханна Арендт. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Пер. Д. Аронсона. М., 2014. С. 92, прим.). См. также обширное современное исследование темы, которое фактически свелось к детальной штудии о бытовании идеи города-сада (Э. Говард, конец XVIII в.) в западных и русских дореволюционных инспирациях и её применении в концепциях и практике СССР – почему-то искусственно очищенных от присутствия идей Энгельса, которые даже излагаются авторам не как широко известные идеи Энгельса, а как особое внушение Говарда: М. Г. Меерович. Градостроительная политика в СССР (1917–1929). От города-сада к ведомственному рабочему посёлку. М., 2017. С. 107–108.
[Закрыть]. Узлами такой сети, по его замыслу, должны стать комплексы взаимосвязанных крупных промышленных производств, так сказать, фабрики-ландшафты. Идеолог вслед за Энгельсом рассматривает крупные города как временное явление, а предложенные советской власти архитектором Ле-Корбюзье проекты небоскрёбов как избыточные и нерентабельные132132
Н. Мещеряков. О социалистических городах. [М.,] 1931. С. 81, 87.
[Закрыть]. Ведь не крупные города, дискредитированные социальной критикой капитализма вообще и марксистской критикой, в частности, как язвы нищеты, грязи, порока, тесноты и эксплуатации, служат образом будущего Н. Мещерякову, а комплексы научно организованных производств, заполненные работниками-универсалами. Каков же культурный образец этих комплексов? Обнаруживается, что Энгельс внёс в сознание марксистов-большевиков, практиковавших коммунальный быт (например, полностью лишённый индивидуальных ванных и кухонь жилой дом для ответственных чиновников – Дом Наркомфина М. Гинзбурга и И. Милиниса, 1930)133133
В одной из трёхуровневых (первый: вход – лестница в общую комнату; второй: общая комната – лестница в две малые комнаты; третий: две малые комнаты) квартир этого дома мне, тогдашнему московскому дворнику, пришлось жить в августе и сентябре 1991 года: в неё уже по углам малых комнат были встроены микрованна и микрокухня.
[Закрыть], архетип фаланстера, и без того существовавший в русской революционной традиции ещё со времени Чернышевского и его коммунальной утопии134134
Современные исследователи напоминают об опыте народнических коммун, общо называя их «фаланстерами», возникших после романа Чернышевского в Петербурге: художника И. Н. Крамского, писателя В. А. Слепцова и других, которые получили своё продолжение в студенческих коммунальных общежитиях конца XIX века, коммунальных домах правящих большевиков и коммунистической молодёжи, в которых главным принципом было сведение частного пространства к (одноместным и многоместным) комнатам без удобств и обобществление сферы питания, гигиены и досуга. Они же уместно обращают внимание на то, что в своём проекте реквизирования «квартир богатых для облегчения нужд бедных» (конца 1917 – начала 1918 г.) вождь коммунистов В. И. Ленин прямо формулировал, что «богатой», то есть неприемлемой с точки зрения нормы, квартирой «считается всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» (В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве: 1920–1930-е годы: Социально-архитектурное микроисторическое исследование. Изд. 2, испр. СПб., 2016. С. 136–143; В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 54. М., 1975. С. 380).
[Закрыть]. До и без большевиков изданный крупнейшим русским издателем И. Д. Сытиным массовый словарь заключал: «Фаланстер – общественные здания, служащие нуждам каждой отдельной социалистической общины», после распространения которых и упразднения частной собственности «должен был наступить золотой век»135135
Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 403.
[Закрыть].
Для выяснения легко считывавшейся просвещёнными марксистами в среде правящих большевиков (а таковых среди них в 1920–1930-е гг. было, как минимум, значительное число) коммунистической природы вдохновения урбаниста Мещерякова надо обратиться к контексту рассуждений Энгельса о преодолении присущей капитализму «противоположности между городом и деревней». Из него явственным образом выступают утопические и экспериментальные образцы названных комплексов, выдвинутые Р. Оуэном и Ш. Фурье и поддержанные Энгельсом, причём в течение всего времени его идейного развития. Молодой Энгельс явно зачарован «реалистичностью» детальных расчётов, характерных для этих проектов, и очевидно вовлекает в них всех своих идейных и партийных сторонников. Он специально разбирает вопрос о практическом преодолении противоположности города и деревни на пути коммунистической унификации их хозяйственных укладов и образа жизни, излагая английский образец такого преодоления, который он находит в утопии Р. Оуэна, и французский образец единой коммуны, за которым по умолчанию стоит проект Ш. Фурье: «Англичане, вероятно, начнут с основания отдельных колоний… французы, наоборот, вероятно, будут подготовлять и проводить коммунизм в национальном масштабе». В прикладном виде этот коммунизм выглядит так:
«… те преимущества, которые даёт коммунистическое устройство в результате использования ныне расхищаемых рабочих сил, являются еще не самыми важными. Самая большая экономия рабочей силы заключается в соединении отдельных сил в коллективную силу общества и в таком устройстве, которое основано на этой концентрации до сих пор противостоявших друг другу сил. Здесь я хочу присоединиться к предложениям английского социалиста Роберта Оуэна, так как они наиболее практичны и наиболее разработаны. Оуэн предлагает вместо теперешних городов и сёл с их обособленными, мешающими друг другу домами, сооружать большие дворцы, каждый на площади, имеющей приблизительно 1 650 футов в длину и столько же в ширину и включающей большой сад; в таком дворце смогут с удобством разместиться от двух до трёх тысяч человек. Что подобное здание, дающее его обитателям удобства самых лучших современных жилищ, может быть построено дешевле и легче, чем то количество отдельных, по большей части не столь удобных, жилищ, которые при теперешней системе требуются для того же числа людей, – это очевидно. Большое число комнат, которые в настоящее время почти в каждом порядочном доме стоят пустыми или используются один – два раза в год, может быть упразднено без всякого неудобства; экономия места, используемого под кладовые, погреба и т. д., точно так же может быть очень велика. – Но если вникнуть в детали домоводства, то тут особенно становятся видны преимущества общественного хозяйства. Какая масса труда и материалов растрачивается при современном раздробленном хозяйстве – например, при отоплении! (…) Затем возьмём приготовление пищи, – сколько затрачивается зря места, продуктов и рабочей силы при современном раздробленном хозяйстве, когда каждая семья отдельно готовит нужное ей небольшое количество пищи, имеет свою отдельную посуду, нанимает отдельную кухарку, отдельно закупает продукты на рынке, в зеленной, у мясника и у булочника! Можно смело предположить, что при общественном приготовлении пищи и при общественном обслуживании легко было бы освободить две трети занятых этим делом рабочих…»136136
Ф. Энгельс. Эльберфельдские речи. Речь 8 февраля 1845 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 541–543.
[Закрыть]
Уже зрелый Энгельс по-прежнему демонстрирует свою верность этой жилищной утопии и пишет:
«Жилищный вопрос может быть разрешён лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно было приступить к уничтожению противоположности между городом и деревней, противоположности, доведённой до крайности в современном капиталистическом обществе. (…) уже первые социалисты-утописты современности – Оуэн и Фурье – правильно поняли это. В их образцовых строениях не существует больше противоположности между городом и деревней. (…) Стремиться решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города, – бессмыслица. Но современные крупные города будут устранены только с уничтожением капиталистического способа производства, а как только начнётся это уничтожение, – вопрос встанет уже не о том, чтобы предоставить каждому рабочему домик в неотъемлемую собственность, а о делах совсем иного рода»137137
Ф. Энгельс. К жилищному вопросу [1873] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 238.
[Закрыть].
«Дело совсем иного рода» Энгельса, то есть глобальное развитие начальных коммун, – будь это сеть фаланстеров для Англии или общенациональный коммунистический фаланстер для Франции – вновь вызывает к жизни образ рационализированной Вавилонской башни. Рационализация Вавилона, как это было хорошо понятно социалистам той эпохи, толкующим наследие Фурье, подразумевала новый и ясный образ мира и его новый Большой стиль, в основе которого явственно вырастала Машина как Фабрика новой человеческой природы. В специальном очерке чаемого будущего русский постмарксист и социалист, ещё в конце XIX завоевавший стабильную европейскую известность как экономист, М. И. Туган-Барановский (1865–1919) вычленял в «социальном эксперименте» Фурье, претендующем решить «социальный вопрос» на путях «создания социалистической общины», именно тотальный инженерный пафос, выраженный в труде последователя Фурье Виктора Консидерана (1803–1893) «Манифест социетарной школы» (1841):








