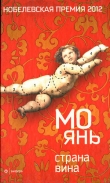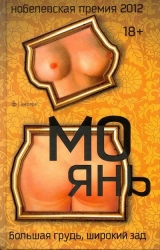
Текст книги "Большая грудь, широкий зад"
Автор книги: Мо Янь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Три Звезды[51]51
Три Звезды – пояс Ориона.
[Закрыть] клонились к западу, над верхушками деревьев повис серп луны. Мост гудел под лютовавшим на реке западным ветром. Мороз в тот вечер был такой, что даже лёд на реке покрылся широкой паутиной трещин, и треск стоял громче ружейной пальбы. Возле моста санная колонна остановилась. Сыма Ку выскочил из саней первым. Зад болел так, будто кошки искусали. На небе тускло мерцали звёзды, чуть отсвечивал прибрежный припай, а вокруг царила кромешная мгла. Он похлопал в ладоши, и хлопки раскатились в морозном воздухе. Загадочный мрак волновал и бодрил. Позже на вопросы о том, как он чувствовал себя перед этой операцией, Сыма Ку отвечал: «Отлично. Будто Новый год праздновал».
Держась за руки и осторожно ступая, бойцы зашли под мост. Сыма Ку забрался на опору и, достав из-за пояса топорик, рубанул по одной из ферм. Лезвие высекло большущую искру, и стальная конструкция резко загудела.
– Бабку твою за ногу! – выругался Сыма Ку. – Сплошная сталь.
Вечернее небо с шелестом прочертила падающая звезда. Длинный хвост разлетелся красивыми голубыми искорками, которые ненадолго осветили пространство между небом и землёй, и ему удалось разглядеть бетонные опоры моста и переплетения стальных ферм.
– Цзян! – крикнул он. – Иди-ка сюда!
Под одобрительный гул товарищей Цзян забрался на опору, следом стал карабкаться его юный помощник. На опоре, как грибы, наросли глыбы льда. Сыма Ку протянул парню руку, но сам при этом поскользнулся. Парень устоял, а Сыма Ку грохнулся вниз, на лёд, причём тем самым местом, откуда беспрестанно сочилась кровь с гноем.
– Мамочки! – заорал он. – Больно-то как, сдохнуть можно…
Подбежавшие бойцы стали поднимать его, а он продолжал жалобно сетовать, и его вопли разносились далеко в округе.
– Потерпи чуток, брат, – увещевал его один из бойцов, – не то плакала наша конспирация.
Сыма Ку тут же умолк и, дрожа всем телом, скомандовал:
– Цзян, быстро за дело. Несколько разрезов – и ходу отсюда. Всё этот Ша Юэлян, мать его, со своей мазью. Чем больше втираешь, тем хуже становится, – добавил он.
– Вот ты и раскрыл коварный план этого типа, брат, – ухмыльнулся ещё один боец.
– Болячка скрутит – любому лекарю обрадуешься, – огрызнулся Сыма Ку.
– Потерпи, брат, – продолжал боец. – Вот возвернёмся, попользую тебя барсучьим жиром. Любые ожоги лечит на все сто, намажешь – и всё как рукой снимет.
Меж балок моста с шипением взметнулись голубые искры – голубые с белым, белые с голубым, – и вспыхнул такой яркий свет, что заслезились глаза. Явственно обозначились пролёты моста, опоры, балки, фермы, полушубки из собачьего меха, лисьи шапки, оранжево-жёлтые сани, запряжённые в них монгольские лошадки… Всё стало видно как на ладони. Техник Цзян и его подмастерье, пристроившись на балке, как обезьяны, резали её вырывающимся из «опиумной трубки» дьявольским пламенем. Поднимавшийся молочно-белый дым стелился по руслу реки, и вокруг разносился необычный запах расплавленного металла. Сыма Ку следил за этими искрами и за сверкавшей, как молния, аркой света будто заворожённый, даже о мучившей его боли забыл. Язычки пламени вгрызались в металл, как червячки шелкопряда в тутовые листья. Прошло совсем немного времени, и одна из балок, тяжело свесившись вниз, ткнулась под углом в лёд.
– Режь, режь эту хреновину к чертям собачьим! – орал Сыма Ку.
– В том сражении, где в ход пошли дерьмо с мочой, наш дед и Да Я, по правде говоря, одержали бы победу, окажись дошедшие до них сведения верными, – продолжала свой рассказ матушка. – После того как их планы рухнули, разбежавшиеся бойцы отряда «Хулан» провели своё расследование и через полгода, опросив тысячи людей, в конце концов выяснили, что первым о том, будто у германцев нет коленок и что они окочурятся, если их облить дерьмом, узнал сам предводитель отряда «Хулан» Сыма Да Я, а ему эти сведения сообщил его сын от слепой девушки Сыма Вэн. Проводившие расследование вытащили Сыма Вэна из постели проститутки и предложили сознаться, откуда у всей этой истории ноги растут. Тот заявил, что это слова Ипиньхун, девицы из заведения «Забудь печаль». Приступили к Ипиньхун, но та напрочь отрицала, что говорила что-либо подобное. Признала только, что принимала техников-германцев, строителей и проектировщиков, да и солдатню тоже: «Вон, все ляжки истолкли своими коленками – такие они у них твёрдые и здоровенные. Разве я могла такую глупость сморозить!» Тут ниточка и оборвалась. Разбежавшиеся «тигры» и «волки» вернулись к своим делам – кто рыбу ловить, кто землю возделывать.
Матушкин дядя Юй Большая Лапа в то время был парень молодой, задорный и, хотя в отряд «Хулан» не попал, в сражении участие принял: притащил пару-тройку вил навоза. Он рассказывал, что, когда германцы перешли мост, Да Я запустил в них хлопушку, Шангуань Доу пальнул из берданки, и отряд стал отступать к песчаной гряде Дашалян. Германцы за ними. Чёрные шляпы с разноцветными перьями неспешно покачивались при ходьбе. Зелёные мундиры, усыпанные медными пуговицами, белоснежные брюки в обтяжку. Казалось, их тонкие и длинные ноги на бегу не сгибаются, будто они и впрямь без коленок. Дойдя до Дашалян, отряд выстроился в одну шеренгу и давай костерить германцев на все лады; ругательства так и сыпались, причём в рифму, – тут постарался учитель деревенской частной школы Чэнь Тэнцзяо.
– Как только «тигры» и «волки» начали выкрикивать ругательства, германские черти по команде припали на одно колено. Кто говорил, что у германцев ноги в коленях не сгибаются? Пока изумлённый дядя соображал, в чём тут дело, – продолжала матушка, – из стволов германских винтовок завился дымок, и раздался звук ружейного залпа. Несколько хулителей, обливаясь кровью, попадали на землю. Увидев, что дело худо, Да Я спешно скомандовал забрать тела убитых и отходить к песчаной гряде. Увязая ногами в зыбучем песке, все не переставали размышлять о коленках германцев. Те преследовали их по пятам и продвигались по глубокому песку ненамного неуклюжее «тигров» и «волков». Более того, под брюками в обтяжку ясно обозначились ходившие ходуном большие коленные чашечки. Отряд охватила паника. Да Я тоже нервничал, но держался: «Ничего, братцы, раз они не увязли в песках, у нас для них ещё кое-что имеется». Германцы в это время как раз преодолели песчаную западню. Как только они вошли в рощицу софоры, прадед ваш громко скомандовал: «Тяни!», – и несколько дюжин «тигров» и «волков» потянули за зарытые в песке верёвки. Чаны и бутыли, висевшие на ветвях и скрытые от глаз красно-белыми цветками, стали опрокидываться, и на головы германских чертей обрушился ливень дерьма и мочи. Несколько плохо закреплённых чанов с дерьмом рухнули вниз, не успев опорожниться, и от удара по голове один из чертей скончался на месте. Яростно оскалившись и вопя во всю глотку, германцы один за другим отступили, волоча за собой винтовки. Дядюшка утверждал, что, если бы тогда «тигры» и «волки», подобно настоящей стае свирепых тигров и волков, бросились за ними, развивая успех, из восьмидесяти с лишним германцев не осталось бы в живых ни одного. Но отряд знай себе хлопал в ладоши и хохотал, позволив германцам добраться до речки и попрыгать в воду, чтобы смыть с себя нечистоты. «Тигры» и «волки» ожидали, что германцы захлебнутся собственной рвотой, но те, смыв грязь, снова взялись за винтовки и дали залп. Одна пуля вошла прямо в рот Да Я и вышла через макушку. Он и хмыкнуть не успел. Германцы тогда весь Гаоми сожгли начисто. Прислал солдат и Юань Шикай.[52]52
Юань Шикай (1859–1916) – китайский военный лидер и политический деятель.
[Закрыть] Они-то и схватили вашего прадеда Шангуань Доу. Для устрашения остальных его казнили посреди деревни под большой ивой самой страшной казнью: заставили ходить босым по раскалённым чугунным сковородкам. В день казни весь Гаоми гудел как пчелиный рой, посмотреть пришли более тысячи человек. Наша прабабка видела всё собственными глазами. Сначала на камнях установили восемнадцать сковородок, развели под ними огонь и раскалили докрасна. Затем палач подхватил прадеда под руки и повёл по этим сковородкам босыми ногами. От ног поднимался коричневатый дымок, разнеслась омерзительная вонь. Вспоминая об этом, прабабка потом ещё долго падала в обморок. По её словам, Шангуань Доу недаром был кузнец: могучий телом и духом, с полным ртом золотых зубов, он принимал эту пытку с плачем и воплями, но о пощаде не молил. Он дважды прошёл по сковородкам туда и обратно, ноги его превратились в нечто невообразимое. Потом ему отрубили голову и выставили в цзинаньской управе на всеобщее обозрение.
– Ну вот, уже недолго осталось, брат, – сказал Сыма Ку боец, обещавший попользовать его барсучьим жиром. – Поезд должен подойти до рассвета.
Под мостом валялось уже с десяток отрезанных балок, а на мосту ещё сверкало бело-голубое пламя.
– Сукины дети, – злобно пыхтел Сыма Ку. – Ещё легко отделаются. Ты уверен, что под тяжестью поезда мост рухнет?
– Если резать дальше, брат, боюсь, он и без поезда рухнет!
– Тогда ладно. Цзян! Эй, Цзян, слезай! – крикнул Сыма Ку. – А вы, – обратился он к остальным бойцам, – помогите эти двум славным парням спуститься и выдайте в награду по бутылке гаоляновки.
Голубые искры погасли. Цзяна и его помощника с почтением приняли и усадили в сани. Близился рассвет: ветер стих, мороз стал ещё злее и пробирал до костей. Монгольские лошадки потянули сани, осторожно ступая в полумраке. Через пару ли Сыма Ку скомандовал остановиться:
– Полночи трудились, а теперь полюбуемся представлением.
Поезд появился, когда небо чуть подёрнулось красным. Река протянулась светлой полосой, деревья на берегах отливали золотой и серебряной глазурью. Мост висел молчаливой глыбой. Сыма Ку нервно потирал руки и еле сдерживался, чтобы не выругаться. Погромыхивая, состав надвигался всё ближе. У самого моста он дал свисток, и этот звук эхом раскатился по округе. От паровоза поднимался чёрный дым, из-под колёс вырывались клубы пара, от грохота и лязга аж лёд на реке подрагивал. Бойцы напряжённо следили за приближающимся составом, лошади прижали уши к гривам. Поезд, эта, казалось бы, безудержная грубая сила, ворвался на мост, который стоял нерушимо, как скала. На какой-то миг лица Сыма Ку и его бойцов залила бледность, но в следующую секунду они уже с радостными криками прыгали по льду. Сыма Ку, несмотря на свою довольно серьёзную рану, кричал громче всех и прыгал выше всех. Огромный мост обрушился в считаные секунды, всё посыпалось вниз: шпалы, рельсы, песок и гравий, земля вместе с паровозом. Паровоз врезался в одну из опор, и она тоже рухнула. Потом раздался оглушительный грохот, и вверх на несколько десятков чжанов взлетели, купаясь в лучах солнца, куски льда, огромные камни, перекрученные металлические конструкции и разнесённые в щепки шпалы. Несколько десятков нагруженных доверху вагонов навалились друг на друга: одни упали в реку, другие сошли с рельс и опрокинулись, а потом пошли взрывы. Начались они с вагона, гружённого взрывчаткой, затем стали рваться снаряды и патроны. Лёд растрескался, и в воздух поднялись столбы воды. Вместе с водой вылетала рыба, креветки, вверх подбросило даже несколько зелёных черепах. На голову одной из лошадей упала нога в высоком ботинке: удар был такой силы, что у оглушённой лошади подкосились передние ноги, из гривы вырвало два клока волос. Колесо поезда весом, наверное, цзиней с тысячу пробило лёд, и поднятый им фонтан воды окатил всё вокруг жидким илом. От мощных взрывов у Сыма Ку заложило уши, и ему оставалось лишь наблюдать, как запряжённые в сани лошади бестолково тычутся друг в друга, словно мухи. Бойцы застыли кто стоя, кто сидя; из уха у одного из них сочилась чёрная струйка крови. Сыма Ку закричал, но не услышал собственного голоса. Бойцы тоже раскрывали рот, что-то крича, но слов было не разобрать.
Совершенно обессиленный Сыма Ку довёл-таки свой санный отряд до места, где они накануне вырезали полыньи. Мои сёстры – вторая, третья и четвёртая – опять ходили туда за водой и за рыбой, но за ночь полыньи покрылись льдом в цунь толщиной, и Чжаоди пришлось долбить лёд молотком с короткой ручкой и пешней. Когда туда добрался Сыма Ку с отрядом, лошади потянулись к воде. Но через несколько минут они затряслись всем телом, ноги у них задёргались, они рухнули на лёд и передохли: холодная вода разорвала расширившиеся до предела лёгкие.
Страшные взрывы на юго-западе в то утро ощутила каждая живая тварь в Гаоми: люди, лошади, ослы, коровы, куры, собаки, гуси, утки. Даже змеи, приняв их за весенний гром во время цзинчжэ,[53]53
Цзинчжэ – третий из 24 солнечных сезонов традиционного календаря, соответствующий времени с 5 по 20 марта, когда, по крестьянским верованиям, грозы пробуждают насекомых от спячки и становится тепло. По традиции к насекомым относят и змей.
[Закрыть] повылезали из нор и замёрзли в полях.
На отдых Сыма Ку привёл отряд в деревню. Сыма Тин встретил их отборными ругательствами, каких во всём Китае не услышишь. Но им, оглохшим, казалось, что тот рассыпает похвалы, потому что Сыма Тин сохранял самодовольное выражение на лице, даже когда ругался. Сыма Ку окружили трое жён – каждая со своим тайным снадобьем, секрет которого передавался из поколения в поколение, – с намерением попользовать обожжённые и обмороженные места на заднице своего единственного мужчины. В результате пластырь, наложенный старшей женой, отодрала вторая, которая пришла с мазью из десятка лучших китайских лекарственных трав, а сначала ей необходимо было промыть больное место. Третья жена стёрла мазь и присыпала больные места порошком из толчёных сосновых и кипарисовых иголок и корней остролиста, смешанных с яичным белком и пеплом от крысиных усиков. Кожа без конца то смачивалась, то подсыхала, и к старым болячкам добавились новые. Дошло до того, что Сыма Ку надел ватные штаны, затянул на себе два ремня, и стоило появиться любой из жён, он тут же хватался за топорик или вытаскивал револьвер. Рану ему так и не вылечили, а вот слух вернулся.
Первое, что он услышал, была злобная ругань старшего брата:
– Из-за тебя, сучий потрох, вся деревня пострадает, вот увидишь!
Сыма Ку протянул маленькую ручку, такую же мягкую и розовую, с мясистыми пальцами и тонкой кожей, как у брата, и взял его за подбородок. Сыма Тин всегда брился чисто, и, глядя на пробивающуюся рыжеватую бородку из вьющихся волосков и на растрескавшиеся губы, Сыма Ку грустно покачал головой:
– Мы сыновья одного отца, так что, ругая меня, ты ругаешь себя. Давай, крой, коли нравится! – И убрал руку.
Разинув рот, Сыма Тин уставился на широкоплечую фигуру брата. Покачал головой, взял гонг, вышел из ворот дома, неуклюже забрался на вышку и стал вглядываться в направлении северо-запада.
Сыма Ку ещё раз съездил с отрядом к мосту, привёз кусок рельса, перекрученный как жаренный в масле хворост, ярко-красное колесо от паровоза, а также груду кусков железа и меди непонятного происхождения. Всё это он разложил на главной улице перед входом в церковь и похвалялся перед земляками своими боевыми подвигами. Он раз за разом рассказывал собравшимся зевакам, как разрушил мост и пустил под откос японский воинский эшелон, и в уголках рта у него пенилась слюна. Эта история постоянно обрастала всё новыми животрепещущими подробностями, становилась ярче и интереснее и в конце концов уже мало отличалась от «Фэн шэнь яньи».[54]54
«Фэн шэнь яньи» («Возвышение в ранг духов») – популярный в Китае фантастический роман XVI в.
[Закрыть] Самой преданной слушательницей Сыма Ку была моя вторая сестра, Чжаоди. Сначала одна из многих собравшихся, она затем стала одним из очевидцев применения нового оружия, а потом оказалось, что она тоже принимала участие в операции по разрушению моста. Она якобы следовала за Сыма Ку с самого начала, вместе с ним забралась на опору, вместе с ним и упала оттуда. Когда Сыма Ку морщился от боли, она тоже строила гримасу, будто у них болело одно и то же место.
Матушка всегда говорила, что в семье Сыма все мужчины с прибабахом. Эта девица, что приплыла в чане, красоты редкостной, но незрячая. Да и говорила так, что ничего не разберёшь. Не то чтобы слов не понять – смысла не уяснить. В общем, если не лиса-оборотень, то уж точно душевнобольная. Ну и какое может быть у такой женщины потомство? Матушка уже поняла, что у Чжаоди на уме, и предчувствовала: скоро история с Лайди повторится. С тревогой вглядываясь в чёрные глаза дочери, матушка видела, что они горят устрашающей страстью, и поражалась, как у семнадцатилетней девушки могут быть такие пунцово-красные, бесстыдно набухшие губы. Ясное дело – молодая телушка, лишь одно в голове.
– Чжаоди, доченька, – как-то попробовала она подступиться к ней. – Ты хоть знаешь, сколько тебе годов?
Вторая сестра посмотрела на неё вызывающе:
– А тебя в моём возрасте разве уже не выдали за отца? А твоя тётушка – она сама мне говорила – в шестнадцать уже двойню родила, двух ребятёночков, пухленьких, как поросята!
Раз дело дошло до таких речей, матушке оставалось лишь вздыхать. Но вторая сестра не унималась:
– Я знаю, ты сейчас скажешь, что у него уже есть три жены. Значит, буду четвёртой. Можешь ещё сказать, что он на целое поколение старше. Но фамилии у нас разные, роднёй мы друг другу не приходимся, так что никакие правила не нарушаются.
Матушка отказалась от мысли повлиять на Чжаоди, предоставив ей возможность поступать как вздумается. Внешне она казалась спокойной, но по вкусу молока можно было судить, какие в душе у неё бушуют страсти. В те дни, когда вторая сестра хвостиком ходила за этим бесшабашным болтуном Сыма Ку, матушка заставила остальных шестерых сестёр копать тайный ход из подвала с турнепсом к южной стене, где были свалены стебли гаоляна. Часть выкопанной земли сбросили в уборную, часть перетаскали в ослиный хлев, а остальное ссыпали в старый колодец рядом с гаоляном.
Праздник Чуньцзе[55]55
Чуньцзе – праздник весны, китайский новый год.
[Закрыть] прошёл мирно. В праздник фонарей матушка вечером взвалила меня на спину, и вместе с сёстрами мы пошли любоваться фонарями. Их вывешивали у каждого дома, но всё небольшие. Два огромных – с чан для воды – красных фонаря висели лишь на воротах Фушэнтана. В каждом горела большая и толстая – толще моей руки – свеча из бараньего жира. Пламя колебалось, и фонари радовали глаз своим светом. Где была в это время Чжаоди? Таким вопросом матушка уже и не задавалась. Вторая сестра стала у нас в семье партизанкой и могла пропадать три дня подряд, а могла вдруг и появиться. Пришла она и в новогоднюю ночь, когда мы собирались пускать хлопушки в честь бога богатства Цайшэня. Чёрная накидка наброшена на плечи так, чтобы был виден стягивающий тонкую талию ремень из воловьей кожи и засунутый за него, отливающий металлическим блеском револьвер.
– Вот уж не думала, что в семье Шангуань появится ещё одна разбойница с большой дороги! – с издёвкой проронила матушка.
Она чуть не плакала, а губы второй сестры едва дрогнули в улыбке. Это была улыбка влюблённой девушки, и матушке показалось, что её ещё можно наставить на путь истинный.
– Чжаоди, я не могу допустить, чтобы ты стала наложницей Сыма Ку, – сказала она.
На это вторая сестра ответила холодным смешком – так усмехаются порочные женщины, – и лучик надежды в душе матушки угас.
В первый день нового года матушка пошла поздравить тётушку. Когда разговор зашёл о Лайди и Чжаоди, тётушка – женщина пожилая и много повидавшая на своём веку – сказала:
– Что до любовных дел сыновей и дочерей, тут уж ничего не поделаешь, как выйдет, так и выйдет. К тому же с такими зятьями, как Ша Юэлян и Сыма Ку, ты горя знать не будешь. Эти двое – птицы высокого полёта!
На что матушка ответила:
– Боюсь только, умрут они не своей смертью.
Но старуха и тут нашлась:
– Те, кто умирает своей смертью, большей частью никудышные трусы!
Матушка пыталась что-то возразить, но тётушка нетерпеливо махнула рукой, отметая её слова, как назойливую муху:
– Дай на сынка-то твоего глянуть.
Матушка вытащила меня из «кармана» и положила на кан. Я со страхом смотрел на узкое, маленькое, изборождённое морщинами лицо матушкиной тётки и на её глубоко посаженные ясные зелёные глаза. Выступающие надбровные дуги совершенно безволосые, зато глаза окружает густая желтоватая поросль. Костлявой рукой она погладила меня по голове, потрепала за ухо, ущипнула за кончик носа и даже залезла между ног, чтобы дотронуться до моего хозяйства. Мне страшно не понравились все эти её оскорбительные вольности, и я стал изо всех сил отползать в угол кана. Но она заграбастала меня и заорала:
– А ну вставай, ублюдок маленький!
Матушка пыталась урезонить её:
– Тётушка, ему всего семь месяцев, как он тебе встанет!
На что та отвечала:
– Я в семь месяцев уже собирала яйца из-под куриц для твоей бабки.
Матушка согласилась:
– Так это ты, тётушка! Ты у нас человек необычный.
Тётка не сдавалась:
– Думается мне, этот мальчонка тоже не из простых! Эх, бедный Мюррей!
Матушка покраснела, а потом лицо её покрыла мертвенная бледность. Я подполз к краю кана, ухватился за подоконник и встал.
– Глянь-ка, я же говорила, что он может стоять, вот он и стоит! – захлопала в ладоши тётушка. – Ну-ка посмотри на меня, ублюдок маленький!
– Тётушка, его Цзиньтуном зовут, что ты его всё ублюдком маленьким кличешь!
– Ублюдок или нет, это только его матери известно! Верно, племянница моя дорогая? К тому же я его так любовно называю – всё равно что черепашонок, зайчонок, телёнок. Иди сюда, ублюдок маленький! – позвала она.
Я повернулся на трясущихся ногах и взглянул на матушку, которая следила за мной со слезами на глазах.
– Цзиньтун, сыночек дорогой! – Она протянула ко мне руки, к ним я и устремился. Я умел ходить. – Мой сын ходит, – приговаривала матушка, крепко прижимая меня к себе, – мой сын ходит.
– Сыновья и дочери как птицы, – сурово проговорила матушкина тётка. – Придёт им время улетать – не удержишь. Ну а ты? Я хочу сказать, а ну сгинут они все, как управляться будешь?
– Так и буду.
– Оно, конечно, верно, – не унималась тётка, – но что бы ты ни делала, мыслями к небесам обращайся, к морям устремляйся; покажется – край самый, тогда в горы мысленно поднимайся, себя не обижай. Понимаешь, о чём я?
– Понимаю.
– Свекровь твоя жива ещё? – поинтересовалась старуха, когда они прощались.
– Жива. Валяется в ослином дерьме.
– А ведь всю жизнь всех в кулаке держала, дрянь старая. Вот уж не думала, что докатится до такого!
Если бы не эта тайная беседа матушки с тёткой, я в семь месяцев не сделал бы первых шагов, матушке было бы без интереса вести нас на улицу, и праздник фонарей прошёл бы для нас скучно. Возможно, и история нашей семьи была бы не такой, как сейчас.
Народу на улице было много, но все почти незнакомые. Все были исполнены чувства стабильности и единения. В толпе шныряло множество детей с «золотыми мышиными какашками», от которых с шипением разлетались искорки. Мы остановились перед Фушэнтаном, чтобы полюбоваться на висевшие с обеих сторон ворот громадины-фонари. В их размытом жёлтом свете на горизонтальной доске над воротами красовались золотые иероглифы благопожелательной надписи.
Через распахнутые настежь ворота были видны ярко освещённые внутренние дворики, оттуда доносились неясные звуки. Перед воротами собралось много народу. Все стояли молча, засунув руки в рукава, и, казалось, чего-то ждали. Бойкая на язык третья сестра спросила стоявшего рядом:
– Дядюшка, кашу раздавать будут, что ли?
Тот уклончиво покачал головой.
– Кашу будут давать только после праздника лаба,[56]56
Праздник лáба – восьмой день двенадцатого лунного месяца. В древности это был праздник нового урожая, а после распространения буддизма в Китае – празднование просветления Будды Гаутамы. Непременная часть праздника – каша из смеси риса, бобов, фиников и орехов.
[Закрыть] барышня, – послышался голос сзади.
– А если каши не будет, чего вы тогда стоите? – обернулась Линди.
– Разговорную драму играть будут, – продолжал тот же голос. – Говорят, знаменитый актёр из Цзинани приехал.
Сестра вознамерилась было сказать что-то ещё, но матушка её ущипнула.
Наконец из ворот Фушэнтана вышли четверо молодцов. Они несли длинные бамбуковые шесты с какими-то железяками наверху. Вырывавшиеся из этих штуковин слепящие языки пламени осветили всё пространство перед воротами. Стало светло, как днём. Нет, даже светлее. С полуразрушенной церковной колокольни испуганно вспорхнули устроившиеся там дикие голуби и, громко воркуя, улетели во тьму.
– Газовые фонари! – крикнул кто-то из толпы.
Так мы узнали, что кроме масляных ламп, керосиновых ламп и фонарей со светлячками есть ещё и газовые фонари и светят они ослепительно ярко. Четверо смуглых молодцов возвышались перед воротами Фушэнтана четырьмя тёмными колоннами, образовав четырёхугольник. Из ворот вышли ещё несколько человек, они несли свёрнутую циновку из тростника. Проследовав в центр обозначенного четырьмя осветителями пространства, они бросили циновку на землю, развязали верёвки, и она раскатилась. Потом нагнулись, потянули за углы и стали быстро перебирать чёрными волосатыми ногами. Ноги мелькали так быстро, а газовые фонари светили так ярко, что в глазах двоилось и казалось, что у каждого из этих бегущих по четыре ноги, а то и больше, и между ногами нечто вроде сверкающей паутины. От этого рябило в глазах и создавалось впечатление, что в паутине барахтаются маленькие жучки. Расстелив циновку, актёры выпрямились, повернулись к зрителям и застыли в театральной позе. Лица размалёваны разными цветами, будто крашеные куски меха. Тут и леопард, и пятнистый олень, и рысь, и полосатый барсук – любитель таскать съестные подношения из храмов. Быстро перебирая ногами – два шага вперёд, шаг назад – и пританцовывая, они скрылись за воротами.
Под шипение газа мы молча ждали. Ждала и тростниковая циновка. Четверо молодцов с шестами превратились в чёрные каменные статуи. Неожиданно ударил гонг, и все вытянули шеи, чтобы разглядеть, что делается внутри, за воротами, но мешал белый экран[57]57
Экран при входе – защита от злых духов, которые, по традиционным представлениям, могут двигаться только по прямой.
[Закрыть] с большим иероглифом «счастье», взятым в рамку. Казалось, прошла целая вечность, и вот наконец на сцене появилась физиономия Сыма Тина, старшего хозяина Фушэнтана. Бывший голова Даланя, а теперь глава Комитета поддержки, он, держа в руках гонг, покрытый вмятинами от колотушки, и будто нехотя ударяя в него, сделал круг на циновке. Потом вышел на середину и обратился к нам:
– Земляки! Деды и бабки, дядья и тётки, братья и сёстры, сыновья и дочери! Мой младший брат добился успеха – разрушил железнодорожный мост. Эта добрая весть разнеслась далеко по округе, поздравить нас прибыли многочисленные родственники, они поднесли более двадцати благопожелательных свитков. Чтобы отметить эту выдающуюся победу, брат пригласил труппу актёров. Он и сам выйдет на сцену и сыграет роль в новой пьесе для просвещения сельских жителей. Давайте даже в праздник фонарей не забывать о героической войне Сопротивления! Не позволим япошкам топтать нашу родную землю! Сын Китая Сыма Тин больше не глава их Комитета поддержки! Земляки, мы, китайцы, не будем служить этим сукиным детям японцам!
Он произнёс всё это гладко и с выражением, поклонился зрителям и бегом вернулся к воротам, откуда уже выходили музыканты с хуцинем,[58]58
Хуцинь – струнный смычковый инструмент, род скрипки.
[Закрыть] бамбуковой флейтой и пипа,[59]59
Пипá – четырехструнный щипковый инструмент типа лютни.
[Закрыть] таща за собой табуретки.
Музыканты расположились у края циновки и стали настраивать инструменты под две ноты, которые давал флейтист. Высокие звуки снижались, низкие взмывали вверх. Голоса хуциня, пипа и флейты сплелись воедино, прозвучали вместе и смолкли. Вскоре появились ударные: барабаны, гонг, большие и малые цимбалы. И эти музыканты несли табуретки; усевшись напротив струнных, они тоже провели небольшую разминку. Наконец несколько раз монотонно ударил гонг, затем пронзительно рассыпалась барабанная дробь, следом вступили вместе хуцинь, пипа и флейта, свиваясь в мелодию, которая словно опутала нам ноги так, что и шагу не ступить, так оплела души, что и мысли в голову не шли. Мелодия – то нежная и печальная, то журчащая, будто что-то нашёптывающая, – что за жанр такой? Так это же дунбэйский маоцян, в народе его ещё называют женой, привязанной к колу.[60]60
Имеются в виду истошные вопли наказуемых в ходе жестокого средневекового наказания для неверных жён.
[Закрыть] Как говорится, когда исполняют маоцян, в голове смешиваются три начала и пять принципов;[61]61
Три начала и пять принципов – подчинение под данного государю, подчинение жены мужу и подчинение сына отцу; гуманность, справедливость, вежливость, разумность и верность.
[Закрыть] правда и то, что когда маоцян слушаешь, отца с матерью забываешь. Подчиняясь этому ритму, пришли в движение ноги зрителей, стали подрагивать губы, затрепетали сердца. Напряжение достигло крайней точки, как стрела в натянутой тетиве. Пять, четыре, три, два, один – и вот зазвучал нежный голос. Устремившись вверх, он поднимался всё выше и выше, пронзая небеса. «Я юная красавица, скромная, прелестная…» В воздухе ещё дрожала эта пропетая на самой высокой ноте фраза, а в воротах появилась Чжаоди. С бархатным красным цветком в волосах, в синей куртке с запахом на сторону, широких шароварах, спускавшихся на синие вышитые туфли, с бамбуковой корзинкой в левой руке и с вальком в правой, она просеменила мелкими шажками, скользнув струйкой воды в ярко освещённое фонарями пространство, и застыла, приняв театральную позу. И брови-то уже у неё не брови, а полумесяцы на краю небес, и взгляд, которым она обвела всех нас, словно орошал живительной влагой; тонкий нос с горбинкой, пухлые губы краснее вишни в мае. Наступила тишина, и сдерживаемое напряжение множества неморгающих глаз, множества замерших сердец прорвалось в громких возгласах одобрения. Тело сестры пришло в движение, она пригнулась и обежала вокруг сцены: талия тонкая и гибкая, как весенняя ива над прудом, шаг лёгкий, словно скольжение змейки по колосьям пшеницы. Несмотря на безветрие, холод в тот вечер стоял страшный, а сестра была одета по-летнему. Матушка с изумлением отметила, как развилась её фигура после съеденного угря. Два бугорка плоти на груди созрели с пекинскую грушу величиной и обрели правильную, красивую форму, продолжая славную традицию женщин из семьи Шангуань, которые всегда отличались пышным телом, а особенно большой грудью. Сестра сделала круг, но дышала ровно, выражение лица не изменилось. После паузы она пропела вторую строчку: «…стала женой храбреца Сыма Ку…» Пропела ровно, не взяв верхней ноты в конце, но эффект на слушателей произвела сильнейший. В толпе переглядывались и перешёптывались: «Откуда эта девушка?» – «Из семьи Шангуань». – «А разве дочка из семьи Шангуань не сбежала с отрядом стрелков?» – «Так это вторая!» – «И когда она успела стать наложницей Сыма Ку?»
– Это же театральное представление, мать вашу! – громко вступилась за сестру Линди, её под держал кое-кто из зрителей. – Заткнитесь же, наконец, так вас и этак!
На какое-то время шёпот стих.
«Мой муж – мосты разрушать мастак, – пела Чжаоди, – облил вином и поджёг мост через Цзяолунхэ. В пятый день пятого месяца, на праздник драконовых лодок[62]62
Праздник драконовых лодок приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю, это традиционное празднование начала лета. Своим названием праздник обязан проводимому в этот день состязанию в гребле на лодках, изображающих драконов.
[Закрыть] взметнулось синее пламя на тысячи чжанов, япошек так подпекло, что отцов и матерей поминали. Тяжёлую рану на заднем месте муж мой тогда получил. Ночью вчера мороз и ветер, окрест всё белым-бело, муж мой повёл бойцов своих на железнодорожный мост…» Тут она изобразила, что раскалывает лёд и стирает в ледяной воде бельё, трясясь всем телом, как высохший листок на верхушке дерева в зимнюю пору. Захваченные представлением зрители громко выражали свой восторг, а кое-кто даже смахивал рукавом слезу. Под грохот вступивших цимбал и барабанов сестра поднялась и стала вглядываться вдаль: «Слышу, как дрожат от взрывов западные небеса, вижу, вздымаются во мгле ночной пламени языки. Значит, муж мой одержал победу и разрушил мост, и уже на пути к Яньло-вану[63]63
Яньло-ван – владыка царства мёртвых.
[Закрыть] воинский эшелон. Мне пора домой возвращаться и подогреть вина, курицу ему зарезать, горшок супа сварить…» Тут сестра будто бы подбирает одежды и начинает забираться по склону дамбы, напевая при этом: «Поднимаю голову – а передо мной четверо шакалов и волков…» И тут же из ворот вылетает, выделывая кульбиты, четвёрка тех размалёванных быстроногих, что принесли и расстелили циновку. Они окружают сестру и тянутся к ней лапами, словно четверо котов, готовых схватить маленькую мышку. Раскрашенный под барсука гнусным голосом запевает: «Я капитан Камэда, шёл красотку поискать. Мне давно говорили, в Дунбэе красавиц пруд пруди, а тут поднимаю голову и вижу прелестное личико прямо перед собой. Пойдём, девочка, пойдём с великим тайкуном,[64]64
Тайкун – в средневековой Японии почтительное обращение к сёгунам. Сотрудничавшие с японцами китайцы обращались так к офицерам.
[Закрыть] ждёт тебя счастье и услада…» «Японские черти» набрасываются на застывшую, как палка, сестру, подхватывают её на руки и, подняв высоко над головой, обносят вокруг циновки. Барабаны и цимбалы выбивают бешеный ритм, словно налетел ураган. Переполненные эмоциями зрители устремляются к сцене. Впереди с криком «Опустите мою дочь!» бежит матушка. Я в своём «кармане» встал тогда на ноги – подобное чувство я пережил позже, когда впервые проехал верхом. Вытянув вперёд руки, подобно коршуну, когтящему зайца, матушка норовила выцарапать глаза «капитану Камэда». Тот с воплем ужаса отскочил от сестры, остальные трое тоже убрали руки, и она грохнулась на циновку. Троица ретировалась, оставив «капитана Камэда» одного, а матушка взгромоздилась ему на спину и принялась драть за волосы.