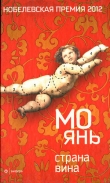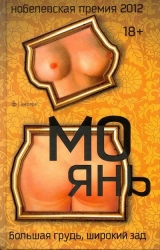
Текст книги "Большая грудь, широкий зад"
Автор книги: Мо Янь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Мама, мама! – пыталась оттащить её сестра. – Это же театральное представление, это же понарошку!
Подоспевшие на помощь с трудом оторвали матушку от «капитана Камэда». С расцарапанным в кровь лицом он во всю прыть рванулся в ворота.
– Пусть только кто-нибудь посмеет обидеть мою дочку, пусть только попробует! – едва переводя дыхание, кричала распалившаяся матушка.
– Мама, такая хорошая пьеса, а ты всё испортила! – сердито бросила вторая сестра.
– Чжаоди, послушай, что мать тебе скажет. Пойдём-ка домой, не нам такие пьесы играть. – И потянула её за руку, но расстроенная сестра вырвалась.
– Мама, перестань срамить меня!
– Это ты меня срамишь! Пойдём давай! – настаивала матушка.
– Не пойду, – заявила сестра.
В этот момент на сцене появился Сыма Ку. Он громко распевал: «Вот я разрушил мост и возвращаюсь на коне домой…» В ботинках для верховой езды и в фуражке, с плетью, он восседал на воображаемом скакуне, притопывал ногами и продвигался вперёд, то сгибаясь, то выпрямляясь, с несуществующими поводьями в руке, словно скакал во весь опор. Небеса сотрясались от грохота барабанов и цимбал, в лад звучали струнные и духовые; среди них выделялась флейта, звуки которой, как говорится, пронизывали тучи и разрывали шёлк. Все застыли ни живы ни мертвы, но не от страха, а под воздействием этих звуков. Жёсткое и холодное, как сталь, лицо Сыма Ку казалось донельзя суровым – ни следа лукавства или несерьёзности. «Вдруг слышу на дамбе какой-то переполох, даю плеть скакуну, чтобы нёс туда быстрей…» При этих словах струны хуциня имитируют конское ржание. «Сердце моё горит огнём, конь мой летит как ветер, его полшага – шаг других, два шага трём равны…» Ритм барабанов и цимбал нарастает, притопывая, движется всадник, потом следует «переворот ястреба», «раскладка ног в воздухе», «задыхающийся буйвол», «лев, катящий узорный шар» – всё своё умение демонстрирует на циновке Сыма Ку, и трудно даже поверить, что на заду у него большущий пластырь в полцзиня весом.
Чжаоди торопливо выпихивает со сцены матушку. Та, продолжая ворчать, неохотно возвращается на место. Трое «японцев», изогнув по-кошачьи спины, проникают в центр сцены, чтобы снова поднять сестру на руки. «Капитана Камэда» и след простыл, пришлось им справляться без него: двое взялись за сестру спереди, а один – за ноги. Зажатая между ног сестры размалёванная голова выглядела настолько комично, что зрители начали тихонько хихикать. Актёр морщил нос, закатывал глаза, и смех усилился. А когда он стал делать это ещё энергичнее, раздались взрывы хохота. На лице Сыма Ку отразилось явное неудовольствие, но он запел дальше: «Вдруг слышу шум толпы. Глядь – японские солдаты опять насильничать вздумали. Не раздумывая бросаюсь на них хватаю эту кость собачью. Руки прочь!» С этим криком Сыма Ку вцепляется в «японца», голова которого зажата между ног сестры. За этим следует каскад приёмов боевых искусств, – правда, изначально предполагалось, что будет четверо против одного, теперь же Сыма Ку противостояло лишь трое. В этом «бою» он и «японцев» одолел, и «жену» выручил. «Японцы» упали на колени, а Сыма Ку, ведя Чжаоди за руку, под радостную музыку вернулся за ворота. Тут же ожили четыре тёмные фигуры с газовыми фонарями и бегом унесли их. Перед нашими глазами непроглядной стеной встала тьма.
На другой день на рассвете деревню окружили настоящие японцы. Проснулись мы от винтовочной и орудийной пальбы и топота копыт. Схватив меня в охапку, матушка потащила сестёр к подвалу с турнепсом. Мы все попрыгали туда и какое-то время пробирались ползком в темноте. Было сыро и холодно, потом стало попросторнее, и матушка зажгла масляную лампу. В её тусклом свете мы уселись на циновку, прислушиваясь к слабым звукам, доносящимся сверху.
Не знаю, сколько мы так просидели. Вдруг в темноте прохода послышалось тяжёлое дыхание. Матушка схватила кузнечные клещи и быстро задула лампу. Подвал погрузился в кромешную тьму. Я заплакал, и матушка сунула мне грудь. Молоко было холоднющее, вязкое и отдавало горько-солёным.
Дыхание приближалось, матушка уже занесла клещи. В это время раздался изменившийся голос второй сестры:
– Мама, не бей, это я…
Матушка, словно обессилев, опустила руки.
– Ну, Чжаоди, до смерти напугала, – облегчённо выдохнула она.
– Мама, зажги лампу, – попросила сестра, – у меня тут ещё кое-кто.
Хоть и не сразу, лампа загорелась, едва осветив нашу пещеру. Вторая сестра, в грязи с головы до ног, с кровавой царапиной на щеке, держала в руках какой-то свёрток.
– Это ещё что? – удивилась матушка.
Рот Чжаоди скривился, и по измазанному лицу потекли светлые слёзы.
– Мамочка, – сдавленным голосом произнесла она, – это сын его третьей наложницы.
Матушка как онемела, а потом взорвалась:
– Отнеси туда, где взяла!
Сестра подползла к ней на коленях и глянула снизу вверх:
– Матушка, помилосердствуйте, у него всю семью вырезали, он единственный, кто остался…
Отогнув уголок свёртка, матушка открыла смуглое и тощее личико последнего отпрыска рода Сыма. Малыш сладко спал, ровно дыша и сложив розовые губки, словно сосал грудь. Меня переполнила ненависть к этому поганцу. Я выплюнул сосок и заревел, но матушка наладила его обратно, ещё более холодный и горький, чем прежде.
– Матушка, так вы согласны оставить его? – спросила сестра.
Матушка сидела с закрытыми глазами и не проронила ни звука.
Вторая сестра сунула ребёнка в руки третьей, бухнулась на колени и с плачем стала отбивать земные поклоны:
– Матушка, я по жизни его женщина, а после смерти буду приходить к нему как дух! Спасите этого ребёнка, дочка по гроб не забудет вашей доброты!
Потом поднялась и стала протискиваться к выходу.
– Куда ты? – выдохнула матушка, пытаясь остановить её.
– Мама, он ранен в ногу, прячется на мельнице под жёрновом. Мне к нему надо.
Снаружи донёсся топот лошадей и винтовочные выстрелы. Матушка загородила выход из подвала:
– Мать на всё согласна, но на смерть не пущу.
– Мама, у него кровь течёт не переставая, без меня он умрёт. А если он умрёт, зачем твоей дочери жить? Ну отпусти меня, мама…
Матушка взвыла без слёз, но тут же зажала себе рот.
– Матушка, ну хотите, опять на колени встану?
Чжаоди снова отбила земной поклон и застыла на миг, уткнувшись лицом в ноги матери. Потом оторвалась от неё и, согнувшись, стала пробираться к выходу.
Глава 14
Головы девятнадцати членов семьи Сыма провисели на деревянной раме за воротами Фушэнтана до самого праздника Цинмин,[65]65
Цинмин – день поминовения усопших.
[Закрыть] когда стало по-весеннему тепло и начали распускаться цветы. Рама была сколочена из пяти толстых еловых стволов и по форме напоминала качели. Головы свешивались с неё, прикрученные стальной проволокой. Хотя плоть уже начисто склевали вороны, воробьи и совы, можно было без труда узнать жену Сыма Тина, его двух дурачков-сыновей, первую, вторую и третью жён Сыма Ку, девятерых детей, которых они втроём нарожали, а также гостивших в доме Сыма отца, мать и двух младших братьев третьей жены.
Деревня после нагрянувшей беды обезлюдела, а те, кто уцелел, походили на призраков. Днём все отсиживались по домам и осмеливались выходить лишь с наступлением темноты.
Вторая сестра как ушла, так и не появлялась, и от неё не было никаких вестей. С оставленным ею ребёнком была одна морока. Чтобы он не умер с голоду, когда мы прятались во мраке подземного прохода, матушке пришлось кормить его грудью. Разинув большущий рот и выпучив глаза, он жадно сосал грудь, которая должна была принадлежать только мне. Съесть он мог на удивление много и, высосав груди подчистую, так, что они повисали пустыми кожаными мешками, орал, требуя ещё. Орал что твоя ворона, как жаба, как сова. А выражение лица у него было как у волка, как у одичавшей собаки, как у дикого кролика. Он стал моим заклятым врагом, и мир был тесен для нас двоих. Когда он овладевал матушкиной грудью, я ревел не переставая; когда же я пытался вернуть её себе, в беспрерывном крике заходился он. Орал он, выпучив глаза, а глаза у него были как у ящерицы. Чёрт бы побрал эту Чжаоди! Надо же было принести в дом это ящерицыно отродье!
От нашего тиранства лицо матушки отекло и побледнело, и мне чудилось, что на теле у неё повылезало множество бледно-жёлтых ростков, как на турнепсе, пролежавшем в нашем подвале всю долгую зиму. Первые появились на груди, и я ощутил сладковатый привкус турнепса в молоке, которого, надо сказать, становилось всё меньше и меньше. А ты, пащенок из семьи Сыма, неужто не уловил этот жуткий запах? Тем, что твоё, нужно дорожить, но мне было уже не до этого. Не высосу я – высосет он. Вы иссохли, мои драгоценные тыквочки, и кожа на вас сморщилась, маленькие голубочки, фарфоровые вазочки; кровеносные сосуды на вас посинели, соски почернели и бессильно поникли.
Опасаясь за мою жизнь и за жизнь этого ублюдка, матушка рискнула вывести сестёр из подвала к свету, к людям. Вся пшеница, что хранилась у нас в восточной пристройке, исчезла. Исчезли и ослиха с мулёнком. От горшков, чашек и другой посуды остались лишь осколки, даже Гуаньинь стояла в алтаре безголовым трупом. Пропала лисья шуба, которую матушка забыла взять с собой в подвал, и наши с сестрёнкой рысьи курточки. Шубы сестёр остались при них – они никогда их не снимали, – но мех на них вылез, образовались проплешины, и сёстры смотрелись как облезлые зверьки.
Урождённая Люй лежала у жернова в западной пристройке. Она сгрызла все двадцать турнепсин, что оставила ей матушка, перед тем как спуститься в подвал, и наделала рядом большую кучу – твёрдую, как галька. Горсть этих «камешков» она швырнула в матушку, когда та зашла проведать её. Кожа на лице у старухи походила на мёрзлый турнепс, спутанные седые волосы торчали во все стороны, а глаза мерцали зелёным светом. Покачав головой, матушка положила перед ней ещё несколько турнепсин. Всё, что осталось нам после японцев – а может, и китайцев, – это полподвала ноздреватого турнепса, уже покрывшегося жёлтыми ростками. Совершенно отчаявшись, матушка отыскала один чудом уцелевший горшок, в котором Шангуань Люй хранила свой драгоценный мышьяк, и насыпала этого красного порошка в суп из турнепса. Когда порошок растворился, на поверхности появились разноцветные маслянистые разводы, вокруг разнёсся отвратительный запах. Она помешала суп половником, зачерпнула этого варева, чуть наклонила половник, и мутная струйка с журчанием потекла через его щербатый край в котёл. Уголки губ у матушки странно подёргивались.
– Линди, отнеси бабке своей, – велела она, налив немного в треснувшую чашку.
– Мама, ты туда яду добавила? – охнула третья сестра. Матушка кивнула. – Хочешь отравить её?
– Всем нам не жить, – проговорила матушка.
Сёстры хором разревелись, заплакала даже слепенькая восьмая сестрёнка. Больше похожий на гудение пчелы, её плач был еле слышен, и большие чёрные ничего не видящие глазки этого самого несчастного, самого жалкого существа наполнились слезами.
– Мамочка, мы не хотим умирать… – молили сёстры.
Даже я подхватил:
– Ма… Ма…
– Бедные дети!.. – выдохнула матушка и разрыдалась.
Плакала она долго, а вместе с ней плакали и мы. Потом звучно высморкалась, взяла ту треснувшую чашку и выбросила во двор вместе с содержимым.
– Не помрём! – заявила матушка. – Чего ещё бояться, коли смерть нестрашна? – С этими словами она приосанилась и повела нас со двора искать съестное.
Мы оказались первыми, кто высунул нос на улицу. Увидев головы семьи Сыма, сёстры сначала испугались. Но через несколько дней это зрелище стало привычным. Я видел, как матушка, держа маленького ублюдка Сыма на руках, прошептала, указывая на головы:
– Запомни это хорошенько, бедолага.
Матушка с сёстрами отправились за околицу, в проснувшиеся уже поля. Там они накопали белых корешков трав, чтобы промыть, растолочь и сварить из них суп. Умница третья сестра наткнулась на норку полёвок и не только наловила мышей, мясо которых удивительно вкусное, но добралась и до их припасов. Ещё сёстры сплели из конопляной бечёвки сеть и натаскали из пруда почерневшей и иссохшей после суровой зимы рыбы и креветок. Как-то матушка попробовала сунуть мне ложку рыбного супа. Я решительно выплюнул его и ударился в рёв. Тогда она сунула ложку этому паршивцу Сыма, и тот запросто проглотил содержимое. Слопал он и вторую ложку.
– Вот и славно, – обрадовалась матушка. – При всех своих несчастьях есть ты всё же научился. – И повернулась ко мне: – А ты что? Тебя тоже надо отлучать от груди. – В ужасе я ухватился за её грудь обеими руками.
Вслед за нами стали возвращаться к жизни и остальные обитатели деревни. Это обратилось в невиданное бедствие для полёвок, а за ними пришла очередь диких кроликов, рыбы, черепах, креветок, раков, змей и лягушек. Во всей округе из живности остались лишь ядовитые жабы да птицы на крыле. И всё равно, если бы вовремя не разрослась трава, половина сельчан умерли бы с голоду. Прошёл праздник Цинмин, стали опадать яркие лепестки цветков персика, в полях поднимался пар, земля оживала и ждала сеятеля. Но скотины не было, не было и семян. Когда в болотных вымоинах, в круглом пруду и на речном мелководье появились жирные головастики, жители стали покидать деревню. В четвёртом месяце ушли почти все, но когда наступил пятый, большинство вернулись в родные места. «Здесь хоть дикие травы и корешки не дадут помереть с голоду, – сказал почтенный Фань Сань. – В других местах и того нет». К шестому месяцу появилось множество пришлых. Они спали в церкви, во двориках дальних покоев семьи Сыма, на заброшенных мельницах. Словно взбесившиеся от голода псы, они воровали у нас еду. В конце концов почтенный Фань Сань собрал деревенских мужчин, чтобы организовать отпор чужакам. У наших во главе встал Фань Сань, у пришлых тоже появился вожак – молодой большеглазый парень с густыми бровями. Умелый птицелов, он всегда ходил с парой рогаток за поясом и мешком через плечо, полным шариков из глины. Третья сестра своими глазами видела, как лихо у него всё получается. Заметив пару милующихся в воздухе куропаток, он вытащил рогатку и пульнул, почти не целясь, будто походя. Одна птица тут же упала с пробитой головой прямо к ногам сестры. Другая испуганно взмыла ввысь, но и её настиг шарик, и она тоже свалилась на землю. Подняв её, чужак подошёл к третьей сестре. Он смотрел на неё в упор, она тоже уставилась на него ненавидящим взглядом. Эту ненависть всколыхнул в нас почтенный Фань Сань. Он уже приходил и агитировал за изгнание пришлых. Но чужак не только не забрал лежавшую у ног сестры куропатку, но и бросил туда же ту, что держал в руках. И ни слова не говоря, пошёл прочь.
Третья сестра принесла куропаток домой, накормила матушку мясом, сестёр и маленького паршивца – бульоном, а Шангуань Люй отдала кости, которые та сгрызла с громким хрустом. То, что куропаток поднёс чужак, она сохранила в тайне. Благодаря куропаткам насытился и я, потому что матушкино молоко вскоре обрело чудесный вкус. Матушка несколько раз пробовала накормить мальца Сыма, пока я спал, но тот не брал грудь ни в какую. Так и рос на травках, корешках и на коре деревьев, причём поедал всё в таких количествах, что только подавай.
– Ну чистый ослёнок! – изумлялась матушка. – Видать, судьба ему такая – траву уминать с самого рождения.
Даже какашки у него напоминали ослиные. Более того: матушка считала, что у него два желудка и что он может жевать жвачку. Бывало, отрыгнёт ком травы и пережёвывает, зажмурившись от наслаждения. В уголках рта у него выступала слюна. Прожевав, он напрягал шею и шумно проглатывал.
С пришлыми началась настоящая война. Сначала урезонивать их отправился почтенный Фань Сань, он вежливо предложил им убраться. Пришлые выдвинули своего представителя, того самого парня, что поднёс третьей сестре пару куропаток, умелого птицелова по прозванию Пичуга Хань. Уперев руки в рогатки на поясе, тот приводил обоснованные доводы и ни за что не хотел уступать.
– На месте Гаоми испокон веку был пустырь, – говорил он, – и никто здесь не жил, тут все пришлые. Вы вот живёте, а мы почему не можем?
Слово за слово, началась перебранка, страсти закипели, все стали пихаться и задирать друг друга. Один деревенский сумасброд, по прозвищу Шестой Чахоточный, выскочил из-за спины Фань Саня с железякой в руках, размахнулся и огрел по голове пожилую мать Пичуги Ханя. У бедной женщины мозги вылетели наружу, и дух вон. Взвыв, как раненый волк, Пичуга выхватил свои рогатки, и два глиняных шарика оставили Шестого Чахоточного без глаз. В начавшейся свалке деревенские мало-помалу стали брать верх. Пичуга Хань взвалил на плечи тело матери, пришлые, огрызаясь, начали отступать, пока не дошли до песчаной гряды Дашалян к западу от деревни. Там Пичуга Хань опустил мать на землю, вытащил рогатки, зарядил и нацелил на Фань Саня:
– Оставил бы ты свои задумки извести нас под корень, начальник. Загнанный в угол заяц и тот кусается! – Он ещё не договорил, когда одна из пулек со свистом рассекла воздух и ударила Фань Саня в ухо. – Оставляю тебе жизнь только потому, что все мы китайцы, – добавил Пичуга.
Держась за рассечённое пополам левое ухо, Фань Сань без звука отступил.
Чтобы закрепить за собой землю, пришлые возвели на песчаной гряде несколько дюжин навесов. Через десяток лет там уже образовалась деревушка. Прошло ещё несколько десятков лет, и на этом месте уже стоял процветающий городок, который почти слился с Даланем, их разделяло лишь озерцо с узкой дорожкой по берегу. В девяностых Далань разросся из городка в настоящий город, его западным пригородом стал Шалянцзычжэнь. К тому времени там уже развернул свою деятельность крупнейший в Азии птицеводческий центр «Дунфан», где можно было приобрести множество редких птиц, которых не часто встретишь даже в зоопарках. Торговля редкими видами птиц велась, конечно, полулегально. Основателем Центра стал сын Пичуги – Попугай Хань, который разбогател на разведении, селекции и выращивании новых видов попугаев. С помощью своей жены Гэн Ляньлянь он стал большим человеком; потом его арестовали и посадили.
Пичуга Хань похоронил мать на песчаной гряде и прошёлся пару раз по главной улице с рогатками в руках, забористо ругаясь на своём плохо понятном для местных диалекте. Он хотел показать деревенским: мол, теперь я один как перст, убью одного – и мы при своих, убью двоих – один за мной. Будем, мол, надеяться, что теперь заживём в мире и согласии. Деревенские прекрасно помнили, как он раскроил ухо Фань Саню, как остался без глаз Шестой Чахоточный, так что высовываться никто не захотел. Как бы то ни было, смерть матери Пичуги не прошла незамеченной.
С тех пор пришлые с деревенскими замирились, хотя зуб друг на друга имели. Почти каждый день третья сестра встречалась с Пичугой на том самом месте, где он впервые поднёс ей куропаток. Сначала эти встречи были вроде бы случайными, потом пошли свиданки в полях, откуда они не уходили, не дождавшись друг друга. Третья сестра в том месте всю траву вытоптала. Пичуга Хань каждый раз бросал ей птиц и, ни слова не говоря, удалялся. То пару горлиц принесёт, то фазана, а однажды положил к её ногам большую птицу, мясистую, цзиней на тридцать весом. Третья сестра взвалила её на спину и еле дотащила до дому. Даже многоопытный Фань Сань не мог сказать, как эта птица прозывается. Я же узнал – опять-таки через матушкино молоко, – что её мясо бесподобно на вкус.
Фань Сань на правах близкого знакомого семьи неоднократно обращал матушкино внимание на отношения третьей сестры и Пичуги Ханя. Получалось это у него как-то оскорбительно, с неким душком:
– Твоя третья дочка, племянница, с этим птицеловом… Ай-яй-яй, как это супротив заведённых приличий, все в деревне не знают, куда и глаза девать! – сказал как-то он.
– Так она ещё девчонка! – возразила матушка.
– У вас в семье дочки не такие, как у других, – настаивал Фань Сань.
– Пусть в ад катятся все эти сплетники! – отшила его матушка.
Отшить-то она отшила, но с третьей сестрой, когда та возвернулась с ещё трепыхавшимся красноголовым журавлём, завела серьёзный разговор.
– Линди, мы не можем больше есть чью-то птицу, – заявила она.
– Почему это? – уставилась на неё сестра. – Для него поймать птицу легче, чем блоху.
– Легко – нелегко, но ловит-то их он. Разве не знаешь: чей хлеб ешь, под ту дудку и пляшешь?
– Придёт время, верну я ему долг.
– Чем, интересно, ты его вернёшь?
– Выйду за него.
Тут голос матушки посуровел:
– Линди, из-за твоих сестёр наша семья уже настолько потеряла лицо, что дальше некуда. На этот раз будет по-моему, какие бы ты речи ни вела.
– Хорошо тебе говорить, мама! – вспыхнула сестра. – А ведь если бы не Пичуга, разве он так выглядел бы? – И она указала на меня. – И он тоже, – повернулась она к малышу Сыма.
Глянув на моё гладкое, пухлое лицо и на краснощёкого мальца Сыма, матушка не смогла ничего возразить. Но потом всё же заключила:
– Линди, хоть что говори, но больше мы его птиц есть не будем.
На следующий день сестра вернулась с целой связкой диких голубей через плечо и, будто назло, бросила их к её ногам.
Незаметно наступил восьмой месяц, появились стаи диких гусей. Они летели издалека, с севера, и садились в болотах к юго-западу от деревни. С крюками, сетями, действуя другими дедовскими способами, деревенские и пришлые устроили славную гусиную охоту. Поначалу добыча была богатой, и по всей деревне – и на главной улице, и в проулках – летал гусиный пух. Но вскоре гуси научились гнездиться в дальних топях, куда и лисы добирались с трудом, и все старания и уловки людей были безрезультатны. Только третья сестра что ни день возвращалась домой с гусем – битым, а то и с живым. Бес его знает, как только Пичуга умудрялся ловить их.
Матушке оставалось лишь смириться с суровой реальностью. Потому что не будь у нас подношений Пичуги Ханя, мы, как и большинство жителей деревни, уже страдали бы от недоедания, опухли бы и задыхались, и глаза у нас то потухали бы, то загорались бесовским огнём. А то, что мы ели птиц Пичуги, означало лишь, что к нашим зятьям кроме предводителя отряда стрелков и мастера разрушать мосты добавился ещё один – умелый птицелов.
Утром шестого дня восьмого месяца третья сестра опять отправилась на обычное место встречи за птицей, а мы остались дома ждать. Всем уже приелась отдававшая травой гусятина, мы надеялись, что Пичуга принесёт что-то другое. О том, что третья сестра ещё раз притащит огромную птицу с превосходным мясом, мы и мечтать не смели, а вот пара лесных голубей, перепелов, горлиц, диких уток – это же возможно, верно?
Третья сестра вернулась с пустыми руками, зарёванная, с покрасневшими, как персик, глазами. Когда обеспокоенная матушка спросила, в чём дело, сестра выдавила из себя:
– Увели его люди в чёрном, с винтовками и на велосипедах…
Вместе с ним угнали ещё с десяток молодых, здоровых парней. Их связали вместе, как цикад. Пичуга Хань сопротивлялся изо всех сил, на руках у него вздулись мускулы, большие, как воздушные шары. Солдаты били его прикладами по заду и пояснице, пинали ногами.
– За что?! – громко вопрошал он, и его покрасневшие глаза, казалось, готовы были брызнуть то ли кровью, то ли огнём.
Командир солдатни схватил пригоршню грязи и шмякнул Пичуге в лицо, залепив глаза. Тот взревел, как загнанный зверь.
Третья сестра всё время шла за ними следом, потом остановилась и позвала:
– Пичуга Хань… – Чуть постояв, снова догнала: – Пичуга Хань… – Солдаты уставились на неё с мерзкими ухмылками. – Пичуга Хань, я буду ждать тебя, – вымолвила она наконец.
– Шла бы ты знаешь куда! – заорал Пичуга. – Никто тебя не просит ждать!
В тот день, стоя перед горшком, в котором варился суп из диких трав – такой жидкий, что в нём можно было увидеть собственное отражение, – мы, в том числе и матушка, поняли, насколько важен стал для нас Пичуга.
Третья сестра проплакала два дня и две ночи, не поднимаясь с кана. Матушка и так и сяк пыталась успокоить её, но тщетно.
На третий день после ареста Пичуги сестра спустилась с кана и босиком, в кофте, бесстыдно распахнутой на груди, вышла во двор. Взобравшись на гранатовое дерево, она ухватилась за вершину и упруго выгнула её, как лук. Матушка бросилась стаскивать её, но сестра ловко перепрыгнула на утун, с утуна на большую катальпу,[66]66
Катальпа (трубное дерево) – дерево с крупными сердцевидными листьями и цветками, достигает 16 м в высоту.
[Закрыть] а оттуда перелетела на конёк нашей крытой соломой крыши. Проделывала она всё это с невероятным изяществом, будто у неё крылья выросли. Усевшись на конёк верхом, она подняла глаза к небу, и на отливающем золотом лице заиграла улыбка. Матушка стояла во дворе, задрав голову, и жалобно умоляла:
– Линди, доченька милая, спускайся, никогда больше не буду вмешиваться в твои дела, делай как знаешь…
Третья сестра никак не реагировала, словно стала птицей и перестала понимать язык людей. Матушка кликнула во двор четвёртую сестру, пятую сестру, шестую сестру, седьмую сестру, восьмую сестру и даже маленького Сыма и заставила звать сидевшую на крыше третью. Сёстры безостановочно молили её слезть, но она не обращала ни на кого внимания. Вместо этого опустила голову и стала покусывать плечо – так птицы приглаживают перья. Казалось, голова у неё на шарнирах, и она вертела ею, запросто доставая до плеча, а наклонив, могла дотянуться до своих маленьких грудок. Я ничуть не удивился бы, если бы она достала до попы или пяток. При желании ей ничего не стоило дотянуться губами до любой точки своего тела. Мне казалось, что, сидя на крыше, сестра по сути перешла в мир птиц: она и мыслила по-птичьи, и вела себя как птица, и выражение лица у неё было птичье. Думаю, не позови матушка Фань Саня с дюжиной крепких молодцов и не вызволи они сестру с крыши кровью чёрной собаки, у неё выросли бы чудесные крылья и она превратилась бы в прекрасную птицу: если не в феникса, то в павлина, а не в павлина, так в золотистого фазана. В какую бы птицу она ни оборотилась, она расправила бы крылья, взлетела высоко-высоко и отправилась бы на поиски своего Пичуги Ханя. Но закончилось всё самым постыдным, отвратительным образом: почтенный Фань Сань велел Чжан Маолиню, ловкому коротышке по прозвищу Обезьяна, забраться на крышу с ведром крови чёрной собаки. Тот подобрался к третьей сестре сзади и окатил её. Сестра вскочила, взмахнула руками, словно собираясь взлететь, но тут же скатилась с крыши и с глухим стуком шлёпнулась на выложенную плитками дорожку. Из раны на голове – величиной с абрикос – беспрестанно шла кровь, сестра была без сознания. Рыдающая матушка сорвала пучок травы и приложила к ране, чтобы остановить кровь, потом с помощью четвёртой и пятой сестёр отмыла её от собачьей крови и перенесла в дом, на кан. Когда сестра пришла в себя, уже сгустились сумерки.
– Линди, как ты себя чувствуешь? – с трудом сдерживая рыдания, спросила матушка.
Взглянув на неё, сестра вроде бы кивнула, а вроде и нет. Из глаз у неё ручьём потекли слёзы.
– Бедная моя девочка, замучили тебя… – приговаривала матушка.
– В Японию его угнали, – бесстрастно молвила сестра. – И вернётся лишь через восемнадцать лет. Поставила бы ты мне алтарь, мама. Ведь я – птица-оборотень.
Для матушки эти слова были как гром среди ясного неба. Обуреваемая самыми разными чувствами, она испуганно вглядывалась в лицо дочери, пытаясь обнаружить печать волшебных чар. Ей много чего хотелось сказать, но она не вымолвила ни слова.
За короткую историю дунбэйского Гаоми из-за несчастной любви или несложившегося брака шесть женщин стали оборотнями лисы, ежа, хорька, пшеничной змейки, барсука и летучей мыши. Они жили своей таинственной жизнью, вызывая у людей страх и благоговение. И вот теперь, когда воплощённый дух птицы появился в нашей собственной семье, матушку одолели мрачные, неотвязные предчувствия. Но она не смела и пикнуть, потому что помнила кровавые уроки прошлого. Лет десять тому назад Фан Цзиньчжи, молодую жену торговца ослами Юань Цзиньбяо, застали на кладбище на тайном свидании с молодым парнем. Мужчины из семьи Юань забили его до смерти. Фан Цзиньчжи тоже досталось изрядно, и она от стыда и горя выпила мышьяку. Когда это обнаружилось, её спасли, залив в горло жидкого дерьма с мочой, чтобы вызвать рвоту. Придя в сознание, она сказалась воплощением духа лисы и попросила поставить ей алтарь. Семья Юань отказалась. С тех пор у них то и дело загорались дрова и сено, ни с того ни сего билась посуда, у главы семьи из чайника вместе с вином выплеснулась ящерица, престарелая мать семейства расчихалась, и через ноздри у неё вылетели два передних зуба. А сварив целый котёл пельменей, семейство обнаружило в нём множество дохлых жаб. Пришлось Юаням пойти на мировую. Они установили алтарь духа лисы и предоставили Фан Цзиньчжи тихие покои.
Птице-Оборотню тихие покои устроили в восточной пристройке. Матушка вместе с четвёртой и пятой сёстрами убрали всякую дребедень, оставленную Ша Юэляном, очистили стены от паутины и балки от пыли, вставили в окна новую бумагу. В углу возле северной стены поставили столик для благовоний и зажгли три сандаловые палочки, оставшиеся с тех пор, когда урождённая Люй поклонялась бодхисатве Гуаньинь. Перед столиком следовало бы установить образ птицы-оборотня, но как она выглядит? Матушке пришлось обратиться к сестре за разъяснениями.
– Где нам взять святой образ духа, почтенная небожительница, чтобы установить перед столиком с благовониями и приносить ему жертвы?
Третья сестра сидела прямо, с закрытыми глазами и раскрасневшимся лицом, словно наслаждаясь прекрасным любовным сновидением. Не смея торопить её, матушка повторила просьбу с ещё большим благоговением. Третья сестра раскрыла рот в протяжном зевке и, не поднимая век, произнесла – это было нечто среднее между птичьим щебетом и человеческой речью:
– Завтра будет.
Утром следующего дня заявился какой-то нищий с орлиным носом и ястребиными глазами. В левой руке он держал посох из бамбука, чтобы отгонять собак, а в правой нёс большую фарфоровую чашу с двумя щербинами на ободке. Он был грязный с головы до ног, будто катался в пыли и песке или прошёл долгий путь в тысячи ли. Ни слова не говоря, он прошёл прямо в главную комнату, свободно и без стеснения, будто вернулся к себе домой. Снял крышку с котла, налил чашку супа из диких трав и стал есть, с шумом втягивая его в рот. Поев, устроился на краю плиты и молча сидел, буравя матушкино лицо острыми, как ножи, глазами. Матушка встревожилась, но виду не подала и спокойно обратилась к нему:
– Мы, уважаемый гость, люди небогатые, и попотчевать вас особо нечем. Отведайте вот, коли не побрезгуете. – И протянула ему пучок диких трав.
Нищий отказался, облизав кровь на растрескавшихся губах, и произнёс: