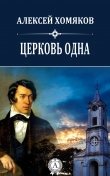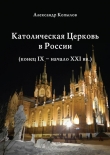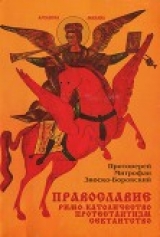
Текст книги "Православие Римо-католичество Протестантизм Сектантство"
Автор книги: Митрофан Зноско-Боровский
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
XVII. Отвержение апостольского понимания Церкви и священства
Отвержение Церковного Предания, соборного опыта Церкви, и утверждение, что человек спасается одною личной верой, что Бог спасает людей без участия с их стороны, логично привело лютеранство к своеобразному, чуждому слову Божию учению о Церкви.
Верно, что римский католицизм воспринял слишком внешне, формально-юридически, слишком по-человечески Церковь, нередко превращая авторитет церковной иерархии в жестокое, деспотическое иго; верно, что юридически понятая церковная власть нередко становилась средостением между душою и Богом. Посему понятен был протест реформаторов во имя «свободы христианина», они были правы, кладя ударение на свободном общении души с Богом. Правильно понятая Церковь, согласно учению Христа и Апостолов имеющая своей целью освящение жизни и руководство своих членов, чад своих к Небесному Царству, никак не может быть средостением, ибо Церковь и есть жизнь в Боге – обязательно в единении с братьями в великом потоке любви, излившемся от Бога и охватывающем всех, Его Кровию искупленных.
Обратив внимание на крайности римско-католического учения о Церкви, на юридизм и механическое понимание таинств и желая их устранить, Лютер сам впал в не меньшую крайность: он отверг не только богоучрежденную иерархию, он отверг не только гнет и насилие, господствовавшие в Римской Церкви, но и отверг Апостольское понимание Церкви.
«Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют Ее» (Мф. XVI, 18) и «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. XXVIII, 20), – говорит Основатель Церкви – Христос. Церковь есть Тело, глава Ее – Христос. «Мы – многие – составляем одно Тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. XII, 5). «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос… И вы – тело Христово, а порознь – члены»(1 Кор. ХII, 12, 27). Бог «все покорил под нозе Его, и поставил Его (Христа) выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. I, 22, 23). «Глава Христос, из которого все Тело, составляемое и совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. IV, 15, 16). «Христос Глава Церкви, и Он же Спаситель Тела… мы члены тела Его, от плоти Его и костей Его» (Еф. V, 23, 30). «Никто не обольщает вас самовольным смиренномудрием… вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно, надмеваясь плотским своим умом и не держась Главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим» (Кол. II, 18, 19). Так учит о Церкви Сам Христос, так учат и самовидцы Христовы, Апостолы.
Иначе учит Лютер. Мы понимаем Церковь, говорит Лютер, в двух смыслах: как видимое общество и как невидимое общение. Видимое общество, или видимая Церковь, к которой принадлежат все крещеные, в том числе и неправедные и неверующие, есть не больше как церковная масса, самое бытие ее – дело случая. Истинная Церковь «есть духовное общество, соединяющее воедино своих членов единством надежды и любви, а потому имеющее в числе своих членов одних только верующих или оправданных. Она существует всюду, где чисто проповедуется Евангелие и правильно совершаются таинства». Но так как для спасения необходима только одна вера, а таинства лишь возбуждают и поддерживают ее, то истинная Церковь существует там, «где только веруют в Евангелие, исповедуют Христа и имеют Святого Духа» (Апологетика Аугсбургского Исповедания); поскольку же вводящая в Церковь оправдывающая-спасающая вера невидима и известна только одному Сердцеведцу, истинная Церковь невидима, сверхчувственна, и она– только она является святой и непогрешимой, ибо управляется непосредственно духом благодати, который животворит ее собою и очищает от всякой скверны. Эта невидимая истинная Церковь заключается в видимой, как душа в теле… Лютер рассматривает видимую Церковь как символ, как представительницу истинной невидимой Церкви, и видимая Церковь имеет для него значение лишь как педагогически необходимое учреждение. Подчеркивая невидимость Церкви, Лютер постепенно лишает земную Церковь элемента потусторонности и святости, и, в связи с этим, протестантизм решительно отвергает одну за другой основоположные и традиционные стороны церковной жизни и, прежде всего, объявляется ненужной иерархия с апостольским преемством – этот основной стержень жизни Христовой – Апостольской Церкви.
Истинная Церковь там, где неповрежденно сохраняется Слово Божие и правильно преподаются таинства, говорит Лютер. Но где у него критерий неповрежденности, чистоты Слова Божия и правильного совершения таинств? Ведь Лютер отверг опыт Церкви, отверг Предания и Соборный Церковный разум, заменив их своим произвольным пониманием, и тем сам выпал из Церкви, из потока Ее благодатной жизни. А делением Церкви на видимую – как массу, лишь внешними средствами объединяющую своих членов, и истинную – невидимую, сверхчувственную, состав которой ведом одному только Богу, Лютер разрушил конкретное понятие о Церкви, преподанное нам Самим Христом и Его Апостолами. В самом деле: видимая Церковь – не настоящая Церковь, она лишь символ, внешняя оболочка истинной Церкви; а истинная Церковь – невидима, состав ее неизвестен, неизвестно и кто участвует в дарах и благодати Святого Духа – она явление чисто духовное, неосязуемое… Где же Церковь – о которой сказал Христос: «Я создал… и врата ада не одолеют Ее»?. Этой Церкви у протестантов НЕТ. Спаситель, Сын Божий, не пришел на землю невидимым образом, не благоволил невидимо сойти в сердце каждого человека, но пришел к нам, на землю, видимым образом, воплотившись и вочеловечившись, ПРИШЕЛ как Богочеловек, и Им созданная Церковь является выражением этой основной истины Христианства – Истины воплощения Сына Божия. Церковь есть живой Богочеловеческий организм; Церковь в одно и то же время видима и невидима. Видима потому, что она зримым образом основана Христом, видимо преподает людям Его божественное учение, видимым образом совершает Христом и Апостолами преподанные таинства; невидима же Церковь потому, что невидимо управляется невидимым Главою-Христом, освящается и оживотворяется невидимым Духом благодати, в ее состав входят и те, кто уже отошел на небо и потому невидимы на земле, и те, кто на земле «во Христа крестившись, во Христа облекаются», через участие в подвиге Христовом силою Божией освящаются во Христе Иисусе, т. е. праведники, одному Богу ведомые.
Не имеет основания и утверждение лютеран, что истинная Церковь состоит только из оправданных, т. е. святых. Когда Господа укоряли за то, что Он общается с грешниками, Спаситель ответил, что Он пришел на землю спасти погибающих и поэтому призывает в Свое благодатное Царство, в Церковь, грешников – праведники не нуждаются в призыве. Поэтому и задача Церкви состоит не только в том, чтобы учить людей вере и доброй деятельности, но и в том, чтобы вести их к спасению – «теперь живу не я, а живет во мне Христос», «кто во Христе, тот новая тварь».
Духовное священство, говорит Лютер, есть принадлежность всех христиан. Все мы священники, т. е. все мы дети Христа, Высшего Священника. Мы не нуждаемся поэтому ни в каком другом священнике, кроме Христа, так как каждый из нас получил назначение от Самого Бога… «все мы через крещение делаемся священниками»… Всякий в Церкви может проповедовать Слово Божие и совершать таинства. Если же в видимом обществе верующих существуют пасторы и суперинтенданты, то они существуют ради порядка. Пасторы избираются обществом из людей, способных учить всех членов общины и совершать таинства, и возложение на них рук старейшин (ординация) не является посвящением, а лишь свидетельством их избрания на пасторскую должность.
Изложенный взгляд лютеран на священство вытекает из их утверждения, что ни Иисус Христос, ни Апостолы не дали никакого определенного устройства Церкви. Так ли это? Нет. В течение сорока дней по Своем воскресении Господь беседовал с учениками «о Царствии Божием» (Деян. I, 3), т. е. об устройстве Церкви, общества верующих; затем – не всему обществу верующих, а только одним Апостолам предоставил или дал Господь право – а) совершать таинства: «Шедше научите все народы, КРЕСТЯЩЕ их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. XXVIII, 19, 20); «Сие ТВОРИТЕ в Мое воспоминание» (о таинстве Евхаристии, Лк. XXII, 19); б) учить людей вере: «Шедше научите все народы, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. ХХVIII, 19,20); в) руководить людей ко спасению: «Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы» (Ин. XX, 21). Да и сами Апостолы свидетельствуют о том, что не общество верующих, но Сам Господь призвал их на дело служения Ему: «Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом» (Гал. I, 1); что не общество верующих, но они приняли от Христа долг проповеди Слова Божия: «…двенадцать Апостолов… сказали: не хорошо нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах» (Деян. VI, 2), «если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую» (I Кор. IX, 16); что не общество верующих, а они, Апостолы, являются совершителями таинств: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (I Кор. IV, 1); что они уполномочены Самим Спасителем давать повеления Церквам: «Все же от Бога, Иисусом Христом… давшего нам служение примирения» (П Кор. V, 18), «Для того я пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию» (II Кор. XIII, 10), «Просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали» (I Сол. IV, 1).
Апостолы сохранили и преемственно передали другим тот порядок и строй жизни Церкви, какой был установлен Самим Господом. Но Господом им порученное Апостолы передали не обществу верующих и не по воле общества верующих. Так, когда Апостолы Павел и Варнава основали Церкви в Листре, Иконии и Антиохии Писидийской, они не предоставили этим общинам как-то устраиваться, но сами рукоположили «пресвитеры на вся церкви» (Деян. XIV, 23). Покидая Ефес и Крит, Апостол Павел сам поставляет им во епископы Тимофея и Тита (I Тим. I, 3; Тит. I, 5) и им, а не обществу верующих ефесян и критян поручает возводить других на различные степени священства: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах» (I Тим. IV, 22) и «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит. I, 5). «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых… пасите стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно» (I Пет. V, 1, 2). Не в силу крещения, как учит Лютер, и не по избранию и полномочию от общества верующих, а по преемству от Святых Апостолов, силою Духа Святого получали пастыри силу и право учить, священнодействовать и управлять – пасти стадо Христовых овец.
Протестанты пытаются обосновать свое учение о священстве и отвергнуть церковную иерархию ссылкой на Исх. XXIV, 5, 6; на слова Апостола Петра: «Вы род избранный, царское священство, язык свят… устрояйте из себя священство, чтобы приносить духовные жертвы» (I Пет. II, 9,5) и на слова Апостола Иоанна: Христос «сотворил нас цари и иереи Богу и Отцу Своему» (Апок. 1,6; XX, 6). Однако цитированные места, хотя и говорят об усыновлении верных Богу Духом Святым и о праве непосредственно обращаться к Нему со своими молитвами, как бы за себя священнодействовать, но не имеют того смысла, который хотят им придать протестанты. Приведенные слова Ветхого и Нового Завета говорят о том, что избранные Божии люди (евреи – в Ветхом Завете, и христиане – в Новом) должны быть народом особенным среди других – не верующих и Христа не принявших народов, – должны быть священным достоянием Божиим, закваской в мире для его преображения. И это учение вовсе не исключает необходимости существования в Церкви иерархии церковной, духовных служителей для совершения Дела Божия, и такие служители и были поставлены и в Ветхом, и в Новом Заветах тотчас при установлении Ветхого и Нового Заветов.

XVIII. Учение о таинствах и отвержение живой связи между Церковью земной и небесной
Церковь призвана к освящению жизни и совершает его через проповедь Слова Божия, возвещая о победе Воплотившегося над смертью, и через таинства как средства, данные Богом для очищения и освящения жизни.
Своеобразное учение лютеран о Церкви как о невидимом обществе святых, вытекающее из их основного догмата об оправдании человека верою, неизбежно повлекло изменение взгляда на таинства. Лютеране смотрят на таинства лишь как на знаки общения человека с Богом, напоминающие ему о его спасении, напоминающие о раз навсегда Христом совершенном его оправдании. Так как уверенность человека в своем спасении без внешних напоминаний естественно слабеет, Христос дал верующим таинства как символические действия, чтобы оживлять в них ослабевающую уверенность и радовать мыслью об искуплении и прощении грехов, о божественной к ним милости.
Стало быть, таинства имеют лишь символическое значение, и вся их сила заключается в личной уверенности принимающего таинство, что он оправдан; для укрепления этой уверенности оно и дано.
Это учение протестантов не согласуется даже с их догматом об оправдании верою. Действительно, если человек спасается одной лишь верой, которой научает его непосредственно Сам Бог, то ясно, что всякое внешнее посредство, вроде символических знаков, возбуждающих или усиливающих эту веру, совершенно излишне. Во-вторых, их учение о таинствах не чуждо и внутреннего логического противоречия, а именно: если таинства являются лишь знаками, возбуждающими в человеке веру, подающую ему оправдывающую благодать, то сами по себе таинства, очевидно, ничто? А между тем они, хотя и не сами по себе, все же приносят благодать, значит, они не только символы, не только знаки, но и орудия благодати. И, в-третьих, учение протестантов о таинствах противоречит Слову Божию, которое утверждает, что таинства – не символы, служащие для возбуждения веры, «орудия, которые необходимо действуют благодатию на приступающих к ним» («Послание Восточных патриархов»). Таинства не могут непосредственно возбуждать веру в Искупителя и Его великое Дело, они предполагают веру во Христа у приступающего к таинствам и даются только по этой вере.
А как свидетельствует Слово Божие о таинствах? «Аще кто не родится водою и Духом, не может внити в Царствие Божие» (Ин. III, 5) – говорится о таинстве крещения; о таинстве миропомазания: «Тогда Апостоли возложиша руци на ня (на самарян) и прияша Духа Святаго» (Деян. VIII, 17); о таинстве причащения: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день» (Ин. VI, 54); о таинстве священства: «Не неради о своем даровании, живущем в тебе, еже дано тебе бысть пророчеством с возложением рук священства» (I Тим. IV, 14; П Тим. I, 6). Во всех цитированных словах Священного Писания очевидна мысль, что вода в таинстве крещения при наитии Святого Духа возрождает человека, очищает его от грехов; что возложение рук или миропомазание сообщают верующим благодать Святого Духа, укрепляющего человека для доброй деятельности; что самое Тело и Кровь Христовы дают христианам жизнь вечную; что возложением рук в таинстве священства сообщается рукоположенному особый дар благодати.
Оставив у себя только два таинства – крещение и причащение – потому что они ясно заповеданы Спасителем, лютеране предлагают о них совершенно чуждое, своеобразное учение. Так, вопреки православному учению, что таинство крещения дает верующему совершенное очищение от всех грехов, лютеране говорят, что крещение служит лишь символом, внешним знаком прощения грехов; через крещение, говорят лютеране, только изменяется отношение человека к Богу: из отверженного человек объявляется сыном Божиим, имеющим надежду на вечную жизнь, и участником в дарах благодати, которые подаются ему не через само таинство, а вне внешних условий, невидимым образом; природа человека в таинстве крещения нимало не изменяется.
Семена крайней, и потому ложной, духовности обнаруживаем мы в протестантизме, в его фактическом игнорировании Церкви, в его учениях о таинствах, в его утрате понимания величия и центральности в жизни Церкви таинства Евхаристии, в его отрицании апостольского рукоположения отрицании таинства священства, в его все меньшем понимании космической стороны христианского благочестия: победы Господа над смертью, сокрушения смерти и преображения твари в Воплотившемся, Распятом и Воскресшем Сыне Божием.
У Лютера, в начале его проповеди, таинство Евхаристии еще играло существенную роль. Со всей горячностью верующего сердца он преклонялся в таинстве Евхаристии перед реальным, подлинным в полном смысле этого слова, присутствием истинного Тела и истинной Крови Христа. Таинство Евхаристии было для Лютера величайшей объективной святыней, внушающей страх и трепет, и он связывал это таинство с тайной воплощения Сына Божия. Однако элементы субъективизации и этого таинства вкрались в мышление Лютера уже в ранние годы его проповеди, во-первых, в том, что Тело и Кровь Христовы – по его учению – присутствуют в Дарах только в момент причастия, главным образом, как Богом даваемое благодатное подтверждение нашей уверенности, что мы оправданы и спасены. Этим Лютер раскрыл дверь для субъективного восприятия этого таинства в позднейшем лютеранстве, сказавшемся в улетучивании сознания безмерной святыни Таинства реального, объективного, независимо от наших настроений и веры, действительного присутствия в нем Тела и Крови Господа. Эта субъективизация таинства Евхаристии в лютеранстве и в протестантстве вообще стоит в связи с общим процессом потери связи с Церковью, с Ее традицией, со всем соборным сознанием Церкви, приведшей к утрате иерархии с ее апостольским рукоположением. Через отрицание таинства священства Церковь в протестантстве становилась все более расплывчатой и «невидимой», становилась земным утилитарно-практически обоснованным обществом верующих, надстройкой над зданием истинной невидимой Церкви. В субъективизме рожденное упразднение Церкви как живого организма – Тела Христова – привело протестантов к отрицанию общения между живущими на земле и отшедишми к Богу братьями нашими, т. е. к отрицанию молитвы Церкви за усопших и ходатайства за нас святых. Обоснование этого отрицания часто рационалистическое, и вышло оно из следующих предпосылок: судеб Божиих не изменишь, и далее: что нам молиться и ходатайствовать друг за друга, когда Христос уже всецело принес Богу удовлетворение за всех нас; иначе говоря: отрицается то, что было с самого начала жизни Церкви неотъемлемой частью ее молитвенного опыта.
Учение о спасении через веру, только через веру, привело протестантство к проповеди моральной пассивности: «что человек вполне пассивно относится к своему обращению, что он совсем ничего не делает, а лишь переносит то, что делает с ним Бог» (из «Формулы Согласия»). «Христианин пассивен перед Богом, пассивен перед людьми. С одной стороны, он пассивно получает, с другой – он пассивно страдает. От Бога он получает Его благодеяния, от людей – их злодеяния», – так звучит из уст самого Лютера проповедь квиетизма, пассивности, приведшая к легкому примирению с духом века сего, каковое нашло свое отражение в школьном лютеранстве. В нем мы обнаруживаем капитуляцию перед злом и несовершенством мира сего. Проповедь пассивности привела протестантство к разделению нравственности на две морали: внутреннюю – евангельскую, и внешнюю – состоящую всецело из покорности перед существующим миропорядком, состоящую в пассивном принятии его, как от Бога установленного; послушание перед «богоустановленной» властью, даже в делах, идущих против совести христианской, снимает ответственность с конкретного лица. Протестантизм подчеркивает значение свободы христианской, но ей оставлено место лишь для внутреннего употребления, во внешней же линии своего поведения протестант отдается всецело в зависимость мироправителям; Церковь, ставшая департаментом Государства, ставшая подчиненной частью этого мира, не является и не может быть для него опорой и достаточным прибежищем.
Семена субъективизма привели протестантизм как христианское учение к самоубийству. Он начал свое существование с подчеркивания безмерного величия в мир вошедшей стихии Божественной жизни, в которой – и только в ней одной – находит успокоение душа человеческая; в воплотившемся Сыне Божием открывшаяся Божия Реальность обращается непосредственно, без средостения, к душе человека, и душа человека, покоренная всепревозмогающей благодатью Божией, выходит на широкий простор Божественной действительности; восторжествовал однобокий, рационалистический и субъективистический, спиритуализм, перенесший ценность на свои личные переживания. А раз дело спасения в моих личных благочестивых настроениях, то к чему мне превозмогающая сила Божия? Спасение совершено, оно вменяется и мне. Нужны ли чудеса, да еще высшее чудо – Воскресение? В начале 40-х годов нашего столетия протестантские богословы изъяли из учения Лютера учение о Сыне Божием и о нашем спасении только в Сыне Божием и через Сына Божия, ничего не оставив от учения Лютера. Характерно и то, что в начале XX века 80 % пасторов города Гамбурга отрицали Божество Иисуса Христа. Явление естественное: притупление опыта Церкви и постепенное ослабление восприятия реальности Духа Божия, живущего в Церкви (Духа Христова, как называет Его Апостол Павел) привело к отказу от Христа как Сына Божия, неприемлемого для мирского рассудка протестанта. Протестантизм сам произнес суд над собой, тот суд, который предвещен был Апостолом Иоанном: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь; неверующий в Сына Божия не имеет жизни», и еще: «Имеющий Сына имеет и Отца. Не имеющий Сына не имеет Отца».
Справедливость требует отметить, что в лютеранстве всегда подымались, и ныне слышны, голоса против «нежизненно заостренных и полемически преувеличенных теорий», против рокового духа субъективизма. В еще недавно стыдившемся в Символе Веры (Апостольском) слов: «верую в Воскресение плоти» и, на уроках катехизиса, иносказательно толковавшем эти слова лишь в смысле бессмертия души, – пробуждается в лютеранстве стремление к веками потерянному сокровищу, к учению о Церкви Апостола Павла. «Мы задыхаемся без Церкви», «у нас, собственно, нет Церкви», «но она должна быть осуществлена», – говорят и пишут некоторые протестантские богословы о Церкви как о живом растущем организме, как о Теле Христовом, объединяющем земное и небесное, и говорят о необходимости восстановления иерархии с апостольским преемством как необходимого стержня в жизни Церкви. Этим объясняется пробуждение в некоторых протестантских кругах интереса к Православной Церкви с ее непрестанным созерцанием Тайны Воплощения и Славы Воскресения Христова. Раздаются голоса и против «двойной морали», против «отождествления того, что по попустительству Божию происходит вовне, с тем, что должно быть», раздаются голоса «против отказа от активной борьбы со злом».