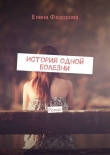Текст книги "Когда у нас зима"
Автор книги: Мирча Дьякону
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
С ореха дохнул ветер и понес светляков к лесу. Я скучал по Алунице Кристеску, стриженной под мячик, я бы побежал с ней за руку, как под Новый год, куда глаза глядят: до станции и обратно. Папа Алуницы Кристеску, когда ссорится с ее мамой, говорит, что уйдет куда глаза глядят. Доходит до станции и возвращается и велит маме Алуницы Кристеску постричь его, потому что он уходит в монахи, а пока она его стрижет, они мирятся, и он опять остается лесником.
Мы сели ужинать, но дядя Ион и теперь не читал газеты, а мама разбила тарелку и заплакала. Молока стало совсем мало, еле хватило каждому по кружке. Я и Санду сделали вид, что нам некогда сидеть за столом, и пошли в сарай, поделиться с Урсуликой. Потом сказали маме «спасибо» и забрались в кровать на четыре персоны. Я хотел открыть моему брату, что папу арестовали, но Гуджюман два раза пролаял, и в дом вошел папа Алуницы Кристеску. Он явился прямо из лесу и сказал, что кое-что знает, но пока еще не наверняка. Взрослые выпили цуйки, и мне стало не надо ничего говорить моему брату, потому что он все услышал сам: будто бы адвокат был уверен, что добьется оправдания, но когда стали слушать свидетелей, дядю Аристику и дядю Джиджи, все пошло прахом. Дядя Джиджи заявил, что папа три дня пропадал где-то с ружьем и где же еще, как не в горах у бандитов. Прокурор кричал на маму, что она соучастница и прекрасно знает, что папа отнес ружье легионерам [6]6
Легионеры – члены румынской фашистской организации.
[Закрыть], что их детей выгонят из школы и пустят по миру, если она не признается. Напрасно дедушка и дядя Ион твердили, что папа не вынимал ружье из сундука и что его украли, им не поверили, потому что они не живут с нами все время. Дядя Ион с папой Алуницы Кристеску говорили, что начинать надо было с поисков ружья, но раз уже нашли виноватого, никто себя утруждать не будет. Мама плакала, потому что кто-то в суде сказал ей, что случай безнадежный.
Мой брат бодал головой спинку кровати, чтобы не реветь. Я тоже чуть не заревел, когда услышал, как мама жаловалась, что ей нечем нас кормить, что у коровы больше нет молока и что она ходила на молочную ферму, но Катерина, которая там заведующая, ей не продала, дескать, нечего бандитов поить молоком, а если папа учитель, то пусть сам и достает.
Сегодня мама подоила овец, а что делать завтра – ведь завтра их отберет дядя Аристика. Папа Алуницы Кристеску сказал, что они будут помогать, чем могут, пока не вернется наш папа, и чтобы мы дали ему Гуджюмана, он возьмет его с собой в лес. Выпил еще стаканчик и пошел домой.
Стало тихо, и заиграла труба. Во рту снова была горечь ореховых листьев. Я спрыгнул с кровати осторожно, чтобы меня не цапнули белые подкроватные человечки. Было темно. Дядя Ион лег спать в парадной комнате. Маму я не видел, но она, наверное, сидела за столом и смотрела перед собой. Я спросил ее, вернется ли папа к лету, он ведь обещал сводить нас на ярмарку и купить брюки клеш, но она мне не ответила.
Поздно ночью мой брат взял с меня клятву, что мы не успокоимся, пока не найдем ружье.
Я поклялся, и всю ночь мне снился орех.
На другой день дедушка перебрался к нам, помогать маме. Было воскресенье. Мы покормили Урсулику, а потом тоже стали помогать маме наводить порядок, потому что к обеду мы ждали гостей, то есть дядю Аристику с тетей Ами и дядю Джиджи с тетей Чичи, один явится за овцами, а другой – за шкатулкой, которая осталась от бабушки.
Мой брат сказал, что мы не будем ни надевать матроски, ни выходить их встречать с веселыми лицами, но мама и сама не стала нас заставлять мыть голову хозяйственным мылом, как обычно.
Тут же после первого самолета заглянула Алуница Кристеску и сказала, что ее отец снова ушел куда глаза глядят, то есть на станцию. Мы посидели в сарае и немного подумали про дядю Леона, как каждое воскресенье. Потом мы сняли с Урсулики повязки, причесали его и все вместе пошли в лес. Светило солнце, мы шли гуськом по тропинке, щенок впереди, Алуница Кристеску – замыкающим, и только настроения нам не хватало. Алуница Кристеску говорила, что все мальчики нам завидуют, что у нас отец в тюрьме, и что она и ее подруги готовы связать нам носки к зиме, надо только сказать размер и какого мы хотим цвета.
У моего брата, кажется, был план, потому что он поглядывал по сторонам и время от времени втыкал в землю палку. То-то он и пошел с нами, я еще удивился, вообще на него весна не действует, только в виде майской черешни.
Мы остановились напиться у одной березы с выемкой в стволе, где собирается сок. Я таких выемок наделал много, потому что у нас в лесу нет родников, а я родился в дождь.
Мои березы были все на местах, из почек уже вылезали листья, и начинало пахнуть зеленью. Алуница Кристеску все время отставала полюбоваться, какие они высокие, белые и как пропускают небо. Было тепло. Мне стало так хорошо, что я взял Алуницу Кристеску за руку. Она чему-то смеялась, я бы тоже засмеялся, но мешала дырка во рту – с той ночи, когда зуб зашел за зуб.
Так, за руку с Алуницей Кристеску мы незаметно подошли к Ходае. Санду, который шел впереди с Урсуликой, прошипел нам «тсс», и мы спрятались за кусты. Перед нами был дедушкин сливовый сад, который хочет забрать дядя Аристика, а дальше, под буками, сторожка с печкой, то есть сама Ходая.
Урсулика навострил уши, как будто что-то учуял. Я тоже прислушался, но только в кустах вскрикивал дрозд и Алуница Кристеску спрашивала меня, что мы здесь потеряли. Я не успел ей ответить, что не знаю, потому что Урсулика вырвался и с лаем метнулся к сторожке, а мы – следом, чтобы не оставаться одним. Дверь была открыта и скрипела. По бокам висела паутина, и я подумал, что сюда никто не заходил с тех пор, как родился мой брат. Я-то сам что, я родился не так уж давно.
Урсулика скакнул через порог и исчез в темноте. Мой брат тихонько подошел к двери, но тут же в испуге отпрянул назад: щенок показался на пороге, виляя хвостом. Мой брат сделал вид, что просто споткнулся, махнул нам рукой и вошел внутрь, хромая.
Долго мы не прождали, но когда он вышел, то был похож на папу, то есть нахмуренный. Он сел рядом с нами, на первую травку.
– Кто у нас в семье курит? – спросил он меня.
– Дядя Аристика, дядя Джиджи, дядя...– начала Алуница Кристеску, но Санду ее перебил:
– Хватит.– И пошел к кустам, забывая хромать. Только в березах он добавил: – Начинать надо оттуда. Но никто не должен знать, что мы были в Ходае, ясно?
Мы дошли до Орехов и там, под самым толстым орехом, поклялись молчать. Все важные клятвы надо приносить под орехом, это единственное дерево, которое вбирает слова и держит их в себе.
Дома нас опять ждали беды, и с тех пор, то есть целых шесть месяцев, я каждый день боялся поседеть, потому что от горя седеешь. Дедушка из Малу говорит, что от большой радости тоже можно поседеть, что человек хуже всего переносит слишком хорошее и слишком плохое.
Было начало весны с ласточками и журавлями. Я думал об Алунице Кристеску, хотя она шла рядом. Мне нравится думать о ней, как будто она далеко, и я никогда в жизни ее больше не увижу. Меня потянуло к слезам, и я понял, что это из-за папы, потому что это он далеко и когда-то еще снова хлопнет нашей дверью.
И от всей этой тоски я сказал Алунице Кристеску «до свиданья», первый раз в жизни, обычно я ей говорю: «Ну, иди домой, я есть хочу»,– а она отвечает: «И я тоже». И мы расходимся, каждый при своем голоде. По-моему, она тоже раскисла, потому что дала мне потную фиалку, то есть которую долго держала в кулаке. Но дала украдкой, чтоб не заметил мой брат, он презирает всякие чувства и называет их телячьи нежности.
Мы зашли в сарай проверить счастья, но в дверях замерли, и у меня снова зуб зашел за зуб, потому что на бочке с цуйкой сидело верхом и пело что-то жутко страшное, что потом оказалось прислугой дяди Аристики и называлось Мицей.
Мы долго глядели друг на друга, то есть я на Санду, он на меня, Урсулика на нас, и мы все втроем на то, что мы еще не знали, как зовут. И только когда пролетел десятичасовой самолет, мой брат спросил:
– Ты что здесь делаешь?
То, что сидело на бочке и больше не пело, ответило на птичьем языке, который мы начали учить с того дня:
– Я та туйкой, барин, послатая. А вы кто? У вас нету тля меня жениха на примете? Я из него теловека стелаю. У меня бумага есть на землю, пританое есть, хата есть, апосля, как помрут барин с барыней. Барыня мне таст платья и тережки золотые, только апосля, как помрет... Барыня-то.
Я ничего не понял, хорошо, что я был с братом, он мне объяснил:
– Ты ей понравился.
– Та, та, абы туйку не пил.
– Кто тебе разрешил брать нашу цуйку?
– А барин с барыней.
Зубы у меня как зашли друг за друга, так и остались, и я не мог участвовать в разговоре. Ясно: еще один зуб выпадет сегодня, а жаль, у меня и так осталось всего ничего, и те молочные, а значит, придется сидеть на одном молоке, пока не вырастут другие – зубы для конфет и прочего.
Урсулика, который ворчал на Мицу, вдруг залаял: это вошел дядя Аристика.
– Ой, барин...
Мы сказали: «Целую руку». Но он пришел только посмотреть, перелила ли Мица цуйку из нашей бочки в его.
Мы стояли в дверях, рядышком, как на фотографии, и чего бы я не отдал, господи, чтобы быть в эту минуту папой и стукнуть дядю Аристику по часам. По его новым часам.
Когда он удостоверился, что Мица перелила всю цуйку, он погладил нас по головам и вышел. На самом деле просто оперся о наши головы, чтобы переступить через порог.
Мица хотела еще почирикать с нами по-птичьи, но мы ее бросили, потому что во дворе Гуджюман зарычал на дядю Аристику, и мы надеялись, что он его цапнет. Но дедушка зачем-то держал Гуджюмана. Дядя Аристика наблюдал, как мальчик, не старше Санду, метит наших овец в загоне.
На завалинке, на месте зимних синиц, переговаривались дядя Джиджи, тетя Чичи, тетя Ами и старые тети. Мама нас подозвала, чтобы мы сказали «целую руку» – и угостились пирогом, который привезли тетя Ами и тетя Чичи. Пока они нас целовали, я думал, что они привезли нам пирог, а зато отобрали овец и цуйку. Я думал и про пирог в затмение, когда у нас украли ружье, про пирог, испеченный той же тетей Чичи. И первый раз в жизни я отказался от пирога.
Гуджюман вполголоса облаивал веселье на завалинке, Урсулика ему помогал, в ведро с водой упала пчела и в отчаянии ужалила воду, как врага, который ее схватил и не пускает.
Я слышал, что пчела живет всего две недели и не успевает разобраться, что вода есть вода.
– Мы сделали для его спасения все, милочка, что в человеческих силах,– говорила одна из старых теть.– Деточек жалко, а ты благодари бога, что от него избавилась. Ведь он мог, милочка, привести этих бандитов, своих дружков, в дом, оставить их ночевать, тогда бы и ты была замешана.
Мама молчала и, хотя ей полагалось плакать, смотрела на тетю Ами, как смотрят на червивую сливу.
– Послушай, мы, как сестры твоей матери, да будет земля ей пухом, советуем тебе развестись, мы найдем тебе хорошего человека, священника, доктора, ты не пропадешь.
И пока старая тетя советовала маме развестись, я снова подумал про тети-Чичин пирог, с него, я уверен, и пошли все наши несчастья.
Дедушка тоже был не в своей тарелке, он даже попросил дядю Аристику не забирать пока Ходаю, а то мы не проживем на одну его пенсию – слишком она мала.
Я смотрел на дедушкины узловатые руки, которые всю жизнь били в колокол, а сейчас только колют орехи.
Дядя Аристика говорил, что торопиться некуда, что пока ему хватит цуйки и что он дорого бы дал сейчас посмотреть, как папа в тюрьме кусает локти и как его, бандюгу, бьют, и поделом. Я смотрел на маму, как она не плачет, и мне ужасно захотелось ее поцеловать, хоть это у нас и не принято. Пчела устала жалить воду, я вытащил ее прутиком и посадил на перила крыльца. Она вывернула шею, как будто слушала тетю Чичи, которая говорила, что этого следовало ожидать и что надо благодарить бога, что мы еще дешево отделались.
Было много солнца, оно залезало в глаза, одна доска из забора выпала, и некому было ее прибить, из-за этого у меня зачесались глаза. И чтобы не плакать, потому что мне нельзя плакать, я решил смотреть на пчелу. Но пчелы не было на прежнем месте, я пошел глазами по мокрому следу на перилах и застал ее на воротничке у тети Ами. И как раз когда я подумал, что воротничок вышивала мама, тетя Ами взвизгнула.
Но что меня еще больше обрадовало, это что мама не бросилась натирать укус солью, а дедушка не перестал грызть орехи. Правда, тети и сами знали, где мы что держим, потому что по праздникам мама всегда водила их по дому, чтоб они набивали себе сумки орехами и фасолью.
Тетя Ами всхлипывала, а меня подмывало сказать ей, что все от бога и что мы не должны противиться его воле. Когда у нее распухла шея, она замолчала.
Они поговорили еще о том о сем, то есть о папе с мамой, потом поцеловали нас двенадцать раз, поскольку тетей было шесть, и собрались уходить. Дядя Аристика велел дедушке придержать собак и пошел, руки в боки, в загон для овец. Мне снова захотелось стать папой и стукнуть его по часам. Но я не успел ни того, ни другого, потому что наш баран-четырехлеток, самый сильный из всех, что я знаю, а я знаю пятерых, сбил с ног мальчика, ровесника Санду, а потом кинулся на дядю Аристику. Тот присел на корточки, обычно это помогает, когда присядешь, но сейчас было необычно, и дядя Аристика так и остался, пока его не подняли дядя Джиджи и дедушка. Они вывели его из загона, и он еле ругался: баран боднул его в живот – а живот у него растет прямо от головы. Когда он немного перевел дух, то потянулся за своими часами и – ура! – вынул только две кривые стрелки и кучу осколков! Подъехала телега, куда погрузили цуйку и Мицу, она пела по-птичьи, но совсем дурным голосом.
На прощание мама им ничего не сказала, она смотрела на наших овец, которые стали теперь не наши. Сегодня вечером молока больше не будет, и у меня почти не осталось зубов. Они наконец расцепились, и я почувствовал, что один шатается. Дедушка закрыл калитку, собаки еще ворчали вслед родственникам, мама все глядела перед собой, как на червивую сливу, и не двигалась с завалинки, а я думал про Алуницу Кристеску, будто она далеко и я увижу ее только за минуту до смерти. До чьей, моей или ее, я не успел додумать, потому что пролетел вечерний самолет в теплые края, и я попросил моего брата вырвать мне зуб.
Он рвет лучше всех, потому что без жалости. Дернет за ниточку – и дело с концом. Он дернул. Теперь у меня не осталось ни одного переднего зуба, но мне и не надо, все равно молока нет.
Я плевался кровью с полчаса, вышла, наверное, целая кружка, но мне было хорошо, особенно оттого, что мама бросила плакать.
Налетел дождичек и принес Алуницу Кристеску с вестью, совершенно невероятной, что в Орехах сидит журавль, он выпал из журавлиного клина по дороге из теплых стран, а она увидела. Мы побежали изо всех сил, но я отстал, потому что потерял много крови, и всех сил набралось немного. Высоко на орехе сидел журавль, такой белый и красивый, что я до сих пор не могу поверить своим глазам. Мы остановились поодаль, чтобы его не спугнуть, потому что он совсем не был похож на раненого. Он вовсе не сидел, а стоял на длинных ногах, не шевелясь, только раз дернул головой и снова застыл.
Мы тоже застыли, прижавшись друг к другу, дышали вместе и очень боялись, как бы не улетел единственный журавль, которого мы видели в нашей жизни. Правда, у нас в школе есть аист, но он весь пыльный и набит соломой. Он стоит в учительской, и директор вешает на его клюв пальто – свое или инспекторские, когда приезжает комиссия.
Так мы стояли допоздна. Журавль иногда дергался туда-сюда, будто чего-то ждал, и я не представлял, как это он выпал из клина именно в нашу деревню, ведь про нее даже не скажешь, что она самая красивая в округе.
Вдруг грохнуло, и журавль свалился на землю. Только тут мы заметили, что смотрим не одни, а чуть ли не всей школой, и это наш директор, который к тому же охотник, застрелил журавля.
Мы подошли близко и стали его гладить. Он был теплый и мягкий, красный глаз остался открытым и смотрел в небо, где растаял его клин, а рядом краснелась кровавая точка. Нам было грустно, и мы даже не сказали директору: «Добрый вечер».
Мама встретила нас известием, что собаки снова подрались и она еле разлила их водой. Урсулика отсиживался в сарае, а Гуджюман с рыком ходил под дверью. Мы очень расстроились, потому что мы любим их обоих одинаково. Гуджюман полизал мне руку, и, когда я стал его гладить, я почувствовал, какая у него морщинистая, старая шкура. Тем временем мой брат сделал перевязку Урсулике, то есть завернул его в старые папины штаны.
Мамины герани к вечеру зажглись и освещали нашу завалинку, а вернее, развалинку, она развалится, если папа не вернется поскорее. Она и забор очень чувствуют, что его нет. Примерно раз в пять дней из забора выпадает по доске, и чужие собаки проходят через наш двор, как через проходной. Теперь и калитка не нужна, мы и сами ходим так. Мне бы радоваться, а я чуть не плачу над каждой выпавшей доской. И чтобы не плакать, повторяю таблицу умножения, она у меня уже от зубов отскакивает, как «Отче наш», хотя «Отче наш» я совсем не знаю, а зубов у меня почти нет.
Мы пошли к маме и уверили ее, что нам не хочется есть. Мы решили не хотеть есть, пока не отелится наша старая корова, то есть до зимы, всего несколько месяцев. Я бы сам в жизни не додумался, это мой брат.
Мне было грустно и хотелось в сарай, почитать прощальные письма и поглядеть на марьян, которые мне нравятся больше, чем дидины, потому что у них больше зубов.
Герань на завалинке напомнила мне, что скоро мы с Алуницей Кристеску пойдем собирать цветы. Нам надо собрать сотен пять цветов, из них три сотни диких гвоздик, а остальное – зверобой.
Дедушка читал басни Эзопа, и, когда мы все собрались дома, вокруг лампы, он снял очки. Два года назад они сломались у него в первый раз, и с тех пор их все время приходится чинить. Дедушка говорит, что он потратил две годовых пенсии на починку очков: во-первых, дорога в город, потом сама починка, потом обеды и ужины в ресторане, потому что обратный поезд уходил только по вечерам, а пешком ему трудно, он старый, несколько раз он опаздывал на этот поезд и ему приходилось ночевать в гостинице, и наконец он разозлился и решил чинить очки сам – перевязывать их бечевкой. С тех пор он чувствует себя хорошо, потому что других болезней, кроме очков, у него в жизни не было.
Это я к тому, что он снял очки, чтобы рассказать нам про соседа, про того самого, чьей жене я подложил ученого в колодец. Дедушка встретил его, очень веселого, тот нес из магазина бутылку, потому что цуйку в нынешнем году еще не успел сделать. Дедушка спросил, что у него за радость, а тот ответил, что избавился от заразы.
– От какой? – удивился дедушка.
– Как от какой, она же на курорт отбыла, моя зараза, я еще поросенка продал, вы разве не знаете?
Конечно, дедушка знал, ведь это его видела соседова жена сначала в колодце, а потом, живехонького, в милиции.
– Ох, избавился, она нашла там себе кого-то, не иначе как самого курортного директора, в габардиновом пальто и при машине. Гляньте, что она мне пишет:
«Дорогой муженек, я здесь нашла хорошего человека, который мне сделал предложение. Как ты поживаешь? Надеюсь, в добром здравии? Я тоже, чего и тебе желаю».
Сосед пошел своей дорогой, распевая ту же песню, что на затмении, в которой прилетала кукушка, а он под конец умирал. Дедушка снова надел очки, мы посмеялись и пошли спать. Но заснули мы поздно, потому что у нас немного подвело животы от голода.
Утром, до первого самолета, мы пошли смотреть, как из журавля будут делать чучело. Очень сильно пахло веществом, которое заменяет внутренние органы и консервирует все остальное. Ребята пропустили нас вперед, потому что с тех пор, как папа в тюрьме, нас все уважают. Есть даже один, Джи́ка, он здоровее, чем Санду, и еще глупее, чем я, он каждый вечер молится, чтобы его отца тоже посадили, ему тоже хочется уважения. Вообще-то тут есть преимущества: мне всё уступают дешевле. Например, обычно пара коньков продается за три марьяны и одну дидину, но мне уступили три пары за пять марьян, то есть даже дешевле, чем сыну милиционера, которого, к слову сказать, я еще подстерегу в укромном месте, и пусть он мне ответит, сколько будет трижды три.
Что делать с этими коньками, я не знаю,– так же, как и с прочим купленным добром. Я не знаю, на что мне десять ложек, картинка с королем, выезжающим на охоту, заячий хвост и еще одни неходящие часы. Все-таки мне приятно, что я купил их по дешевке.
Мы не смогли долго выдержать запах этого вещества для внутренностей и ушли. Тем более что сегодняшний журавль совсем не похож на вчерашнего, у него даже глаза от белки: у директора, который его набивал соломой, не нашлось журавлиных глаз, вот он и воткнул беличьи, его-то больше всего интересует клюв.
Все же мы были довольны, что из-за этого запаха нам почти весь день не хотелось есть. После уроков мы с дедушкой пошли навестить маму, она теперь работает на поле. На поле мне очень нравится, потому что там есть навес и под ним – экипаж и красивые сани, оставшиеся от прошлого режима. Я люблю в них играть с моим братом. Я – кучер, он – барин. Наоборот никогда не бывает.
По пути все смотрели нам вслед, и мы знали, что это из-за папы. Я иногда даже слышу: «Бедное дитё, оно-то чем виновато?» Тогда я печально опускаю голову, хотя мне нисколько не печально, но раз людям нравится меня жалеть, не буду же я их разочаровывать. Дедушка зашел к Катерине на молочную ферму, а когда вышел, то даже не отвечал никому на «здравствуйте». Наверное, Катерина зачислила его во враги народа, хотя он и пенсионер.
Я расстроился. И вообще мне надоели жалостливые взгляды. Я живу очень даже хорошо, и как-никак у меня единственного в деревне есть пианино. Скорее бы папа вернулся, мы бы с ним прошлись по улице, всем назло.
Маму мы нашли усталой, она еле смогла нам улыбнуться. Там все работницы были усталые, но все смеялись над мамой, что она учителева жена, а докатилась до мотыги. Я залез в сани. Мама говорила, что не понимает, чего от нее хотят, почему ей даже не дают молока, она ведь работает наравне со всеми и никого не убила. Мне ужасно грустно.
Роса выпала раньше обычного, и светлячки так и норовили навешаться мне на волосы. Но они не могли меня развеселить, и мой брат к тому же ушел домой, ему надо доделывать кораблик. Я остался сидеть в санях, и как жалко, что я не знаю ни одного грустного стихотворения, чтобы мороз по коже. Я запряг в сани много-много белых коней и погнал их на луну. Мне хотелось мороза – и стала зима. Что-то мелькало под копытами, и я не сразу понял, что это волчьи пасти, и за моей спиной щелкали зубами все зимние, все голодные волки. Как вернуться, я не знал, потому что земля превратилась в одно белое поле, и по нему прыгали тени, и стояла такая ночь, что раньше умрешь, чем она кончится. Лошади от страха стали друг за дружкой превращаться в кузнечиков и запрыгивать ко мне в рот, между последними молочными зубами, потом волки меня все-таки догнали и съели. Тогда я вылез из саней, отменил холод и поволок сани за собой к дому. Поле сбилось под ногами, как простыня. Луна созрела и целилась мне в голову. Я петлял из стороны в сторону, чтобы она промахнулась, а тут еще от кузнечиков жгло в животе, и я не мог ни о чем думать – только зачем луна за мной гонится. Мне было все хуже и хуже, пока я не встретил черта с трубой и он не сказал мне, что это все чепуха и лучше мне слушать его, он-то меня знает, слава богу, с пеленок. Он заиграл, как никогда, я выплюнул по одному всех кузнечиков, увидел, что уже утро, и вернулся на санях под навес. Мне больше не было грустно.
Когда я проснулся, все тело ныло, я лежал уже не в санях от прошлого режима, а в своей кровати на четыре персоны, и мама сидела рядом. Она не спала всю ночь, искала меня вместе с теми усталыми работницами, и если бы не Гуджюман, они бы меня не нашли. Я сказал маме:
– Еще бы, я же был далеко!
И она засмеялась.
Нет, мне больше не грустно.
Прошел еще месяц, я нарвал много цветов, а папа так и не вернулся. Всего я нарвал девятьсот диких гвоздик и шестьсот зверобоев. Отнес в сарай, на чердак, и сложил на трухлявом сундуке, где часы и коньки. Там я принимаю Алуницу Кристеску. Цветы пахнут, мы заводим будильник на звон и читаем прощальные письма. А что будильник не звонит, ну и пусть.
Вообще я не такой уж несчастный. Из забора выпало пять досок, но я уже начал привыкать, и мне больше не хочется плакать. Хотя нет, хочется, когда мама посылает меня за хлебом и меня все пропускают вперед, будзю бы я тороплюсь. Один раз там был милиционер, его тоже пропустили. Он смотрел на меня в упор, и я уже хотел ему во всем признаться, но тут он меня спросил, сколько будет трижды три. Тогда я разозлился и отбарабанил ему таблицу умножения от начала до конца, при всем честном народе, и все смеялись и были за меня.
Мой брат все время что-то чертит на листочках и все грозится сообщить о своих открытиях нам с Алуницей Кристеску. Я дрессирую собак, а они никак не хотят дружить, только повернешься к ним спиной – цапаются. Я учу их прижиматься брюхом к земле и ползти.
Никто из родственников больше к нам не приезжал, да и зачем, у нас ведь не осталось ни орехов, ни фасоли. Зато через месяц приедет на каникулы дядя Ион, нам уже не терпится пойти с ним на речку и плавать руками по дну, потому что у нас речка по колено.
Весна уже в разгаре, бабочки садятся мне на ладошки, когда я лежу в траве, и каждый вечер я прихожу из лесу пьяный. Моя береза сохнет в схватке с молодым буком, и мне ее жалко. С запада налетают короткие ливни, я еле успеваю спрятаться под дерево, а вообще я целый день лежу в траве, на спине, лежу, пока букашки ко мне не привыкнут и не начнут ползать по лицу, по носу – некоторые зеленые, некоторые голубые, такие же красивые, как цветы. Я так тороплюсь належаться, потому что они все умрут под косой, сразу как созреют черешни. У меня вся надежда на краденые черешни: наше дерево такое высокое, что, пока долезешь доверху, птицы уже разберут по черешенке и разнесут по белу свету.
Я люблю смотреть на цветы вблизи, смотрю, пока не начинаю их понимать, то есть почему один так раскрашен, а другой – по-другому, почему одни растут целой компанией, а другие поодиночке, и какие уже опылены пчелами, а какие нет.
Мой брат говорит, что я должен был родиться девочкой и что он ничуть бы не удивился – так я люблю всякие телячьи нежности. Поэтому я его с собой не зову, тем более что уже лето, скоро кончится школа и я занят: ем землянику, чтобы губы стали красные к школьному балу.
Алуницу Кристеску мама снова остригла. Она родилась в полнолуние и должна быть всегда как луна. Она тоже ест землянику и выглядит ничего.
В день бала, хотя это не совсем бал, потому что не ночью, мы пошли в лес с Урсуликой. Я был довольно счастливый, хотя всего выпало уже пятнадцать досок с тех пор, как нет папы. Но все-таки занятия кончились, и учитель объявил, что я получаю первую премию. Потому я и пошел в лес – нарвать букет для церемонии: себе, а заодно и Алунице Кристеску, она получает вторую.
Я все время смотрел под ноги и даже не заметил, что Урсулика куда-то подевался. Вдруг он бешено залаял, и тут же раздался выстрел. У меня цветы выпали из рук, я побежал изо всех сил на выстрел, звал Урсулику и наконец нашел его у самой Ходаи. Он вертелся на одном месте и рычал. Мне было страшно, но зуб уже не попадал за зуб, слишком мало их осталось, поэтому я зашел в сторожку. В печке была зола, но остывшая, на полу валялись банка из-под консервов и огарок свечи. Банку я прихватил с собой. Урсулика был цел и невредим, он положил лапы мне на плечи и стал выше меня. Я почесал его по белому нагруднику, и мы пошли домой. Но в дверях сторожки я оставил веточку, чтобы знать, войдет ли кто-нибудь туда.
В березах мы не задержались, было уже поздно, и потом я подумал, что тот, кто стрелял в Урсулику, может выстрелить и в меня. Я все рассказал моему брату и коказал ему консервную банку. Он пожал мне руку. Солнце уже сильно припекало, и я шел домой по тени, чтобы не осыпались цветы и не пересохли губы. Алуница Кристеску ждала меня у калитки в том платье, в каком мы ходили колядовать, то есть она, я ходил в матроске, платье было теплое, не по погоде, но зато лучшее. Мама вдела ей в уши новые петельки из голубой нитки, и цветы я ей подарил как раз голубые. Это вышло так красиво, что я пригласил ее после бала в сарай на угощение, на первые яблоки. Она сказала мне «спасибо», что бывает только по праздникам. Правда, в это время наши соседки, мать с дочкой, так ругались, что я чуть не сгорел от стыда.
Праздновали очень красиво. Пели хором, дирижировал наш учитель, хоть и без одного пальца: он говорит, что оставил его на реке Дон. Пригласили всех родителей. Но мама не смогла прийти, она сидела дома и зарабатывала нам на хлеб – шила платья учительницам.
Я очень жалел, что мама не видит, как я, со всеми своими недостатками, получаю первую премию. Мой брат тоже получал первую премию, он тоже разжился букетом – из моих сарайных запасов. Дедушка сидел, опершись одной рукой о палку, а другой поглаживал бороду. Он надел новую жилетку и держал шляпу на коленях. Глаза у него маленькие и быстрые, и, когда нас вызывали вручать грамоты, он моргал и сморкался. Я дал учителю цветы, а он мне – грамоту и книжку. Я хотел ему что-нибудь сказать, но не смог, потому что вспомнил про папу, как он сидел бы сейчас с другими учителями и смотрел строго. Наш учитель погладил меня по голове своими четырьмя пальцами, и я уступил место второй премии, то есть Алунице Кристеску.
Потом мы спели еще одну песню про то, что мы всегда готовы, и родители разошлись по домам. Я отдал грамоту дедушке, он угостил меня конфетами. Потом он поднял глаза и хотел вздохнуть, но так и остался, потому что бал происходил в физическом кабинете, и среди ученых на стене дедушка увидел себя, только под другим именем.
Наш учитель подошел поздравить дедушку, но тот так смотрел на ученых, что учитель тоже стал смотреть. Хорошо, что жена учителя насела на него с пирожными. Он и так уже толще, чем нужно, но она все равно наседает, два года назад даже специально вышла на пенсию, чтобы печь дома пирожные. Хорошо, что дедушка не любит пирожных, поэтому он ушел с тем нашим соседом, который одним махом расстался и с женой, и с поросенком. В дверях он обернулся, еще раз посмотрел на ученых и поклонился. Мы остались на бал, а бал – это когда жена учителя угощает нас пирожными, а мы разговариваем.