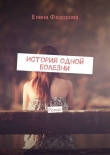Текст книги "Когда у нас зима"
Автор книги: Мирча Дьякону
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Я начинаю эти строки с неприятным чувством человека, хватающего за рукав прохожих, чтобы сообщить им, который час. Я не хочу быть среди тех, кто мучает читателя, без жалости громоздя пред– и послесловия, прологи, эпилоги и прочее, из страха, наверное, что читатель без них не разберется в сложной конструкции книги. Мне нравится верить, что всякая история – так, как она написана,– имеет право жить самостоятельно, как отдельное существо, которое дышит и движется, даря себя тому, кто захочет его понять.
Вы спросите: зачем же тогда эти строки? Я думаю, просто надо сказать два слова о том времени, к которому относится действие книги. Действие происходит в Румынии после второй мировой войны, когда старый мир, буржуазный режим, был разрушен до основанья народной властью. В наших горах орудовали тогда разрозненные банды, остатки организации фашистского толка, существовавшей в Румынии до войны. Несколько лет, пока с ними не справились, они грабили и терроризировали население. Это были годы, которые тенью пали на наше детство и о которых мы не имеем права забывать.
Теперь, когда я сказал все, что положено, я ретируюсь, оставляя читателя в компании существа, у которого все свое: жизнь, боль, смех и сожаления,– в компании существа по имени КНИГА.
Мирча Дьякону
Когда у нас зима, все прошлогодние облака садятся на землю, это и есть снег. Поэтому делается так ясно и холодно. Поэтому нет дождей и видны все самолеты, как они летят в теплые страны. Но пока облака усаживаются, небо тоже провисает совсем низко. Небо вблизи сизое или черное, смотря какой мороз. Только нам не страшно, потому что у нас дедушка – священник.
Вообще все бы ничего – жалко только, что мы живем так далеко и гости бывают у нас всего два раза в год. Мы живем от них за три поезда, из которых один маленький и два больших. Мы знаем только маленький, мы к нему ходим встречать родственников, то есть одиннадцать дядей и пятнадцать теть. Иногда мы берем с собой тачку, для чемоданов.
Мой дедушка, которому семьдесят лет, а перед тем как стать священником, он был ранен на войне, говорит, что зимой люди добрее. У меня есть трехногий стульчик, на нем я сижу час в день, смотрю, как народ идет в церковь. Мне нравится, что снег глубокий, и от этого у всех короткие ноги. Я сажусь за колодцем и каждому кричу: «Здрасьте!» Они вздрагивают, отвечают и идут дальше, ноги короткие, спина согнута, зимой никому не удается ходить гоголем. Когда они протопчут дорожку, я чуть-чуть поливаю ее водой и двадцать раз проезжаюсь на салазках от церкви до улицы. Потом снова сажусь на свой стульчик смотреть, как народ выходит. Теперь, когда дорожка ледяная, это гораздо интересней. Я поджидаю их за колодцем и выпаливаю: «Бог в помощь!» Потом помогаю им подняться, отряхнуться от снега, они меня благодарят и хвалят маму, что я хорошо воспитан. Лучше всех падает дьячок, потому что он толстый и тащит корзинку с кутьей [1]1
Кутья – кушанье из крупы с медом или изюмом, которое едят на похоронах или поминках.
[Закрыть]. Я ему тоже помогаю, он угощает меня кутьей и начинает крыть все на свете: погоду, скользь, ботинки, темень, святое писание, Вавилонскую башню и еще не знаю что, потому что дальше не слышно. Добрее некуда.
Вот только когда идет снег, мама запирает меня в доме. Остается приплюснуть нос к окну и дать синицам его клевать, им зимой несладко. Если смотреть вверх, когда идет снег, можно увидеть, как вертится земля, но это только когда первый раз снег. Поэтому мама мне оставляет побольше еды и книжку и запирает, чтобы я не ушел в Елки смотреть, как вертится земля. Мы там собираемся на опушке, все мальчики, и смотрим вверх. Сначала ничего не выходит – так и надо, пока в тебе есть тепло. Потом валишься на спину, потихоньку, вместе со снежными хлопьями, и земля начинает вертеться. Это вовсе не опасно, потому что нас всегда кто-нибудь находит и разводит по домам, болеть. Правда, один раз я совсем разболелся, но в тот день земля очень быстро вертелась, и я целый месяц потом видел от брата и мамы только тени, а когда пробовал ходить, у меня за спиной стоял кто-то, кто крал мои шаги и не хотел возвращать в день больше одного-двух.
С тех пор мама меня запирает в первый снег, когда облака садятся на землю. Я не жалуюсь, потому что и после тоже очень красиво, видны все следы, даже в воздухе: птичьи и самолетные. Через нас пролетают каждый день два самолета, хотя и самые маленькие. Только я не понимаю, почему все летят туда, а обратно – ни одного. Вообще-то так и надо, из теплых стран и я бы не вернулся. Разве что разок: прокатиться на салазках, поесть колбасы, повидать во сне чертей, озябнуть как следует, пождать тепла, поболеть два раза в месяц, поколядовать... Нет, я бы вернулся. Или вообще бы не улетал, это еще лучше.
К тому же зимой я лучше слышу. Например, я первый услышал, что к нам приедут родственники. Мама сказала, что мы должны радоваться, что нам привезут кучу подарков, что надо будет приодеться (приодеться – это, значит, в матроски) и что мы будем петь романсы,– вот сколько счастья. Одно плохо: у меня одиннадцать дядей и пятнадцать теть. Ребята мне завидуют, что у меня столько теть, но, я думаю, зря, я их и так различаю только по запаху. Зимой они приезжают все вместе, целуют меня каждая по два раза, то есть тридцать раз, и меня начинает мутить от этих запахов, которых у нас в деревне не водится. Мой брат Са́нду был однажды в городе со школьным хором, они спели три песни на конкурсе, и говорит, что там везде так пахнет, и он привык, ему даже нравится. Я тоже поеду как-нибудь в город, но сейчас мне некогда, я должен делать сорок концов в день на салазках. Папа нам все равно обещал, что сводит нас летом на ярмарку и по этому случаю купит нам настоящие брюки. Пока что мы ходим зимой в тренировочных, а летом в трусах. У нас такие правила: пока ты маленький, ты ходишь в вышитой рубашке и штанишках, потом, когда ты все равно маленький, но побольше, тебе положен тренировочный костюм, а когда ты дорастаешь до настоящих брюк, это совсем другое дело, тогда уже можно здороваться за руку с друзьями и говорить: «Привет!» Что такое привет, я знаю очень хорошо. Например, мой брат мне часто говорит, что я с приветом.
Но я еще недосказал про родственников. Я все время сбиваюсь, и мой брат говорит, что я путаник. Он много читает. Я у него и несерьезный, и неусидчивый, и память дырявая, и витаю в облаках, и трусливый, и мне на все плевать, и грызу ногти, и вообще задохлик. Это, он говорит, мои главные недостатки, недостатки младшего брата. У меня есть и еще один, но я молчу, чтобы не дать ему козырь в руки: я люблю щекотку. И не просто так, а я люблю щекотку больше всех в классе.
Так на чем я остановился? На родственниках, которые должны приехать. Всю неделю я чувствовал себя муторно, как бывает, когда объешься черешней, и совсем не мог радоваться, какой мы смонтировали телефон из двух спичечных коробков, в один коробок мой брат говорил: «Ты дурак»,– а я в другой отвечал: «От такого слышу». Между коробками шнур.
Он сидел в парадной комнате, а я в маленькой. Я забыл сказать, что у нас две комнаты, одна маленькая, в которой живем мы, а другая большая, для родственников. Когда родственников нет, там полно пауков, очень опасных, они кусаются, и мама поэтому узнает, что мы лазили туда за вареньем.
Да и погода была не очень: небо висело, как мокрая простыня, и два дня ни одного самолета не пролетело в теплые страны. Какие-то ночные птицы спрятались на нашей елке, и Гуджюма́н лаял на них до хрипа, но они все равно выходили только ночью, чтобы мне присниться. Гуджюман – это наша собака, он белый, как снег, и на снегу почти незаметный. Ему столько же лет, сколько мне, и я не понимаю, почему папа говорит, что он старый. Я его очень люблю: еще бы, он мне друг с рождения, но кроме того, он необыкновенный. Например, он зевает целых тридцать секунд без перерыва и лает громче, чем церковный колокол. Все-таки надо досказать про родственников.
В то утро небо спустилось так низко, что мне пришлось ходить пригнувшись, и везде было слышно щелканье кнутов и рев бугаев (это такие гармошки, ревут, как быки), люди готовились к вечеру. Под Новый год у нас всегда коляды: кнуты щелкают, бугаи ревут, ряженые ходят по домам с таким маленьким плугом и желают хозяевам счастья, а те им что-нибудь дарят. Это называется плугушо́р. Очень жалко, что из-за гостей я не могу сегодня тоже пойти колядовать, я слышал, там хорошо зарабатывают. Я только пять с половиной раз прокатился на салазках, а мама уже забрала меня с дорожки, разула и посадила к печке на просушку. Дрова трещали, от моих ног шел пар, и я задремал. Но не успел я увидеть сон, как мама стала меня всовывать в черные штаны, которые раньше были дедушкиной рясой, потому что он священник.
Потом мама зашнуровывала на мне новые ботинки и наказывала за столом не чавкать, не бросать кошке куски под стол на тетины туфли, не ругаться с братом, который, слава богу, серьезней, чем я, не пить цуйку, а если кто предложит, сказать, что мне не нравится, не вставать из-за стола, даже по нужде, стараться не заснуть, если вдруг найдет сон, а если кто-нибудь спросит, сколько я прочел книг, сказать две, не говорить глупостей, а лучше всего вообще помалкивать, если попросят прочесть стишок, прочесть тот, что про платочек, а главное – не перепутать теть. Вот это мне не нравится в маме: она дает сразу столько советов, что все не упомнишь.
Мой брат был давно готов и хмурил брови перед зеркалом, искал выражение лица для матросского костюма. Нашел и прошелся с ним по двору, осторожно, на носках, чтобы не загрести в ботинки снега. Вернулся обратно и, поскольку он серьезный и примерный, взял еще и книгу в руки, пока не приедут родственники. Хорошо, у кого много недостатков, не надо все время таскать с собой книгу.
Я тоже сделал на лице матросское выражение, как у него, и мы сели на специальный стул для поджидания гостей, это такой стул, откуда гвозди не вылезают, безопасный для штанов, и мы вдвоем на нем умещаемся. У нас есть похожая карточка, где мы тоже вдвоем, а сзади замок, но там я матросистей, чем он, потому что стою раскорякой.
Пока он читал, я думал про тех четырех теть, у которых нет дядей. Задачка не из легких, потому что нормально, когда у каждой тети есть дядя, но, например, у меня есть тети, а я не дядя. Проще всего кого-нибудь спросить, но я не стану, жуть как люблю вещи, которые не понимаю.
Дорожка до калитки была хорошо расчищена, чтобы мы не упали, когда пойдем им навстречу с веселыми лицами. Даже Гуджюман спрятался куда-то, он всегда прячется, когда приезжают родственники, потому что не знает, на кого лаять, а на кого нет.
Когда просвистел десятичасовой поезд, мой брат загнул уголок страницы и пошел по дорожке здороваться. Я всегда пропускаю его первым и все за ним повторяю, это целая китайская церемония: некоторые тети не дают целовать себе руку, другие целуют тебя три раза, еще другие только один раз, одни целуют сначала в левую щеку, потом в правую, другие наоборот, и он помнит, какая как, и не путается.
Первыми пришли тетя Ко́рни, тетя А́рни и тетя Мари́. Это потому, что они всегда без багажа. Они очень веселые и, пока нас целуют, кричат маму. За ними пришли тетя А́ми и тетя Чи́чи, неразлучные и сестры, потом еще пять теть, которых я не очень различаю, и последними – старые тети: тетя Ми́ци, тетя Ви́ви, тетя Фи́фи, тетя Со́фи и тетя Э́ми, другими словами – Ми́ца, Виори́ка, Филофте́я, Софи́я и Эсмера́льда. С дядями легче, они жмут нам руки, кроме дяди Ио́на и дяди Пе́тре, которых мы любим больше всех, потому что они студенты.
Когда церемония кончилась, мой брат быстро набрал пригоршню снега и смыл с меня помаду, чтобы меня не вырвало. Он держал меня за матросский галстук и, когда я успокоился, сказал, что нам привезли в подарок два кулька конфет, но это такие конфеты, которые тверже, чем зубы, и лучше мы будем ими пуляться. У нас на крыше есть петушок, мы в него обычно пуляемся, глиняный петушок и без гребешка, но, наверно, от какой-нибудь болезни, потому что мы в него никогда в жизни не попадали.
Двор был полон, и все смеялись, не замечая, какое сегодня низкое небо. Дорожку затоптали, и мой брат Санду повел меня за руку, как на фотографии, ставить на стол последние три тарелки, которые недоставили специально для нас, чтобы все видели, как мы помогаем маме.
Пока мы помогали маме, дедушка и папа повели гостей раздеться в маленькую комнату и показать им последние мамины вышивки, наволочки и скатерти с павлинами. У нас их много, пятнадцать павлинов на подушках и двадцать на скатертях.
– Тонкая работа, только это сейчас не в ходу, жаль ее, бедняжку. И потом в деревне, без всякой перспективы...
Это мы услышали по телефону, одна «трубка» была в той комнате. Говорили две тети. Потом мы услышали, как они спускаются в подвал постучать по бочонку с цуйкой, потом все зашли в парадную комнату, где был стол. Две синицы клевали снаружи окно. Родственники кололи орехи, грызли яблоки и завидовали папе, что он живет в деревне. Они завидовали, пока не уселись за стол. Этот стол – папина гордость, он его сам сколотил и говорит, что он хорош и на свадьбу, и на поминки, мне особенно нравится, что у него в одном месте из-под крышки вылезает гвоздь и каждый раз рвет кому-нибудь платье, но папа все равно его не вытаскивает. Вот только стол, хоть и длинный, всех не вмещает, и тогда мы приставляем к нему швейную машину. Я, мой брат и мама будем есть за швейной машиной.
Когда все усаживались, то проходили мимо нас и поэтому гладили нас по головам. Головы нам мама специально помыла хозяйственным мылом. Я смотрел на дядю Аристи́ку и дядю Джи́джи, они между собой очень дружат, живут в двухэтажных домах за холмом и всегда, сколько я их знаю, представляют в лицах одну и ту же шутку.
– Кого я вижу! Ей-богу, это Аристика! – начинает дядя Дчсиджи, а тот ему отвечает:
– Бога нет, почтеннейший Джиджи.
– Это с каких же пор, а?
– С 23 августа [2]2
23 августа 1944 года – день установления народной власти в Румынии.
[Закрыть], бэ!
И оба хохочут.
Я нагнулся под стол посмотреть, на кого пришелся сегодня гвоздь, но все загораживал дядя Аристика, он очень толстый, и тогда я сделал вид, что нагнулся проверить кошку. Тетя Корни как раз хрустнула пальцами и сказала:
– Натуральные яички, не то что у нас в городе!
И мама заторопилась всем положить по натуральному яичку. Все ели, улыбались и рассказывали друг другу про свою жизнь. И вот когда дядя Вили, муж тети Арни, рассказывая про свою жизнь дяде Аристике, который живет за холмом в двухэтажном доме с тетей Ами, то есть Амелией, пролил себе на брюки, мой брат протянул ему тряпку, которую он заранее приготовил, и сказал: «Пожалуйста». Это производит впечатление. Я бы мог тоже попроситься за тряпкой, но я должен сидеть на случай, если кому-нибудь захочется погладить меня по голове.
Громче всех смеются тетя Корни, тетя Арни и тетя Мари, они из Бухареста, как и их мужья, инженеры, но очень молчаливые. Мне так жалко, что из нашего стола вылез только один гвоздь!
У меня болит голова, но я ем внимательно, чтобы не запачкать швейную машину. Я не хочу, чтобы мама плакала, она и так плачет очень часто. Она единственная в нашей семье плачет.
– Как школьные успехи, милые детки? – спрашивает одна тетя, которую я не узнаю, потому что сейчас все пахнут крутыми яичками.
– Две,– говорю я и вижу, как мама от стыда опускает голову низко над тарелкой. Она очень заботится, чтобы мы росли умные и чтобы из нас вышел толк.
Все смеются, кроме маминых сестер тети Ами и тети Чичи. Они набожные, благочестивые и критикуют маму, что она не думает о нищих, не поет в церковном хоре, что одевает нас слишком нарядно и не заставляет помогать по хозяйству.
– Хорошо,– поправляет меня мой брат, но сначала чинно вытирает рот и толкает меня локтем, чтобы я тоже утерся.
Тетя напротив нас говорит, что очень важно, чтобы каждый ребенок умел читать, любил книги, формировал словарный запас и чтобы я передал ей соль, потому что она сидела на диете, а теперь хочет отыграться. Я дал ей соль и сказал:
– Пожалуйста, тетя!
Кажется, я ее потряс.
– А ты любишь читать, малыш? Что ты читаешь?
Я хотел по правде сказать, что ничего особенно не читаю, но увидел, что мама покраснела и подает знак моему брату. Мама краснеет за нас обоих, как будто и у моего брата тоже могут быть недостатки.
– Да, я много читаю, в свободное время, такие книги, как «Спартак» и «Дети капитана Гранта»,– важно сказал мой брат, и мама успокоилась.
Все удивились, кроме тети Ами и тети Чичи.
– Очень хорошие книги, браво,– сказала та же тетя, возвращая мне соль.– А ты, малыш, читаешь что-нибудь?
Если бы она сидела поближе, она бы погладила меня по голове, точно.
Мама снова покраснела, и я испугался, как бы она не заплакала.
– Да, я тоже читаю, тетя...
– Что же именно?
– Именно «Спартак» и «Дети капитана Гранта», тетя.
На минуту все отвлеклись от натуральных яичек, чтобы удивиться. Кроме, конечно, тети Ами и тети Чичи.
– Но тебе еще рано читать такие книги, ты не поймешь. Скажи-ка, о чем там речь, в «Детях капитана Гранта»?
Она была уверена, что сейчас меня уличит, но я и правда прочел две книги, еще потолще, чем те, только русские.
– Так про что же там? – настаивала она.
Я снова сделал на лице матросское выражение, которое потерял, когда передавал ей соль.
– Про советских партизан, которые освободили нашу страну из-под ига, тетя.
Санду вылупился на меня, разинув рот, папа заулыбался, только мама снова опустила голову.
– Браво, малыш,– сказала тетя,– надо, надо читать, формировать словарный запас, равняться на таких людей, как дядя Леон. Подвинь-ка сюда графинчик.
Я забыл сказать, что дядю Леона все уважают, потому что он адвокат. У него и имя адвокатское, и очки.
– Вот она, современная литература, то ли дело раньше. А куда деваться, надо читать. Ну, а та, другая книга, как ее, «Спартак», тебе понравилась?
– Да, тетя, особенно когда они переходят мост, а неприятель тем временем спокойно ест и пьет, а они по нему с тыла! И потом, там такая любовь!
Не знаю, почему мой брат совсем потерял матросское выражение и как будто ему стало мало воздуха.
– А скажи, малыш, он остается с ней или нет? – И тетя хитро подмигнула.
Еще бы не подмигнуть, попробуй ответь, остается или нет, если в тех книгах она вообще не с ним, а в тылу, санитаркой.
– И да, и нет, тетя...– И я передал ей соль, чтобы она отыгралась и на втором блюде тоже.
– То есть как, малыш?
– То есть сначала остается, а когда его зовет родина и воинский долг, то она его сама отпускает.
Я ей угодил, она перегнулась через стол и погладила меня по голове. Мама сияла, как будто это ее погладили, но я устал и спустился под стол отдохнуть. Там лучше всего отдыхается. Мой брат тоже пришел ко мне, и мы сидели, как на фотографии, рядышком и матросы. Нам было хорошо, к тому же тетя Ами и тетя Чичи разулись, и кошка уже оттащила в сторону по туфле от каждой.
– Послушай, милочка, как у вас в этом году с орехами, в Бухаресте ужасно, крестьяне совсем испортились, ничего путного не привозят.
Это означало, что тетя Корни выпрашивает у мамы орехи. Но мы-то этого ждали и припрятали один мешочек на пасху, для кулича.
Пока мы сидели под столом, тетя Мари попросила фасоли, а тетя Арни яблок, только лежких, а не таких, как прошлый год, которые все пришлось перевести на повидло. Я показал Санду, как дядя Джиджи ищет под столом туфлю тети Чичи, и когда он ее нашел, то наступил два раза, это был сигнал. Правда, ее ноги в туфле не было, но она как-то, наверное, догадалась, потому что я услышал, как она просит морковь и сельдерей. Санду пошел на корточках, я за ним, мы пролезли между туфлями, которыми играла кошка, но так и не смогли найти тот гвоздь. Мы снова сделали матросские выражения и вылезли наверх. Вообще-то можно было и не вылезать, никому мы были больше не нужны до вечера, когда нам придется читать стишки и петь.
Папа вышел покурить. Пока что он один из всей нашей семьи курит, и, хоть он высокий и сильный, он никогда нас не бил. Не могу сказать, что мы его не боимся, я думаю, его всякий испугается, на вид он очень сердитый, ни у кого нет такой складки между бровей и таких усов, как кукурузный шелк. Он почти никогда не улыбается, даже когда мы летом всем семейством идем в Малу, это село, где он родился, совсем маленькое, вместо улиц тропинки, туда можно добраться только пешком, и там у нас есть еще дедушка, очень сгорбленный, потому что вынес на плечах обе войны, он ходит в одной рубахе и зимой, и летом, дает нам леденцовый сахар, какой водится только у старых людей, и рассказывает сказку про одного человека, который хотел разбогатеть и купил яйцо, по дороге домой случайно разбил и остался бедным, потом рассказывает про чужие страны, где очень красивые девушки и почти все время дождь, потом мы едим мамалыгу с молоком и ложимся спать. Мы его очень любим. Одного я не понимаю: почему он не похож на папу?
Дальше я сейчас не скажу про дедушку, подожду до лета, когда мы снова к нему пойдем. Пока что холодно, и папа курит. Синицы щебечут между собой в обиде, что так до нас и не достучались, и принимаются клевать проволоку для белья. Из-за этого ее приходится каждый год менять. Папироса зашипела на снегу, и одна синица к ней слетела, но разочаровалась и вернулась на проволоку. Я еле дождался, когда папа войдет в дом, мне ужасно нравится, как он входит в дом: сильно нагибается, чтобы не задеть за косяк, только волосы и усы видны, шагает через порог большим-большим шагом и так хлопает дверью, что все вздрагивают. И сейчас все вздрогнули и начали ему завидовать, что в деревне чистый воздух.
Я тоже много раз пробовал так входить, но у меня не получается. Я и нагибаюсь, это-то нетрудно, и дверью хлопаю, но вот большой шаг у меня никак не выходит. К тому же и вздрагивать некому, потому что я пробую только при брате, а он не вздрогнет, даже если войдет учительница по математике.
Родственники ели третье, никто не просил у меня ни соли, ни перца, так что меня стало клонить ко сну, от запахов. Я прислонился головой к плечу моего брата и услышал издалека, будто через замочную скважину, как дядя Аристика спрашивает папу, сколько у нас овец.
– Пятнадцать,– сказала мама, потому что папа и не думал отвечать.
– Я их заберу поближе к весне,– сказал дядя.– Даром я, что ли, у вас держал своего барана? И что ты так надулся, ты в этот дом вошел голодранцем, мы что тебе, кредитный банк? Ступай вон к своим, в кооператив, пусть они тебя обеспечат! Думаешь, если ты одурачил свою жену, с нами тоже этот номер пройдет? Ты взял себе жену из хорошей семьи, смотри, тут сидят только уважаемые люди, посты занимают, инженеры, в опинках [3]3
Опи́нки – лапти из сыромятной кожи.
[Закрыть]не ходят. Ты когда ботинки первый раз увидел, а? Ну, когда? Молчишь? То-то. Лучше молчи.
Мама плакала. Она всегда плачет. Я смотрел на папин кулак, который лежал на столе, огромный, с темными жилами. Ах, мне бы такой кулак, хотя бы один, оба не надо, разбить нос и часы на золотой цепочке поперек брюха этому дяде, которого мама учит нас любить как родственника.
– И раз уж к слову пришлось, я заберу и сливы, они с того надела, который папочка обещал в наследство нам с Ами и Чичи, как старшей сестре. Правда, папочка?
– Бери, бери, Аристика,– сказал дедушка,– только не надо таких слов, стыдно...
Папа уставился на дядины золотые часы и молчал. Жалко, что он молчал, лучше бы он был храбрым, но вообще, может быть, мне это все приснилось. Я забыл сказать, что мне снится очень много всего, и не обязательно во сне. Поэтому, как только мне начинает что-то сниться, я закрываю глаза и ложусь спать, хотя, я думаю, полагается наоборот.
Мой брат это знает, и он понес меня потихоньку, чтоб не спугнуть сон, в нашу комнату. У нас там есть кровать на четыре персоны, в которой спят только две персоны, я и мой брат. Сейчас она завалена чужими пальто, которые пахнут не слабее, чем родственники, и Санду положил меня между запахами тети Корни и тети Арни, у них и пальто любят поболтать, как они сами. Мне так хотелось спать, что я даже не стал думать про белых подкроватных человечков. Я забыл сказать, что под нашей кроватью живут человечки в белых одежках, которые хватают тебя за ноги и тащат под кровать, но это только ночью, днем они боятся кошки.
Я поспешил заснуть, и как было бы хорошо, если бы не эти запахи, из-за них мне снились партизаны и ничего вкусного. Обычно мне снится простокваша. Когда мне весело и по воскресеньям, мне снится кулич с орехами, но бывают случаи, особенно весной, когда мне снятся мягкие конфеты. Я их пробовал только один раз, с елки, но много про них читал, они называются помадка. И конечно, когда мне грустно или когда я поссорюсь с братом и думаю, что жить дальше нет смысла, тогда мне снятся партизаны.
Я проснулся. За два пальто от меня спал мой брат с куском пирога в руке. Или он его стащил, или там уже дошли до пятого блюда. Если стащил, это нехорошо, а если дошли до пятого, это тоже нехорошо, потому что, значит, он забрал и мою порцию, так что я съел пирог из его рук и пошел в соседнюю комнату, где родственники совсем размякли от стольких блюд и снова завидовали нам, что мы живем в деревне. Кроме этого, ничего не изменилось. Папа все так же смотрел в упор на золотые часы дяди Аристики.
Я очень хорошо знал, чего ему хочется. Я бы тоже с удовольствием. Синицы снова клевали окно, но никто не бросал им крошек.
Дядя Леон, адвокат, как раз говорил папе, что вышел на пенсию и может теперь сколько угодно охотиться в наших лесах и что он оставит у нас охотничье ружье, бельгийское, трехстволку, чтобы не таскать ее все время взад-вперед. Папа кивал, но не отрывался от дяди-Аристикиных часов. И мама это видела и, наверное, понимала, потому что криво улыбалась тете Ами и тете Чичи, которые, как старшие сестры, распекали ее не знаю за что.
Я посидел немножко, подождал, не спросят ли меня, сколько будет пятью восемь или какие я знаю песни, но, так как все были заняты, я вышел во двор.
Небо чуть ли не волочилось по земле, я едва под ним умещался. Был вечер. От леса виднелся только край ельника. Там сидят в засаде волки. По ночам сверкают глазами, а когда очень холодно, могут подойти к тебе совсем близко и прикинуться кошками, чтобы тебя обхитрить, но надо держать в кармане кусок овчины, и волк, как ее почует, сразу себя выдаст. Так говорит мой брат. Он храбрый, выходит ночью во двор и стоит пять минут, на спор, с будильником в руках. Я, правда, его не проверял, потому что ночью не вылезаю из постели.
Сегодня единственная ночь, когда не страшно выйти, потому что в эту ночь меняется год и до утра чертей не будет. Дедушка говорит, что чертей вообще нет, что это я их сам себе делаю, но, значит, они все же есть, хоть и самодельные? Но сегодня – точно нет, и сегодня всем детям положено колядовать. Жаль, что у меня гости.
Я вышел за калитку. Матроска, конечно, красивый костюм, но он не подходит для наших горных мест, он не греет. Я вышел посмотреть, нет ли кого на моей дорожке. Несколько ворон перелетали с забора на забор, как будто не на всех заборах одинаково холодно. Холод вступил мне в ноги сквозь новые башмаки, они хороши только принимать родственников и ходить в город. Затем их папа нам и купил. Минут через пять холод дойдет до рук.
Родственники начали петь. Наша семья любит жалостные песни. Папа обычно поет «Как мне вырвать из груди...», мама поет «Воскресенье печальное», особенно когда подметает, дедушка вообще священник, ему положено петь, а другой дедушка поет всегда про атаку и отступление.
У меня скрипели шаги, как будто на каждой ноге было по двери, и мне было чуточку страшно. Я уже заходил обратно в калитку, но тут меня насмерть перепугала Алуни́ца Кристе́ску. Она жалась к стенке нашего сарая и слушала «В тени ореха старого».
– Ты что тут делаешь?
– Стою.
Мама Алуницы Кристеску стрижет ее под ноль и вместо сережек продевает в уши ниточки, как петельки на одеже, вешать на гвоздь. Но она очень умная, и мне нравится с ней разговаривать, тем более она в классном журнале идет сразу за мной.
– А у меня тоже есть родственники, пятеро в Бухаресте и трое здесь.
– У меня пятнадцать теть и одиннадцать дядей.
Она опустила голову, пристыженная. Потом спросила :
– Что они тебе привезли в подарок?
– Кулек помадки, большой мячик, плюшевую лошадь и три коробки с не знаю чем.
– С чем?
– С не знаю чем.
Я стал рассказывать ей, какие они все добрые, особенно дядя с золотыми часами на цепочке, я бы и еще много чего ей рассказал, но Алуница Кристеску вздрогнула.
– Это какая песня?
– «Свет твоих очей»,– ответил я.
– Ой, как красиво! – И она потянула себя за петельку в правом ухе.
Синицы пролетели мимо нас и забились на сеновал. Значит, дело шло к ночи. Я решил, что раз завтра все равно уже другой год, так и быть, дам Алунице Кристеску одну марьяну. Марьяна – это такая картинка. У нас их полно в сарае, неизвестно, с каких времен. На картинках девушки, очень зубастые, и держат в руках цветы. Они бывают двух видов: марьяны и диди́ны. Красиво раскрашенные, а внизу стишок: «Я люблю тебя без обмана, милая Марьяна» или «Гибну от любви безвинно, милая Дидина». На них большой спрос, один раз я купил коньки за две марьяны и одну дидину. Я много чего на них купил, и теперь другие ребята могут тоже продавать моих марьян и дидин. Хорошо, что у меня их еще целый чемодан в сарае.
С соседней улицы слышалось щелканье кнутов и песни. Все наши товарищи были там, и я подумал, что никто не заметит, если я отлучусь ненадолго, гости все равно сидят за столом до утра, а романсов у нас, слава богу, хватает, по крайней мере, хватит до моего возвращения.
Тетя Корни пела: «Никогда ни единою мыслью». После «...сожаленья остались одни» она замолчала. Теперь она плачет, а все остальные смотрят в тарелки.
Я взял Алуницу Кристеску за руку, и мы пошли колядовать. Мы оба знали одну подходящую песню:
Вымой руки, вымой ноги,
Светлый праздник на пороге.
Надень платье новое,
Новое, шелковое.
Она знала и второй куплет.
Я боялся, как бы волчьи глаза не зазвали меня в лес, и не смотрел в ту сторону. К тому же приходилось держать голову книзу, потому что небо давило на затылок. Хорошо, что рука Алуницы Кристеску маленькая и теплая, без нее мне бы всюду мерещились черти, хоть их и нет. Когда я был маленький, мне часто снились черти, но больше всего один, хромой черт с трубой. Вот уж от кого я натерпелся. Приходилось на ночь привязываться веревочкой к папе, иначе хромой черт приходил за мной и утаскивал во двор, слушать, как он играет на трубе. Мы тогда спали втроем на кровати. Из-за этого черта я и теперь, если ночью проснусь, слышу трубу. Но я привык, и мне даже очень нравится, я теперь и не знаю, что такое тихо, для меня тихо – это когда играет труба. Но в новогоднюю-то ночь чертей все равно нет.