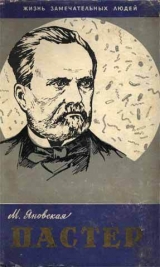
Текст книги "Пастер"
Автор книги: Миньона Яновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Едва вставало солнце, Пастер выходил на цыпочках из спальни, и через несколько минут его уже можно было видеть склоненным над решетами, в которых копошились ранние выводки. Он наблюдал, как сразу же после вылупливания погибали некоторые гусеницы, как другие медленно чахли. Зато третьи, о которых он знал, что они от здоровых родителей, с жадностью пожирали свежие листья шелковицы.
Предсказания его сбывались. И не только в его личных опытах, но и в тех крестьянских хозяйствах, которые поверили ему и в прошлом году отобрали здоровую грену.
В одной из соседних червоводен хозяину удалось раздобыть немного японской грены. Из нее вылупились великолепные жирные гусеницы, и хозяин уже строил свое благополучие на этих выводках, мечтая взять реванш за предыдущие разорительные годы. И вдруг в грене этих бабочек Пастер обнаружил характерных паразитов. Оправдались его опасения: здоровые японские гусеницы заразились здесь, во Франции, пебриной. Заглянув в червоводню, Пастер сразу понял, в чем дело. В нижних решетах кормились японские гусеницы, в верхних – выведенные из больной грены. Подстилка сверху падала вниз, гусеницы не только соприкасались с ней – они поедали эти листья. Когда же Пастер посмотрел на них в микроскоп, оказалось, что нет ни одного самого малого участка листа, на котором не размножались бы пебринные паразиты.
Здоровые черви заболели от близости, от контакта с больными. Типичнейшая черта любой инфекционной болезни!
Пастер написал письмо в Академию наук: «Если я не ошибаюсь, если опыты, которые я еще должен провести, не изменят коренным образом моей точки зрения, то мне кажется, что нам не следует так мрачно смотреть на вещи, как мы это делали до сих пор. Спасение близко, оно в наших руках».
А опыты с выводками, приготовленными Пастером в прошлом году из грены абсолютно здоровых бабочек, тем временем продолжались. Если из них выйдет здоровое потомство, значит нет сомнений, что пебрина вызывается «тельцами».
Выводки вылупились хорошие: великолепные белые гусеницы, без единого налета черных или серых пятен шумно пожирали листья шелковицы в своих решетах и, как и положено им от природы, совершали переход из одной стадии в другую. Они уже трижды линяли и по-прежнему были совершенно здоровыми.
Но наступила четвертая линька, и… гусеницы одна за другой погибли. Почти полностью, все шестнадцать выводков. Сто гусениц. Каждый день Пастер собирал в решетах по 15–20 мертвых червей, и с каждым днем все мрачнее становилось его лицо, все насупленней брови, все угрюмей взгляд. Он перестал выходить к своим постоянным многочисленным посетителям – он не знал, как смотреть им в глаза. Неужели он мог допустить такую чудовищную ошибку? Или, быть может, опыт недостаточно чисто проведен? Но ведь он делал все с обычными предосторожностями и совершенно был уверен, что все сто бабочек были здоровыми. Он сам проверил их под микроскопом и ни в одной не нашел ни одного паразита.
А черви умирали перед четвертой линькой…
Они становились мягкими и вялыми и в конце концов походили на пустую кишку. Пастер лихорадочно растирал их вялые останки и клал один за другим в микроскоп. И тут его окончательно подкосило: ни в одном из погибших червей не было даже следов «корналиевых телец».
Пастер растерялся – удар был сильным и неожиданным. Значит, правы его противники? Значит, надо с повинной выступить перед ними и признавать свое поражение… Но это будет не только его поражением – это означало бы поражение экспериментального метода, всей теории микроорганизмов.
Нет, невозможно! Как невозможно и то, что он ошибся. Тут что-то другое.
С этого дня и Пастер, и его помощники, и его жена засели за литературу о шелководстве. В одной из книг они, наконец, вычитали об еще одной известной болезни, поражающей шелковичных червей, – флашерии.
– Значит, тут, кроме пебрины, была еще и флашерия, – обрадовался Пастер, – теперь посмотрим, чем же она вызывается.
Несколько заболевших неизвестной болезнью червей растираются и кладутся под микроскоп. И довольно легко Пастер обнаруживает в них характерный грибок – возбудитель флашерии.
Тем не менее эта вторая болезнь смешала все карты. Неизвестно, как широко она была распространена, неизвестно, в какой стадии развития наиболее резко поражала шелкопрядов. Надо было начинать сначала все опыты, на этот раз по флашерии.
Между тем в научной печати, где уже пронюхали о «неудаче» Пастера, но не знали еще о новой обнаруженной им болезни, снова появились злопыхательские статьи. И снова Пастер приготовился к ответному бою, но, послушный настойчивым советам Дюма, решил оставить эти статьи без внимания. Вместо того чтобы тратить время на ненужную писанину, он, опять-таки по совету Дюма, выехал в шелководческие районы.
Эти поездки принесли ему много радости – он воочию убедился в пользе своего профилактического метода.
В одной из червоводен Нима он чуть было не расцеловал всю милую трудолюбивую крестьянскую семью, которая в точности повторила то, что он предлагал, и получила великолепные результаты.
Пебрина отступала всюду, где применялся метод Пастера.
Надежда на то, что шелководство Франции через год-два выйдет из страшного упадка, в который его повергла пебрина, становилась вполне реальной.
Министр просвещения Дюпюи писал Пастеру весной 1867 года: «Неподалеку от Вас, в Авиньоне, воздвигли памятник персу, который перенес во Францию культуру марены. Почему не сделать то же самое для того, кто спас две наиболее крупные отрасли нашей промышленности?»
Виноделие и шелководство – сколько миллионов франков вернул Пастер своей родине, научив лечить и предохранять от болезней вино и шелковичных червей!
В Алэ было установлено десять микроскопов на червоводнях. Шелководы из Нижних Альп занялись исследованиями по совету Пастера. В департаментах Ним, в Сове, Парпеньяне и других местностях широко поставили пастеровскую профилактику. Все это обсуждалось вслух, все ждали в будущем году облегчения. Вера в Пастера среди практиков стала незыблемой. Лаборатория его осаждалась людьми, приходившими и приезжавшими из отдаленных мест за советом и консультацией.
Следующий год был годом триумфа. Когда Пастер, бледный, похудевший, не оправившийся еще от прошлогоднего пребывания в затхлом воздухе червоводен, от работы без отдыха и почти без сна, от раздражающих, унизительных споров противников, приехал в Алэ, его встретили толпы крестьян, спасших свои хозяйства благодаря его советам.
Если бы не флашерия – дело можно было считать законченным. Пастер вздыхал всякий раз, когда вспоминал об этой болезни, и на все лады проклинал микроскопический грибок, вызывающий ее. Но теперь флашерия перестала пугать его – она только оттянула окончательное решение вопроса. В конце концов флашерия была только эпизодом, как убедился Пастер, проведя выборочную проверку на нескольких червоводнях. Уж если удалось покончить с повальной пебриной, то с эпизодической флашерией они как-нибудь справятся.
Эта новая болезнь, о которой никто и не подозревал, возникла внезапно, без каких-либо видимых причин. Трудноуловимая, зависящая от случайностей, она, однако, тоже могла быть легко побеждена – достаточно было прибегнуть к обыкновенным гигиеническим мероприятиям. Сорванные с дерева листья шелковицы, которыми выкармливают гусениц, не должны подвергаться разложению, нужно беречь их от попадания пыли из червоводни – одной этой пыли достаточно, чтобы занести на листья грибок и вызвать флашерию.
Червоводы ликовали: кончилось бедственное положение, шелководство начало возрождаться и обещало в недалеком будущем нагнать потерянное время.
– Все, что предлагает господин Пастер, может быть немедленно перенесено в широкую практику, – с восторгом говорили одни.
– Увлекаетесь, – обрывали их другие, – мы пробовали то же самое, но болезнь у нас не отступила.
– Значит, вы неправильно делали то, что велел господин Пастер, – настаивали сторонники, – мы точно придерживаемся его советов и получили абсолютно здоровые выводки и от них совершенно здоровое поколение.
Больше всех волновались торговцы греной: слишком много сжигали яиц больного шелкопряда. И спекулянты в погоне за наживой частенько скупали заведомо больную грену и продавали ее за здоровую, перенося тем самым заразу из одних мест в другие. Они же распространяли самые невероятные слухи о Пастере и его опытах. Такие слухи достигали ушей тестя Пастера – господина Лорана. В тревоге он писал дочери:
«Здесь распространился слух, что неудачи шелководства и метода, предложенного Луи, вызвали такое озлобление у населения вашей местности, что ему пришлось спешно покинуть Алэ, жители которого забрасывали его камнями».
От всех этих нелепых толков, от слухов и статей Пастер решил спастись куда-нибудь подальше: вместе с женой, дочерью и сыном он уехал отдохнуть на берег моря, неподалеку от Бордо. Сюда, в Бордо, получил он очень обрадовавшее его письмо от итальянца Салимбени, который, повторив все опыты Пастера, проверив и подтвердив их, благодарил Пастера и писал, что его метод – лучшее, что можно придумать для возрождения шелководства.
Об этом и собирался рассказать Пастер, когда 19 октября 1868 года, после непродолжительного отдыха, вернулся в Париж.
Странно, но отдых на берегу моря в кругу любимой семьи и вдали от всех опытов и треволнений, от врагов и злопыхателей не очень пошел ему на пользу. Возобновились головные боли, странное недомогание вселяло тревогу. Он скрывал эти ощущения от жены, но мадам Пастер слишком знала и любила своего мужа, чтобы не насторожиться. Должно быть, напряженные исследования, баталии с теоретиками самозарождения, походы на пебрину и флашерию, неблагодарность общества, которому он служил всеми своими помыслами, сильно пошатнули его нервную систему, расслабили и без того некрепкий организм.
В тот день, 19 октября 1868 года, Пастер рано встал и почувствовал, что, кажется, не сможет выйти к завтраку: вся кожа тела непривычно немела, будто по ней бегали мурашки. Пересилив себя, он все же позавтракал вместе с семьей и ушел в кабинет: надо было продиктовать жене статью в Академию наук.
Едва Пастер уселся в кресло, как его забил озноб. Стараясь не показать испуга, мадам Пастер попросила его лечь в постель.
– Можно ведь диктовать и лежа, – ласково, как ребенка, уговаривала она, – и, пожалуйста, не спеши так.
Но даже лежа Пастер не мог уже говорить. Тепло укрытый, заботливо напоенный горячим чаем, он пролежал в постели до половины третьего, а потом все-таки решил идти в Академию.
– Я отлично себя чувствую, – заявил он, пресекая всякие протесты жены, – должно быть, слишком много ел за завтраком. Пожалуйста, не волнуйся, дорогая, я намерен еще очень долго прожить, и мы с тобой напишем еще не один десяток статей и книг…
Он старался шутить, но за шутливым тоном слышалось желание преодолеть и боль и тревогу и, главное, успокоить жену.
– Отлично, – сказала она, зная, что никакие уговоры теперь не помогут, – мне как раз надо выйти по хозяйственным делам, так что нам с тобой по пути.
Рука об руку дошли они до Академии, и тут мадам Пастер попрощалась, сделав вид, что идет дальше. Но как только невысокая фигура Пастера скрылась в дверях, мадам Пастер быстро вбежала в вестибюль. Оглядевшись, она увидела Балара и бросилась к нему.
– Господин Балар, – в тревоге сказала она, – Луи с утра скверно себя чувствует. Прошу вас, проследите за ним и ради бога проводите после заседания до самых ворот Эколь Нормаль.
Балар в шестьдесят шесть лет выглядел моложе своего ученика; веселый и бодрый, очень подвижный, он представлял полный контраст с Дюма. Оба – ученые, оба – химики, давнишние друзья, они во всем были непохожи. Дюма – сдержанный, сосредоточенный, немного скептик, больше мудрец – в течение всей жизни двигал вперед свою науку, неутомимо работая над исследованиями, непрестанно делал одно открытие за другим. Балар – темпераментный, живой, горячий и очень добрый – почти не занимался исследованиями, сделав в молодости, как сам считал, все, что мог сделать; всю остальную жизнь он довольствовался лекторской работой и тем, что щедрой рукой разбрасывал среди своих учеников блестящие научные идеи, которыми всегда была полна его умная голова. Трудно учесть, какое количество открытий совершили в науке эти ученики, пользуясь идеями и изобретательностью учителя.
Балар не только выглядел, но и душой был моложе своего сверстника Дюма (оба родились в 1802 году). И все-таки он ушел из жизни на восемь лет раньше Дюма, в 1876 году…
Встреча с мадам Пастер, ее слова о муже встревожили Балара.
– Не волнуйтесь, дорогая, я просто не отойду от него. И доставлю домой в полной сохранности.
Между тем заседание уже началось, и Пастер обычным уверенным голосом, не имея перед собой никаких записей, рассказал о работах Салимбени. Говорил он так спокойно и внятно, что Балар подумал: «Быть может, это только обычная мнительность любящей жены?»
Тем не менее он сдержал обещание: после заседания дошел вместе с Пастером до Эколь Нормаль, болтая всю дорогу о разных разностях и то и дело искоса посматривая в лицо собеседнику.
Семья ждала Пастера с обедом. Он, как всегда, тщательно вымыл руки, переоделся и сел к столу. Обедал без всякого аппетита, еда с трудом проходила в горло. Едва дождавшись конца обеда, он ушел к себе и сразу же лег в постель.
Опять эти мурашки по коже. А вот откуда-то, из глубины его существа, поднимается боль. Голова, тело, руки и ноги – все пронзает она… Пастер хотел крикнуть и – не смог. На мгновение потерял сознание, потом снова очнулся от чудовищной боли. Наконец боль отпустила его, и он тихо позвал жену.
Должно быть, она все время стояла под дверью, потому что едва крик сорвался с его губ, как она уже оказалась у изголовья кровати.
Побагровевшее, искаженное лицо Пастера было ужасным. Рот перекосился, и казалось, смерть уже кладет свою печать на это дорогое лицо.
Спохватившись, Мари Пастер выбежала из комнаты и послала сына за врачом. Когда постоянный врач Пастеров доктор Годелье вошел в спальню, больной лежал спокойно, будто спал. Мадам Пастер положила ему на голову пузырь со льдом, зная, что это всегда облегчает ему головные боли.
Ночь была тяжелой. Постепенно у него отнялась вся левая сторона тела. Говорить он не мог.
Наутро дочь Пастера стояла у дверей Эколь Нормаль в ожидании появления школьного врача де Мюсси, за которым послал ее Годелье.
– Скорее зайдите к нам, доктор, – плача, шептала она, – с папой что-то плохое, у него не действует рука и нога… и он очень страдает… Только, пожалуйста, мама просила, не пугайте его…
Встревоженный де Мюсси поспешил к Пастерам. Перед тем как войти к больному, он остановился, чтобы придать своему лицу свойственное ему обычно выражение и только потом открыл дверь.
– Узнал, что вам нездоровится и зашел проведать, дорогой господин Пастер. Но сейчас я вижу, вам уже лучше?
Пастер только грустно улыбнулся. Понимая, что дело серьезное, оба врача решили не брать на себя ответственности за жизнь ученого и пригласили на консилиум парижское светило – доктора Андреаля.
– Пиявки, – немедленно назначил Андреаль, – не менее шестнадцати за уши. Сразу станет легче.
Действительно, стало легче. Настолько, что к утру Пастер заговорил:
– Я бы ее отрезал, она тяжела, как свинец, – сказал он, глазами указывая на парализованную руку.
Это были его первые слова после удара. Но к ночи положение опять стало угрожающим: снова резкий озноб, снова мучительное беспокойство, лицо заострилось, взгляд потускнел.
Как неживая сидела жена возле этого скорбного ложа. Каждые пять минут с неуклонностью маятника она наклонялась к его губам, чтобы услышать поверхностное прерывистое дыхание.
Пастер спал. Сном, похожим на смерть…
А наутро, проснувшись, он с изумлением обзел глазами комнату, словно вспоминая, что тут случилось, посмотрел на осунувшееся лицо жены с новыми, незнакомыми ему морщинками вокруг рта и улыбнулся. Улыбка вышла такая горькая и нескладная, что мадам Пастер с трудом сдержала рыдание: улыбалась только правая половина лица.
Когда в десять часов пришел первый посетитель – встревоженный Сен-Клер Девиль, – Пастер встретил его словами:
– Мне жаль, что я умираю… Так много хотелось бы еще сделать для родины и для науки…
– Вы еще поправитесь, – сказал Девиль, – вы еще сделаете не одно чудесное открытие, вам еще предстоят счастливые дни. Вы переживете меня – я ведь старше вас…
Потом он серьезно и тихо добавил:
– Обещайте мне, что скажете надгробное слово над моей могилой. Я прошу вас, потому что уверен – вы скажете обо мне только хорошее…
По полумертвому лицу Пастера бежали скупые слезы.
– Спасибо, – тихо прошептал он. И нельзя было понять, что это – благодарность за доверие или за попытку утешить его?
Дюкло и Ролен примчались из провинции на другой же день и уже не уходили от Пастеров. Дидон – тот самый, который писал когда-то Пастеру, перед его уходом из Эколь Нормаль, и который теперь работал там препаратором; старый друг Пастера и Шапюи – профессор Бертен, служивший в дирекции Эколь Нормаль; сотрудники и товарищи профессора и друзья – все они предлагали мадам Пастер свою помощь, решив дежурить попеременно у постели дорогого больного.
На шестой день Пастер был крайне возбужден, пытался говорить о своих исследованиях, говорил сбивчиво, взволнованно, часто не договаривал слова, перебегая с мысли на мысль, и раздражался, когда его не понимали. То и дело лицо его покрывалось обильным потом, то и дело он поправлял свою тяжелую парализованную руку. Иногда плакал, и невозможно было видеть этих слез бессилия на лице такого темпераментного, деятельного человека.
В спальне хранили полное молчание. Только в соседнем кабинете, отделенном двойными дверьми, слышался приглушенный шепот. Эта комната ни на минуту не пустовала. Сюда то и дело заходили люди, знакомые и незнакомые; весь ученый Париж, студенты Сорбонны и Эколь Нормаль, врачи и химики побывали за эту неделю в кабинете Пастера.
Пришел старик Дюма. Этот человек, образец выдержки и спокойствия, который никогда не раздражался и на редкость умел хранить про себя свои переживания, вошел бледный, с покрасневшими глазами и категорически заявил, что намерен дежурить в эту ночь.
Доктор Годелье возражал; Дюма настаивал, чтобы спросили самого больного. Доктор Годелье вызвал мадам Пастер.
– Дорогой профессор, я бесконечно тронута вашей заботой, – сказала она, – но вы ведь понимаете, как взволнуется Луи, когда увидит вас в числе дежурящих. Он сразу решит, что мы потеряли всякую надежду. Не ради вас – ради него откажитесь от своего благодеяния…
Дюма склонил голову. Это был единственный повод, который мог заставить его отказаться. Немного успокоившись, он вошел к Пастеру и тихо присел у его ложа. Глаза больного засияли навстречу учителю. И так велико было его успокаивающее влияние, что Пастер впервые за все эти дни почувствовал себя спокойней.
Оба молчали – говорить было не о чем. Они так хорошо знали, так умели читать мысли друг друга, так много было у них общих воспоминаний, что в словах ни тот, ни другой не нуждался.
Сидя у постели разбитого параличом Пастера, глядя в эти ввалившиеся воспаленные глаза, в которых он уловил живой блеск, когда вошел в комнату, Дюма был счастлив, что и на этот раз смог влить в Пастера веру в выздоровление, смог заставить его успокоиться, не делая к тому никаких усилий.
– Он будет жить, – торжественно и уверенно сказал Дюма тем, кто ожидал его в кабинете, – и он еще многое сделает для науки, для Франции, для человечества. Вот увидите!
Когда этот человек ушел, в кабинете как-то сразу изменилось настроение. Будто свежая струя воздуха ворвалось в затхлое помещение, где в унынии, в горестном молчании сидели люди. Столько было веры у старого ученого и так умел он внушать эту веру окружающим, что никто, даже лечащий врач, не усомнился в его предсказании.
И действительно, прошел критический шестой день, и ночью Пастер впервые спокойно проспал несколько часов.
А наутро он заявил жене:
– Мне надо еще многое сделать, после того как я закончу с шелкопрядом; мне еще предстоит открыть целый мир…
И попросил ее записать заметку о флашерии, которую так и не успел продиктовать до болезни. Целый день под разными предлогами Мари Пастер откладывала эту работу, боясь утомить больного.
В эту ночь у его постели дежурил Жерне. Молодой, начинающий ученый, как и все, сразу же попавший под обаяние пастеровской личности, он оказался разумней любящей жены. Он решил, что надо дать Пастеру возможность освободиться от мыслей, которые загружают его мозг, избавиться от опасений, что он забудет, что именно нужно продиктовать.
Как два заговорщика, шептались они в полной ночной тиши – мадам Пастер впервые в эту ночь уговорили немного поспать.
Окончив диктовать, Пастер тихо уснул. А ученик, едва дождавшись утра, помчался к Дюма, чтобы продемонстрировать ему, какие блестящие мысли сверкали в полумертвом мозгу Пастера.
Дюма молча выслушал статью. Потом расчувствовался, обнял Жерне и сказал:
– Я счастлив, что мое предчувствие оправдалось… Трудно поверить, что статья эта продиктована парализованным человеком. Но Пастер не просто человек, не просто ученый – это гений, какие рождаются раз в несколько сот лет…
Он взял статью и тут же отнес ее в Академию. А 26 октября Дюма принес «Отчеты Академии наук», в которых была напечатана заметка Пастера. И как и предполагали самый молодой и самый старый – Жерне и Дюма, так и вышло: опубликованная заметка послужила Пастеру лучшим лекарством. Доктор Годелье разрешил, в виде исключения, в этот день громко прочесть статью собравшимся у постели Пастера друзьям.
На двенадцатый день Пастер уже настолько окреп, что ему разрешили встать с постели и посидеть немного в кресле. Опираясь на руку жены с одной стороны и на руку Дюкло – с другой, он торжественно продефилировал от кровати к креслу, насмешливо приговаривая:
– Ведите старого инвалида, осторожно, не оброните, он может упасть и разбиться…
Мадам Пастер отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. В сорок шесть лет – парализованный!.. Но Пастер твердо решил не огорчать своих близких и потому, словно прочитав мысли жены, ласково заявил:
– Не такой уж инвалид – всего только полупарализованный. И потом я уверен, что со временем это мне перестанет мешать. Одним словом, поменьше, пожалуйста, дрожите надо мной – мне так полезней.
Мадам Пастер молча кивнула, говорить она была не в силах. А Дюкло, отлично понимая настроение Пастера, поддержал его:
– Все идет более чем нормально. Я говорил с нашими светилами в Академии медицины, они утверждают, что выздоровление наступает исключительно быстро, и это вселяет в них уверенность, что в скором времени вы совсем оправитесь.
И, зная, какая затаенная мысль всегда волновала Пастера, Дюкло добавил:
– Академия медицины непрерывно интересовалась вашим здоровьем. У них даже дебаты были по этому поводу…
Дюкло рассчитал правильно: заговорить о медицинской академии – лучший путь, чтобы отвлечь мысли Пастера от его болезни.
– Академия медицины… – пробормотал ок, – эх, если бы я был медиком…
Потом весело подмигнул правым глазом и шепнул:
– Такие ли еще дебаты предстоят им из-за меня!
Дюкло рассмеялся, и мадам Пастер рассмеялась, и Пастер был очень доволен, что они так хорошо поняли его.
Его всегда брала некоторая робость перед намерением вмешаться в «чужую» область – в медицину. Он знал, как ревностно относятся медики к своей науке; знал и другое – очень еще несовершенна эта наука! Паразитарные болезни – они их называют инфекционными – вот что было уже давно его целью, его стремлением, его мечтой. Найти возбудителей болезней, научиться управлять их жизнедеятельностью, научиться обезвреживать их, как он научился делать это с возбудителями болезней вина и уксуса, а теперь и с болезнями шелкопряда. И где-то на самом донышке сознания теплилась надежда: стать когда-нибудь академиком медицины, чтобы ни один медик не мог корить его за то, что он – всего лишь химик – осмелился вторгнуться в их святая святых.
Дюкло угадал – именно такими словами можно было отвлечь Пастера от невеселых мыслей о своей собственной болезни.
Весь час, пока он отдыхал в своем кресле, он думал о будущих исследованиях в области медицины, о женщинах, гибнущих от родильной горячки, о больных, обреченных на госпитальную гангрену и смерть.
Он уже заглядывал с некоторых пор в больницы и вынес оттуда убеждение, что сами врачи являются причиной этих болезней – родильной горячки и госпитальной гангрены. Это было интуитивное убеждение, ни на чем не основанное, ничем не доказанное. Это были гениальные догадки, и Пастер понимал, что до поры до времени должен держать эти догадки про себя.
Ах, скорей бы выздороветь!
Страстная надежда на выздоровление, горячее желание скорее начать работу, помогли его разбитому телу набраться сил. Доктор Годелье с изумлением наблюдал, как быстро шло дело на поправку.
– Молодой, крепкий организм, – говорил он своим коллегам.
– Замечательный, любящий уход, – говорили друзья Пастера между собой.
– Он выздоравливает потому, что не может жить без дела, – сказал Дюма, – его зовут незавершенные дела и те, которые он только собирается начать. Его зовет лаборатория и наука. Вот поэтому он и выздоравливает.
В середине декабря доктор Годелье уже записал в дневнике: «Общее состояние все более и более удовлетворительное. Моральное – прекрасное. Ежедневный прогресс в восстановлении движения в парализованных мышцах внушает больному уверенность в выздоровлении. Он составляет планы будущей шелководческой кампании, принимает, не особенно утомляясь, массу людей, диктует письма».
Праздник наступил в семье Пастеров, когда он, наконец, вышел в столовую обедать, держась за стулья и все время подшучивая над собой. А на другой день – 29 декабря, почти под самый новый 1869 год – прошел несколько шагов без всякой поддержки.
18 января Пастер заставил везти себя на Лионский вокзал. На мягком диване в отдельном купе ехал он до Алэ в сопровождении жены, дочери и верного Жерне. Из Алэ тридцать километров они протряслись в коляске до Сен-Ипполит-дю-Фор.
Пастер великолепно себя чувствовал. Ему не терпелось усесться за микроскоп и посмотреть на куколок и бабочек. Он был уверен, что не найдет в них ни паразитов пебрины, ни грибка флашерии.
Ожидания его оправдались: болезнь шелкопряда была побеждена. Он был так весел, так радостно сияли его глаза, что даже жена, все время беспокоившаяся о его здоровье, наконец перестала волноваться.
– Кто сказал, что это безумие – работать? – говорил Пастер. – Для меня жизнь только тогда чего-то стоит, когда она приносит хоть какую-нибудь пользу.
Из Парижа писал ему Дюма – не устает ли он слишком, не вредит ли это ему? Хотя он, Дюма, отлично понимает, что Пастер должен довести до конца свое патриотическое дело и что это и есть лучшее для него лечение. Дюма просит написать о самочувствии, о том, когда можно навестить его, и, конечно, как дела с греной? Что можно советовать людям, которые обращаются к нему, Дюма, с просьбой достать здоровую грену «господина Пастера», как они ее называют…
Пастер с удовольствием читал письмо учителя, особенно там, где речь шла о грене «господина Пастера». На радостях он, задумавшись, прошелся по мощеному двору и, споткнувшись, упал.
Он громко проклинал свою болезнь, мощеный двор и самого себя. Это падение окончательно приковало его к постели.
Дни его проходили однообразно и насыщенно. Рано утром Ролен, Жерне и Майо поднимались в его спальню, и он давал им задания на весь день. В полдень ему подавали в постель завтрак и читали газеты и письма. В хорошую погоду он на час спускался в сад в сопровождении жены или дочери. Здесь у садового стола Пастер диктовал жене одну страничку из будущей работы, в которой он резюмировал все, что было проделано по болезням шелкопряда. Перед обедом он выслушивал отчет своих сотрудников, обсуждал с ними результаты опытов. После обеда начинались баталии с энергичной и упорной дочкой – настоящей дочерью своего упрямого отца: она наблюдала за тем, чтобы он контрабандой не припрятал книги и под видом отдыха не стал бы их читать. Пастер и сердился и смеялся, а в общем был рад, что дочь не отказывается от своих обязанностей и что она по характеру похожа на него.
Потом усталость брала свое, и к восьми часам он уже засыпал. Ненадолго – после полуночи наступала бессонница, но почему-то она не слишком утомляла его: в эти молчаливые ночные часы он мечтал. Под утро, устав от своих грандиозных планов, он снова засыпал и просыпался бодрым для нового трудового дня.
Этот размеренный порядок нарушился к весне, когда начался сезон воспитания шелкопряда. Специальная комиссия шелководов из Лиона, где находилась экспериментальная шелководня, попросила у него немного здоровой грены. Пастер послал несколько образцов; на каждом из них он написал: «Образец грены, которая окажется здоровой», «Образец грены, которая погибнет от пебрины», «Образец грены, которая погибнет от флашерии». И, наконец, «Образец грены, часть которой погибнет от пебрины, а другая часть – от флашерии».
Тем временем Пастер с семьей и Роленом переехали в Алэ. С образцами здоровой грены разъехались остальные сотрудники: Жерне и Дюкло – на юг Франции, Майо – на Корсику.
Комиссия в Лионе дожидалась, когда шелкопряды пройдут все стадии своего развития, чтобы сделать окончательные выводы. А враги Пастера продолжали шипеть и портить ему все дело. Пастер нервничал из-за этих гнусных инсинуаций и сразу же худо себя почувствовал. Пришло письмо от Дюма: «…Вам нужно держать на расстоянии шарлатанов и завистников. Нельзя рассчитывать, что Вы с ними покончите, но можно пройти мимо них и, идя вперед вслед за истиной, дойти до цели! Что же касается того, чтобы убедить их, заставить замолчать, то на это не рассчитывайте!»
Попробуй пройти мимо них, когда они жужжат над ухом, как несытые оводы!..
Как раз, когда дурное настроение Пастера достигло апогея и мадам Пастер уже опасалась за его здоровье, Дюма приехал в Алэ. Вернулись Дюкло и Жерне. Пришло заключение Лионской комиссии шелководов, восторженно констатировавшей, что все предсказания Пастера сбылись.
Шелководческая промышленность была спасена его, Пастера, усилиями.
– Разве это не главное? – говорит Дюма своим спокойным старческим голосом, – разве ваши ученики и сотрудники не лучшая для вас защита против всех псевдоученых, которые грозятся «разоблачить» и опровергнуть ваш метод? И разве мало у вас неизвестных друзей, и не только во Франции? Разве не получаете вы благодарственные письма со всего света? Все, кто любит науку, приветствуют вашу самоотверженность. Так будьте же вы на высоте и не снисходите до бесплодных полемик!..








