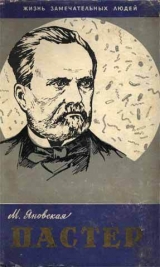
Текст книги "Пастер"
Автор книги: Миньона Яновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
И как раз в это время мэр города Алэ, зайдя как-то к Пастеру, сказал:
– Если все, что вы мне показываете, оправдается в широкой практике, то ваши работы неоценимы и мы воздвигнем вам статую из золота…
Трудно сказать, кого у Пастера было больше – друзей и ценителей или врагов и злопыхателей. Торговцы греной ненавидели его за то, что он снизил их доходы. Ненавидели его и корыстные червоводы, которые не могли продать перекупщикам больную грену и тоже терпели убытки. Вопреки фактам они вопили – это выдумки! Все это не так! – и продолжали разводить больных червей от заведомо больных бабочек и поддерживать очаги заразы.
Возмущался Пастер, возмущались ученые, возмущались члены агрономической комиссии, возмущались друзья Пастера. Один из них, маршал Вайян, агроном-любитель, друг Пастера, решил в Париже проверить метод Пастера. В совершенно неподходящих условиях этот комнатный червовод получил те же результаты, что Пастер в своей лаборатории в Алэ. Маршалу страшно понравилась вся эта процедура – отбор здоровых бабочек, вылупливание великолепных гусениц шелкопряда, превращение их в коконы, в куколки и опять в здоровых бабочек. Он сам рассматривал их в микроскоп, сам во всем убедился. И он поставил перед собой задачу – убедить всех неверующих.
Маршал решил произвести решающий опыт на большой территории и широко распропагандировать его результаты.
На Вилла-Висентина, неподалеку от Триеста, в запущенном имении, вся огромная территория которого была засажена виноградниками и шелковицей, уже много лет шелкопряд не давал доходов: пебрина и флашерия опустошили эти богатые места. Маршал Вайян решил здесь провести опыт. Маршал был не просто маршалом – он был еще и министром двора. А имение было не просто имением – оно принадлежало наследному принцу. Таким образом, можно было убить двух зайцев: увеличить доходы принца и доказать правоту Пастера.
100 унций грены, которая должна была дать 30 килограммов коконов, маршал взял у Пастера. Столько же заведомо зараженной грены отобрал в самом имении. И через три недели пригласил туда Пастера с семьей.
В имении было чудесно, пустынно и тихо. Никто не беспокоил больного ученого, и в ожидании периода выкормки шелкопряда он отдыхал здесь душой и телом. Ежедневно по нескольку часов он диктовал жене рукопись будущей книги о болезни шелковичных червей. Постепенно книга эта вырастала в капитальное двухтомное сочинение.
К апрелю 1870 года оба тома была закончены и подготовлены к печати. Тем временем на Вилла-Висентина впервые за последние десять лет был получен сбор коконов, давший 22000 франков чистого дохода. Львиная доля его досталась наследному принцу, владельцу имения, и только незначительная сумма – арендаторам.
Восемь месяцев прожил Пастер в этом благодатном уголке. Восемь месяцев, принесших ему полное торжество и великую благодарность крестьян, для которых он явился спасителем.
В начале июля Пастер был уже в Париже и сразу попал словно бы в другую эпоху: столица Франции готовилась к войне.
В кабинете помощника директора Эколь Нормаль, старого друга Бертена, собрались студенты. Это была прощальная вечеринка перед отъездом в действующую армию. Здесь же присутствовал и сын Пастера, который тоже уходил в ряды армии. И Сен-Клер Девиль, разом осунувшийся и постаревший, такой изменившийся, что его нельзя было узнать.
– Ах, дети мои, мои бедные дети, мы погибли! – со слезами на глазах говорил Девиль. И это так не похоже было на всегда веселого, оптимистически настроенного Сен-Клера, что Пастер содрогнулся.
– Расскажите мне, что творится, – попросил он, – ведь вы же только что из Германии.
– Очень все страшно, очень безнадежно, – горестно говорил Девиль, – на наших границах сосредоточено такое количество вооруженных до зубов пруссаков, что нам несдобровать… У Франции нет настоящей армии, нет вооружения и амуниции, арсеналы пусты… Эта война – гибель для Франции.
– Не надо так отчаиваться, – вмешался молоденький черноглазый студент, – армия будет, молодая и сильная, патриотизма у нас хватает. Франция не может погибнуть!
Пастер просветлевшими глазами посмотрел на юношу и вдруг заявил:
– Ну что ж, и я с вами. Пойду в волонтеры…
На минуту смолкла расшумевшаяся молодежь.
Сын Пастера невольно приблизился к отцу. Бертен схватился за голову. Девиль, оправившись от изумления, только воскликнул:
– Вы с ума сошли!
Полупарализованный, совсем разбитый, в эти минуты Пастер походил на призрак; но столько решимости и гнева было в лице этого призрака, столько упрямства в глазах, что никто больше не решился сказать ни слова.
Наутро Бертен зашел к Пастеру.
– Уезжай, – сказал он, словно вчерашнего заявления и не было, – ты будешь лишним ртом в осажденном Париже.
Пастер горько улыбнулся шутке друга и только собрался что-то сказать, как дверь снова открылась. Вошел Балар.
– Что это я слышал, дорогой Пастер, о каких волонтерах речь? – прямо с порога спросил он.
Пастер удивленно посмотрел на Балара. Мало того, что старик пришел, не дожидаясь, пока сам Пастер навестит его, – он уже успел узнать об этой сорвавшейся вчера фразе!
Поистине это было утро неожиданностей: не успел Пастер ответить Балару, как снова открылась дверь и вошел Дюма.
– Рад вас видеть здоровым и бодрым, дорогой Пастер. Теперь здоровье вам особенно пригодится – надо работать и работать в тяжелый для родины час.
«Сговорились, – подумал Пастер, – Бертен все рассказал… Но как это, однако, трогательно!»
Он молча отвернулся к окну, и взгляд его натолкнулся на склоненную над шитьем голову жены. Мадам Пастер сидела здесь тихонько, никем не замеченная и, скрывая волнение, прислушивалась. Пастер подошел к ней, погладил милую, уже седеющую голову и шепнул:
– Не волнуйся, родная, я не буду безрассудным…
В этот же день пришло письмо от Дюкло из Клермон-Ферран, где он профессорствовал. Дюкло звал учителя и всю его семью к себе, обещал создать все условия для научной работы Пастера.
Но Пастер уехал в Арбуа. Не сразу – на другой день после Седанской битвы и падения империи. Где-то там, на залитых кровью французов полях, воевал его сын. Быть может, его уже не было в живых – за все время они не получили оттуда ни одного письма…
Сраженный отчаянием, со страшной душевной болью покидал Пастер Париж. Сколько горестей перенес он за сорок восемь лет своей жизни, сколько близких и дорогих людей похоронил за это время, сколько претерпел от своих врагов и противников, но только теперь понял он, что такое настоящее горе. Горе, от которого он уже не мог оправиться всю свою дальнейшую жизнь.
Франция под пятой врага. Его дорогая веселая родина. Подкованные железом сапоги победителя топчут цветущую красоту его страны. Он физически ощущал боль земли под этими сапогами и горько думал – как и почему это могло случиться?
Между тем прусская армия, разгромив французов, опустошала страну и стояла под Парижем. С ужасом узнавал Пастер о событиях и невыносимо страдал от своей беспомощности. Он пытался забыться в работе, съездил к Дюкло и поставил там ряд опытов, вернувшись к прежней теме брожения. Он занимался болезнями пива, с патриотическим намерением сделать французское пиво лучше, чем немецкое. Он даже написал гневное письмо декану медицинского факультета Боннского университета и отослал свой почетный диплом этого университета.
Все это было не то, не то. Его товарищи по Академии наук служили сейчас родине куда как более ощутимо, чем он. Изучали вопрос о хлебе – как сделать, чтобы примеси к нему были безвредными и чтобы хлеба хватало голодному народу. Изучали вопросы консервирования продуктов. Выращивали лекарственные растения, занимались гигиеной…
И вдруг лицо его просветлело, он прочел в этих отчетах нечто, что заставило забиться его измученное сердце. Он прочел два письма военного хирурга Седилло, заведовавшего походным госпиталем в Эльзасе.
«Страшная смертность среди раненых, – писал Седилло, – привлекает внимание всех друзей науки и человечества… Озадаченные и колеблющиеся хирурги стараются установить какие-то принципы и правила, которые немедленно опровергаются последующей практикой… Места сосредоточения раненых можно сразу узнать по резкому запаху гниения. Сотни, тысячи раненых с бледными лицами, на которых еще не угас последний луч надежды на жизнь и воля к жизни, погибают на 8–16 день от госпитальной гангрены…»
Содрогался Седилло, когда писал эти строки. Содрогался Пастер, читая их. Но вот – что это? В письме упоминается Листер, английский хирург Листер, который изобрел нечто, названное им «антисептикой»…
Пастер забыл обо всем на свете, читая эти строки. Оказывается, за четыре месяца до начала войны этот Джозеф Листер опубликовал труд для руководства хирургов, и труд этот ясно и четко говорил о новом методе борьбы с госпитальными осложнениями. И никто во Франции и не подумал применить этот метод на фронтах, никто, должно быть, из хирургов и не знал о нем!
А между тем этот англичанин, который всего на пять лет моложе его, Пастера, прямо ссылается на его работы по брожению. Эти работы и натолкнули Листера на новый метод борьбы за жизнь раненых и хирургических больных, на метод, который явился поворотным этапом в истории хирургии, началом новой эпохи для медицинской науки.
Что же это за госпитальная гангрена? В какой связи стоит она с процессами брожения? И неужели никто до Листера не обратил внимания на эту связь?
То, что гниение ран вызывает ухудшение здоровья и смерть, издавна было известно хирургам. Гнилостное заражение было чрезвычайно распространено. В госпиталях стоял невыносимый запах гниения, такой же запах, какой издает гниющая говядина, тухлые яйца, разлагающийся труп. И уже с очень давних пор сложилось мнение, что гниение и брожение тесно связаны с хирургическими осложнениями ран, что, по всей вероятности, это одно и то же явление, вызываемое одними и теми же причинами. Но какими?
Хирургические палаты были очагами заразы. Раненого человека, у которого всего только был раздроблен палец ноги, клали в госпиталь, и тут он погибал после операции от госпитальной гангрены. Дорога из хирургического госпиталя вела прямо на кладбище.
Страшные строки оставил на память потомкам великий русский хирург Пирогов: «Если я оглянусь на кладбище, где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему больше удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у правительств и общества!»
Чисто эмпирическим путем умные, думающие хирурги пришли к выводу, что они сами и являются разносчиками заразы – их руки, их халаты, их инструменты, перевязочные материалы, самые помещения. Было очевидным, хотя никто не мог тогда доказать этого, что зараза носится где-то в воздухе, что раненые заражаются гангреной уже тут, в госпитале, на операционном столе. Что даже простой укол иглой открывает путь болезни, которую никто не может оборвать и которая ведет к могиле.
Хирургия уперлась в тупик: вместо того чтобы спасать людей, она ускоряла их смерть.
«Миазма, заражая, сама и воспроизводится зараженным организмом. Миазма не есть, подобно яду, пассивный агрегат химически действующих частиц: она есть органическое, способное развиваться и возобновляться», – писал Пирогов, гениально предвидя открытие микробов – возбудителей болезни.
И раз эта «миазма», еще никем не увиденная, никому не ведомая, но такая грозная, не поддается борьбе с ней, значит надо предохранять организм от этих миазм, не давать ему соприкасаться с ними.
В 1830 году другой русский хирург и анатом, И. В. Буяльский, писал: «…предохранительным средством для операторов и акушеров, повивальных бабок, врачей и фельдшеров как при операциях, внутренних осмотрах, при перевязывании ран гангренозных, раковидных, венерических и бешеными животными нанесенных, так при вскрытии мертвых тел является тщательное мытье рук раствором хлорной извести».
Пирогов применял при лечении ран раствор извести, азотнокислое серебро и йодную настойку. В своей Петербургской клинике он выделил особое отделение для больных рожей и гангреной, чтобы предупредить распространение инфекции.
Многие хирурги стали накладывать на раны повязки, чтобы предохранить их от заражения извне. Эти меры снижали смертность, но незначительно и только в очень немногих госпиталях.
Все это были только интуитивные догадки, хирурги шли ощупью в темноте, и только кое-где, как неровный свет фонарика, вдруг ненадолго вспыхивала догадка. И, как свет фонарика, она освещала только очень небольшое пространство, не выходя за пределы данного госпиталя. Высказанная вслух, но ничем не доказанная, всякая подобная догадка встречала отпор маститых ученых, и их протесты сводили на нет все попытки бороться с заразой.
«Миазмы» Пирогова опровергал Либих. С убежденностью, достойной лучшего применения, писал он в своей брошюре, вышедшей в 1852 году: «…некоторые формы разложения и гниения вещества могут передаваться составным частям организма. Придя в соприкосновение с гниющим веществом, составные части органов могут приводиться в состояние, сходное с тем, в котором находилось оно само…» Получающееся таким образом заразное начало, носящее в себе признаки разложения, а не жизни, «может распространяться посредством твердых, жидких или газообразных продуктов, без того, чтобы в нем участвовала какая-либо иная более прямая причина». Никакой прямой причины, никаких «миазмов» и «инфузорий», в природе всегда есть что-нибудь гниющее, которое может передаваться «газообразными, твердыми и жидкими телами». А как, позвольте спросить, бороться с этим? Бороться невозможно потому, что бороться не с чем.
Эта теория Либиха и других вела к обреченности, сводила ни к чему все попытки хирургов так или иначе предохранить от заражения и смерти. По этим теориям выходило, что в раненом организме заранее присутствует гниющее вещество, что оно само по себе все равно будет развиваться и ничего с этим не поделаешь.
А тут еще подоспела теория «клеточной патологии» Вирхова, ставшая в скором времени господствующей в медицине.
В своей статье «Целлюлярная патология», вышедшей в 1855 году, немецкий ученый Вирхов, одним из первых введший в практику медицины микроскоп и старавшийся как можно глубже проникнуть в сущность болезненных явлений, писал: «Для всякого живого существа клетка является последним морфологическим элементом, из которого исходит всякая жизненная деятельность, как нормальная, так и патологическая». «Ненормальная деятельность клеток является источником различных заболеваний». «Клетка является осязаемым субстратом патологической физиологии, краеугольным камнем в твердыне научной медицины».
Клетка – начало и конец, болезнь организма – болезнь клетки. Отчего нарушается деятельность клетки, Вирхов, правда, не говорил; но на робкие голоса, раздававшиеся то тут, то там, о мельчайших живых существах, которые внедряются извне и приносят с собой болезнь, не желал обращать внимания. Даже в тех случаях, когда в больных органах он наталкивался на микроскопические организмы, он считал, что они появились уже после и в результате болезни клетки.
Вирховская теория победоносно шагала по науке, завоевывала себе огромное количество приверженцев и потому, что была, в общем прогрессивной по сравнению с господствующей до нее гуморальной теорией и по своей заманчивой простоте и убедительности.
Голоса ученых, пытавшихся хоть что-нибудь поставить в ней под сомнение, тонули в хоре восхвалений клеточной патологии и почти не имели сторонников.
Между тем никакая клеточная патология, никакие химические контакты Либиха не могли ни объяснить причины массовой гибели раненых в госпиталях, ни, тем более, помочь бороться с нею.
Во время Крымской войны из Французской армии в 300000 человек было убито 3,3 процента, от болезней же и от последствий ранений погибло 27,6 процента, то есть более четверти всей армии. При ампутации бедра оставалось в живых всего 8 процентов. Гнойное заражение развивалось почти во всех перевязочных пунктах. В русской армии за три года боев от болезней и ран погибло в двадцать раз больше людей, чем было убито на поле боя. Казалось, хирургия изжила себя, из спасительницы превратилась в губительницу. Даже оставленные без операции раненые, не попадавшие в госпиталь, чаще выживали и выздоравливали, чем те, к кому прикасались руки хирургов.
В английском городе Глазго молодой хирург Джозеф Листер упорно искал выхода из этого тупика.
В 1860 году он поступил в хирургическую клинику глазговского госпиталя. Клиника была построена там, где прежде находилось холерное кладбище; трупы погибших в эпидемию зарывались кое-как, совсем близко от поверхности земли. Испарения от разлагающихся трупов проникали в палаты. Вот почему в клинике не прекращалось рожистое воспаление, гангрена, нагноения. Это была сплошная эпидемия, и единственной возможностью спасения больных был перевод клиник в более здоровое место.
Так объясняли хирурги то, что тут происходило, когда Листер с расширенными от ужаса глазами знакомился с госпиталем.
Листер был умным, талантливым хирургом, и он очень любил человечество. Не мог он допустить, чтобы в доме, где должны возвращать здоровье, люди гибли в огромном количестве. И не верилось ему, что воздух кладбища вызывает все эти заражения. Листер стал лихорадочно читать литературу – нет ли где-нибудь хоть какого-либо просвета в этом темном царстве.
Листер читал и читал, поглощая огромное количество книг по медицине, зоологии, ботанике, химии. И вдруг он наткнулся на брошюру французского химика Пастера. Прочитав ее, кинулся на розыски других его статей. И когда познакомился с работами по брожению, гниению и самозарождению, когда прочел о простых и убедительных опытах, – сразу же, без оглядки поверил в его правоту.
Так было понятно, что брожение и гниение – одни и те же процессы, что вызываются они микроскопическими организмами, их жизнедеятельностью; что эти организмы имеют родителей и никогда не возникают из ничего; что зародыши их носятся вместе с пылью в воздухе. И главное – эти живые организмы, как и все живое, не только рождаются и производят потомство – они еще и умирают. И не только своей естественной смертью, их можно при желании уничтожить – они боятся высокой температуры, могут жить только в веществах, пригодных для питания, им нужна определенная среда, иначе они не могут существовать. И если в эту среду прибавить то, чего они не любят, они погибнут.
И еще Пастер писал, что в хорошо закупоренном сосуде, из которого удален полный пыли воздух, а с ним и зародыши, любая жидкость может неопределенно долгое время оставаться в сохранности. Но стоит только открыть в сосуд доступ взвешенным частицам воздуха, как жидкость начинает гнить.
В напряженном мозгу Листера мелькнула гениальная идея, и, как все гениальное, она была предельно проста. Пока кожа человеческого тела цела, в организм не проникает воздушная пыль, а с ней и зародыши. Но стоит нарушить кожный покров, открыть доступ этим микроорганизмам внутрь тела, как они начинают там жить и развиваться, отнимая у организма питательные вещества, вызывая в нем в результате своей жизнедеятельности гниение.
Вот откуда рожистые воспаления, гангрена! Вот откуда этот гнилостный запах в хирургической кликике, от которого тошнит даже привычного к нему хирурга!
Листер имел все основания так рассуждать: ему не раз за время его хирургической практики приходилось наблюдать, насколько лучше и легче заживают закрытые переломы, когда сохранен кожный покров, и к каким осложнениям приводят открытые, когда повреждена кожа.
И молодой хирург решил уничтожать невидимых могильщиков до того, как они начнут развиваться в организме человека.
Пастер пишет, что микроорганизмы боятся разных химических веществ. Пожалуй, карболовая кислота не должна им понравиться, подумал Листер, и решил поливать рану кислотой слабой концентрации. Повязку, которую клали на рану после операции, он тоже пропитывал карболовой кислотой. Но и этого ему показалось недостаточно – убивать так убивать: он стал еще распылять раствор карболовой кислоты в операционной комнате.
Поразительные получились результаты! На том же самом холерном кладбище, в том же самом госпитале, в тех же палатах, где до этого погибало от послеоперационных осложнений восемь человек из десяти, вдруг прекратились смертельные воспаления.
В 1865 году, когда Пастер занялся лечением болезни шелковичных червей, Листер уже спасал его методом людей. В том году он выпустил в свет свою первую статью «О новом способе лечения осложненных переломов, нарывов и т. д.». Он утверждал, что процессы гниения и разложения в ранах обусловлены микроорганизмами и что уничтожить эти организмы совсем нетрудно. Через два года, после уже значительной практики, подтвердившей несомненную пользу его метода, Листер написал второе сочинение: «Об антисептическом принципе в хирургической практике».
Казалось бы, хирургам ухватиться за это верное и простое средство спасения людей. Но не тут то было: Листера подняли на смех. Старые заслуженные профессора хирургии приняли метод Листера как личное оскорбление: заливать гангрену карболкой!
– Возмутительно, – кричали они, – пугать каких-то неведомых зверюшек, которых ни одна человеческая душа не видела в воспаленной ране, морем карболовой кислоты! Какая же это наука?!
Листер не слушал насмешек – он делал свое святое дело и был счастлив, когда подсчитал: из сорока ампутаций, произведенных им за два года, тридцать четыре закончились выздоровлением. Цифра, не слыханная до тех пор в хирургии! И эта цифра подействовала лучше всяких других доводов и слов.
Листер широко пропагандировал свой метод. Он приглашал желающих посетить его клинику и убедиться своими глазами. Он разбивал их скептицизм наглядными примерами, и в конце концов они сдались и потихоньку друг от друга окунулись в «карболовое море».
В 1870 году, за четыре месяца до начала франко-прусской войны, Листер прочел свою знаменитую лекцию, перевернувшую всю хирургию, и опубликовал ее в «Обзоре научных течений». Лекция была посвящена проникновению микробов в гнойные очаги и борьбе с ними – антисептике.
Эту лекцию и читал теперь Пастер, после того как из письма Седилло узнал о листеровском методе, созданном по его, пастеровской, идее.
С одной стороны, Пастер был счастлив, что его труды натолкнули Листера на идею антисептики; с другой – сердце его больно сжималось: французские медики не применяли ее до сих пор. Одно утешение – на родине Листера тоже не сразу удалось пробить стену равнодушия и косности…
Утешение, конечно, слабое: люди тысячами гибнут от госпитальных заражений, как это пишет Седилло, а хирурги – хирурги, наверно, и понятия не имеют об антисептике.
Почему же Французская Академия медицины не пытается просветить их? Почему не заставляет применять карболовую кислоту во всех госпиталях, начиная от фронтовых и кончая парижскими? Теперь, во время войны?..
Во время войны… Пастер плохо представлял себе все размеры страшного бедствия, принесенного Франции войной. Он питался отдельными печатными сообщениями, письмами друзей, слухами. Что происходило на самом деле, он не знал. К счастью для себя.
А происходило вот что.
4 сентября, на второй день после отъезда Пастера, произошли революционные выступления парижских рабочих, которые провозгласили республику. Образовалось буржуазное «правительство национальной обороны» во главе с реакционным генералом Трошю, при участии А. Тьера, Ж. Фавра и других ярых врагов демократии. Прусские войска вторглись в глубь Франции. Правительство Трошю повело изменническую политику – пошло на соглашение с немцами. Захватчики оккупировали значительную часть Франции, ее промышленные департаменты и 17 сентября 1870 года начали осаду Парижа. Оккупанты грабили население, французы возмущались зверствами и грабежами. На оккупированной территории действовали партизаны. В Париже большинство населения вошло в батальоны добровольческой Национальной гвардии. А правительство, обманывая народ, шло на любые сговоры с захватчиками. Дважды парижские трудящиеся пытались свергнуть правительство – 31 октября 1870 года и 22 января 1871 года. Оба раза регулярные войска подавляли восстания.
28 января 1871 года правительство подписало перемирие на тяжелых, унизительных для Франции условиях. 17 февраля заседавшее в Бордо Национальное собрание, в котором большинство было реакционеров-монархистов, назначило Тьера главой исполнительной власти. Через 10 дней Тьер подписал с Бисмарком Версальский мирный договор, по которому Франция уступала Германии Эльзас и Лотарингию и соглашалась на уплату 5 миллиардов франков контрибуции. В ночь с 17 на 18 марта
Тьер направил войска на Монмартр и в другие рабочие кварталы Парижа, чтобы отнять у Национальной гвардии пушки. Началась гражданская война. Трудящиеся Парижа восстали в третий раз. Правительство бежало в Версаль.
18 марта власть в Париже перешла к Центральному комитету Национальной гвардии. Это было начало Парижской коммуны.
Версальцы и немецкие интервенты блокировали Париж, а 21 мая 1871 года войска Тьера и Бисмарка ворвались в город через ворота Сен-Клу. Начались недолгие и неравные баррикадные бои.
28 мая Парижская коммуна пала.
В феврале 1871 года, когда Тьер подписал позорный мир, Пастер жил в Лионе. Ему не сиделось тут – он рвался в Париж, к друзьям и ученикам, в свою лабораторию, к своим занятиям.
Пастер ждал. Но не был бездеятелен. Он написал свою знаменитую статью: «Почему Франция не сумела в опасный период найти истинно великих людей?» Он писал эту статью как ученый, как патриот, понимавший великое значение научных успехов не только для общественной, но и для моральной силы нации.
«Культ наук в самом высоком смысле слова, – писал Пастер, – возможно, еще более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации… Жертва своей политической неустойчивости, Франция ничего не сделала для того, чтобы поддержать, распространить и развить достижения науки в нашей стране… так как им она обязана была своим материальным процветанием. Она не заметила, что неблагоразумно дала иссякнуть этим источникам, а соседние страны отвели эти источники в свое русло и неустанной работой, ценой усилий и жертв добились того, что они снова стали плодотворными… В то время, как Германия создавала все новые и новые университеты, окружала своих преподавателей и ученых почетом и уважением, воздвигала обширные лаборатории, снабжая их лучшим оборудованием, Франция… уделяла лишь самое незначительное внимание своим высшим учебным заведениям… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей…»
И погруженный в мысли о будущности французской науки, Пастер лихорадочно ищет применения неисчерпаемым силам своего ума.
Его не раз приглашали за границу, итальянские университеты спорили за него, переманивая друг у друга. Но он не хотел и не мог покинуть родину и не выехал из Франции.
В марте, когда в столице была объявлена Парижская коммуна, Пастер воспрял духом. «У меня голова полна прекраснейших планов работы, – пишет он Дюкло в Клермон-Ферран. – …Сейчас я готов к новым трудам. Неужели я тешусь неосуществимыми иллюзиями? Во всяком случае, я попытаюсь».
И в этом же письме прорывается горький крик, который открывает душевное состояние Пастера: «Ах, почему я не богат, почему я не миллионер, я бы сказал Вам, Ролену, Жерне, Ван-Тигему и всем другим: «Приезжайте, мы преобразуем весь мир нашими открытиями!» Как Вы счастливы, что Вы молоды и здоровы! О, почему я не могу начать новой жизни, посвященной науке и труду? Бедная Франция, почему я бессилен помочь тебе оправиться после разгрома!»
Был конец мая. «Бедная Франция» в это время заливалась кровью на улицах Парижа. 30000 коммунаров погибло в эти дни, 30000 молодых и старых парижских рабочих, их жен и детей.
В эти скорбные весенние дни 1871 года, когда в Париже рушились последние баррикады, Пастер переживал период тяжелого уныния. По вечерам, сидя в своем временном жилище с женой, он говорил мадам Пастер:
– Сейчас каждый француз должен задавать себе только один вопрос: в какой мере я могу быть полезным родине? Несмотря на все, что произошло, несмотря на наше поражение, на страшные, позорные условия мира, на полное разорение страны, я верю в прогресс, верю в науку, верю даже в то, что смогу что-то сделать для французского народа…
Нет, он не мог больше сидеть в Лионе!
И он откликается, наконец, на приглашение Дюкло и едет к нему в окрестности Клермон-Ферран, чтобы заняться там разведением шелкопряда.
Он решил довести до конца исследования по флашерии. Внутри крохотных вибрионов, возбудителей этой болезни, он обнаружил еще более крохотные, едва приметные даже в микроскоп, блестящие тельца-зародыши, невероятно стойкие ко всякого рода неблагоприятным воздействиям, способные продержаться несколько лет в червоводне. Он уже знал цену этим спорам-зародышам: он наблюдал их при маслянокислом брожении. Это были очень опасные враги, еще более опасные, чем зрелые паразиты. Бороться с ними было невероятно трудно, никакие меры, которые губили зрелых особей, на них не действовали. И они могли много времени спустя, когда, казалось бы, болезнь побеждена, вдруг развиться и дать потомство, заново вызвать эпидемию. Поэтому-то флашерию значительно труднее побороть, чем пебрину.
Он завел обширную переписку с червоводами и с общинами, которые, по его мнению, должны были обзавестись микроскопами, чтобы осуществлять отбор здоровых и больных куколок и бабочек. Он широко пропагандировал свой метод, дотошно проверял сам все опыты, выяснял причины неудач. Двери его временной лаборатории у Дюкло были широко открыты для червоводов.
Затем он вернулся к болезням пива и довольно быстро покончил с ними. Он ежедневно ходил на пивоваренный завод и ставил опыты дома и в конце концов дал такой рецепт пивоварения и предохранения его от порчи, что уже в скором времени французское пиво стало цениться как одно из лучших в мире.
Так он отдавал свои силы на восстановление материального благополучия Франции. Так он помогал своей измученной и обнищавшей стране выплатить кабальную военную контрибуцию.
А потом он вернулся в Париж и сразу же попал в объятия Бертена, Дюма и Балара.
И тут же заявил им:
– Болезни пива еще раз столкнули меня с бесконечно малыми организмами. И еще раз я убедился, что все болезни, передающиеся от одного больного насекомого к другому или из одного чана с суслом в другое, все они вызываются организованными существами. Теперь я уже прямо пойду к цели: я хочу показать, что и заразные болезни человека и животных не что иное, как жизнедеятельность микробов.








