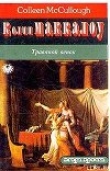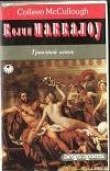Текст книги "Марий и Сулла. Книга первая"
Автор книги: Милий Езерский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
V
После долгих скитаний по деревням и виллам Тукция добралась наконец до Рима.
Тело ее зажило, но мысль о надругательстве терзала сердце. И ей казалось, что Рим кипучей жизнью и шумом изгладит все воспоминания. «Там я затеряюсь, как песчинка, – думала она, – и никто меня не найдет. Да и кому я нужна?»
В предместьи Рима она искала работу, но не нашла и, не зная, что делать, побрела в город.
Солнце уже закатывалось.
«Где ночевать, что есть?»
Кроме кусочка хлеба и луковицы, съеденных накануне, она не имела ничего во рту, чувствовала слабость, приуныла.
Выйдя на Via Appia, она растерянно огляделась. Неширокая улица кипела в сгущавшихся сумерках. Кое-где вспыхивали уже огоньки. Навстречу шел народ, растекаясь, исчезая в переулках, а оттуда, как волны, наплывали новые толпы.
Неумолкаемый шум голосов, крики рабов, бежавших впереди лектик, на которых полулежали нарядные матроны, подпоясанные под грудями, эллинки-гетеры, патриции с повязками на икрах для щегольства, смех белокурых блудниц, их зазывные глаза, подведенные сурьмою, возгласы продавцов сладостей и прохладительных напитков – все это ошеломило Тукцию.
Она остановилась у таверны, из которой пахнуло ей в лицо чесноком и чечевичной похлебкой, и почувствовала еще больший голод. Она подумала, что отдала бы все за кусок хлеба, и, оглядев свою пыльную одежду и ноги, обутые в грубую воловью обувь, тяжело вздохнула. Никто не обращал на нее внимания. Долго она блуждала по городу.
Давно уже на площадях зажгли светильни, давно уже уменьшился людской поток, а она шла, точно неведомая сила гнала ее вперед.
Так она добралась до храма Кастора и Поллукса. И, совсем обессилев, опустилась на ступени, чтобы отдохнуть. Ноги дрожали и как бы гудели, в ушах шумело.
Уронив голову на руки, она застыла в неподвижном положении убитой горем женщины. Долго ли так просидела – не помнила.
Кто-то тормошил ее за одежду. Она испуганно отшатнулась: перед ней стоял человек высокого роста, в тоге. Лица его она не могла рассмотреть: он повернулся спиной к свету, и только волосы его, скупо освещенные над ушами, поразили ее золотистым оттенком.
– Уже не молишься ли ты на ступенях храма? – смеясь, спросил он звучным голосом. – Проходя мимо, я подумал было, что вижу Ниобею, и потому дернул тебя за тунику.
Она молчала.
– Неужели боги лишили тебя языка? Ты, конечно, женщина из деревни и ищешь в городе работу… Но ты ничего не нашла, кроме ступеней этого храма. Что ж? Лицо твое красиво, ты молода, Венера сопутствует тебе, и ты можешь дарить ласками мужей…
– Господин мой, я не привыкла к такой жизни… Она пошатнулась (у нее кружилась голова) и чуть не упала.
– Что с тобой? – спросил он, помогая ей усесться.
– Я голодна, господин мой, я не ела… давно уже не ела…
– Встань, обопрись на меня. Я накормил тебя.
Шла за ним, как собака, не смея отстать, плохо понимая его слова.
Они остановились у фонаря, освещавшего вывеску, на которой был изображен фонтан в гуще зеленых деревьев, а у водоема девушка, кормящая гусей.
– Войдем?
Подслеповатый вольноотпущенник в старом пилее, изъеденном молью, подбежал к ним.
– Sаlve, domine noster! [2]2
Здравствуй, наш господин!
[Закрыть] – приветствовал он, воздев с благоговением руки, как перед молитвою.
Очевидно, человек был завсегдатаем этой гостиницы, а хозяин ее – клиентом, потому что вольноотпущенник беспрерывно кланялся, и каждый раз все ниже, пятясь к середине атриума, точно перед ним стоял знаменитый муж, гордость республики.
Два светильника горели, потрескивая: один у имплювия, другой – у ларария. Пылал очаг, на нем жарилось мясо. Пахло бараньим жиром. Вода цистерны отражала буйное пламя, выбивавшееся из очага, как прядь рыжих волос, шевелимых ветром.
Тукция с любопытством взглянула на своего покровителя. Лицо его, красное, усеянное белыми пятнышками, было некрасиво, пухлые толстые губы презрительно выпячивались, только голубые глаза и золотистые волосы поражали редкой красотою.
– Приготовишь для нас кубикулюм, – говорил он, подходя к столу, – но сперва накормишь нас по-царски. Что у тебя есть?
– Жареное мясо, полента, бобовая похлебка со свининой, пирожки с начинкой, гусиная печенка…
– А вино?
– Есть и вина: хиосское, родосское и твое любимое – опимианское… Ты можешь, господин, взглянуть на тессеру и увидишь год консулата и месяц разливки в амфоры…
– Bene, bene… Perdisi iam, Tite, horam totam; diu te expecto puellae nutriendae causa. [3]3
Хорошо, хорошо. Ты уже потерял, Тит, целый час; жду тебя долго, чтобы накормить девушку.
[Закрыть]
– Non me irascere, domine! [4]4
Не гневайся на меня, господин!
[Закрыть] – вскрикнул хозяин, по спешно направляясь к очагу.
Тукция набросилась на еду: она глотала кушанья не прожевывая, почти давясь, и человек с презрительной улыбкой смотрел на ее жадность. Его забавляли: и алчный взгляд женщины, и капли пота, выступившие на лбу, и порывистые движения, когда она хватала куски мяса, и слезы на глазах, когда обжигалась.
Он велел хозяину распечатать амфору и налить вина в кубки.
– Пей, – подал он полный фиал женщине, – пей за нашу любовь…
Тукция взглянула на него сонными глазами. Горячие кушанья разморили ее.
– Пей, – повторил человек.
Она отрицательно мотнула головой, но он, ухватил се за шею, поднес фиал к ее губам и заставил выпить.
Потом она, не сознавая, что делает, выпила еще и опьянела.
Человек смотрел на нее с усмешкой.
«Голодная плебейка, – думал он, – жадная свинья, готовая на все ради желудка. И все же – она хороша».
Он допил вино, помог ей встать и повел в кубикулюм, где уже горела светильня, зажженная услужливым хозяином.
VI
Проснувшись на другой день, Тукция долго не могла сообразить, почему она находится в чужом кубикулюме, а когда вспомнила вчерашний вечер, быстро вскочила, выбежала в атриум.
В дверь, открытую на улицу, врывались потоки солнца.
«Феб-Аполлон уже выехал на золотых конях», – подумала она, вспомнив любимое выражение старого Мария, и огляделась.
От очага поднялся хозяин, недружелюбно взглянул на нее.
– Выспалась? Слава Вакху! Вчера ты так объелась и опилась, что потеряла облик женщины… Что стоишь? Неужели ты думаешь, что я буду кормить тебя сегодня?
Вспыхнув, она рванулась к двери.
– Подожди! Господин оставил для тебя десять нуммов. Бери и уходи. Да моли богов за здоровье и благоденствие Люция Корнелия Суллы.
Она взяла деньги и вышла на улицу.
Целый день бродила опять по городу, сжимая в руке серебро.
К вечеру она очутилась у лавок, где толпились полуодетые женщины. Смех и крикливые голоса оглушили ее. Она растерянно остановилась, не зная, куда идти.
– Эй ты, шкура, – кричала старая блудница с дряблыми обнаженными грудями, обращаясь к молодой, с подведенными сурьмой глазами, – хорошо выпотрошила своего Адониса?
Молчи, ночной горшок! – вскрикнула молодая и засмеялась.
– Собирались женщины, простоволосые, неряшливые, и хохотали. Старуха вцепилась девушке в волосы. Толпа окружила их. Тукция видела, как они, визжа и воя, упали на грязную землю и покатились, нанося друг дружке удары по голому телу.
– Так ее, так! – слышались голоса.
Тукция пошла вперед на огни, озираясь, полураскрыв рот от изумления. Узкая улица казалась усаженной красными цветами в темной вышине, – это светились фонари, напоминавшие формою фаллус. Их было так много, что глаза разбегались.
«Где я?» – подумала она и тотчас же догадалась («Вот Делийский мост»), что находится в квартале, называемом Субуррою. Остановилась перед богатым лупанаром.
Над воротами его красовался освещенный фаллус, во дворе журчал фонтан, и брызги с легким шумом падали в цистерну, а рядом стояла статуя волосатого не то фавна, не то сатира, с козлиными ногами и рогами.
– Приап, Приап! – радостно засмеялась Тукция и захлопала в ладоши, узнав бога плодовитости и продолжения рода; таким он был в Арпине и Цереатах, таким же стоял в ее кубикулюме, покинутом навсегда.
К ней подошел сторож с провалившимся носом и гноящимися глазами.
– К нам хочешь? – спросил он, оглядывая Тукцию, как покупатель – лошадь. – Поговори с хозяином. Вот он… видишь?
Вместо отвратительного человека, которого она ожидала увидеть, у водоема сидел муж с веселыми глазами и улыбкой на губах?
– К нам? – взглянул он на нее. – А где работала? Знаешь любовное ремесло?
Она стояла в нерешительности.
– Я возьму тебя, и ты должна будешь пройти нелегкую выучку, Но не пугайся. У меня будешь получать еду, питье, одежду, а гость будет мне платить за тебя. Но помни: отсюда не смеешь уйти, я внесу тебя в список, который передам эдилу…
Она долго колебалась, но решив, что деваться ей некуда, согласилась.
– А если мне надоест? Если я найду работу? – тот час же шепнула она.
Я не задержу тебя, клянусь Венерой! Уплатишь мне все издержки – я вычеркну тебя из списка,.. Согласна?
Он грубо обхватил ее и тихо прибавил:
– Эту ночь проведешь со мной: такой у меня порядок. А потом… потом примешься за увеселение гостей.
VII
Бородатый пропретор высадился после солнечного заката на набережной Рима в сопровождении двух рабов, обремененных тяжелой ношей. Остановившись на ступенях широкой лестницы, которая подымалась от реки к городу, он осмотрелся.
Темные тучи громоздились в небе причудливыми глыбами ярко-медного оттенка. От них по земле ползли коричневые сумерки, и набережная жила деловой суетою торговцев, рабов, блудниц, клиентов, ремесленников. Шум толпы, резкие голоса, зовы сливались в единый гул, залетавший в небольшие узенькие улички, маленькие дома, теряясь среди огромных зданий большого города.
Всюду мелькали золотые огоньки: они испещряли набережную, соединяясь по-двое, по-трое, – это медленно двигались торговцы сладостями.
А громкие крики варваров, коверкавших латынь, назойливо лезли в уши:
– Жареная рыба со стола Нептуна! – Сладкие, как амброзия, пряники!
– Медовые лепешки!
– Плодовые и виноградные вина! Сам Вакх не пи вал таких!
– Дешево! Дешево!
– Не упустите случая, квириты!
Пропретор решительно двинулся вверх по лестнице. Это был человек мрачный, резкий в движениях. Все изобличало в нем плебея: и угловатость, и дерзость, с которой он расталкивал народ, и заносчивость. Он наткнулся на клиентов, окружавших молодого патриция (они стояли в полосе света, проникавшего из булочной), и крикнул:
– Эй вы, бездельники! Дорогу воину, который проливал за вас кровь! Иначе – клянусь богами, охраняющими Рим! – вам придется познакомиться с моими кулаками!
Клиенты испуганно шарахнулись. В одно мгновение собралась толпа, предвкушая если не уличную свалку, то яростную ссору. Навстречу пропретору выступил молодой патриций и, оглядев его с ног до головы, сказал:
– Странник, ты, я вижу, прибыл из далеких краев, не бывал никогда в благословенном богами городе Ромула и принял по ошибке Рим за деревню. Но успокойся: люди и законы всюду одинаковы.
Пропретор смотрел в голубые глаза патриция, на красное лицо, усыпанное белыми пятнышками, на золотистые волосы и на мгновенье растерялся. Но сообразив, что патриций насмехается над ним, он ухватился за меч.
– Что ты там болтаешь, как пьяная торговка? – крикнул он, сделав шаг вперед. – Дорогу! Будь я не Марий, сподвижник Сципиона Эмилиана, если не проучу тебя за дерзость!
Патриций вспыхнул:
– Клянусь Немезидой! Я бы научил тебя вежливости, сподвижник великого Сципиона, если б не видел, что ты человек неотесанный и грубый! Но я не петух, чтобы сцепиться с тобой на потеху толпы!
Марий бросился па него с кулаками, но клиенты загородили знатного римлянина, который, посмеиваясь, продолжал:
– Что же касается того, что ты отличился, быть может, в боях с варварами и Фортуна покровительствовала тебе – мне нет никакого дела! Не забывай, что ты – в Риме, а Рима ничем не удивишь…
И, отвернувшись, он сделал знак клиентам следовать за собою.
– Кто ты? – вскрикнул Марий, сжимая кулаки (толпа гоготала, подзадоривая его оскорбительными замечаниями), но патриций, не ответив, медленно уходил к громадам зданий. – Кто он? – повторил пропретор и смотрел, как недовольное сборище людей, ожидавшее свалки, уже расходилось.
Чей-то голос тихо выговорил за его спиною:
– Это Люций Корнелий Сулла, друг Опимия, убийцы Гая Гракха.
Марий тяжело перевел дух, обернулся к римлянину; он успел увидеть на его руке золотое кольцо – знак всаднического сословия – и разглядеть бледное лицо, синеватые веки и слезящиеся глаза развратника.
– Я Тит Веттий, – сказал всадник после некоторого молчания. – Я понял из вашего спора, что родом ты – плебей…
– Я – батрак, – гордо ответил Марий, – я дослужился до претуры благодаря трудолюбию и храбрости, а не покровительству нобилей… Я был военным, потом народным трибуном, и…
– Знаю.
Веттий вспомнил, что Марию покровительствовал Цецилий Метелл. Своим законом о голосованиях Марий ограничил влияние оптиматов в комициях, выступил против консула Котты, а затем всего сената и потребовал тюрьмы для консула, если он не отменит сенатского решения, а когда и Метелл поддержал Котту, Марий приказал вызвать виатора и отвести в темницу самого Метелла.
– Скажи, где думаешь остановиться? Не знаешь?.. Мой дом открыт для тебя. У меня бывает много друзей, и я познакомлю тебя с влиятельными мужами. Они по могут тебе в будущем, если ты станешь добиваться консульства… О, прошу тебя, не отнекивайся, ведь я – клянусь Громовержцем! – сразу заметил, что ты честолюбив…
– Не больше, чем любой человек…
– Ты не так уже молод, чтобы не мечтать о консулате, – усмехнулся Веттий и хлопнул его по спине. – Не будем спорить! Фортуна изменчива. Но я готов побиться об заклад, что ты в случае нужды не задумался бы сорвать с ее глаз повязку!
Марий покраснел.
– Почему так думаешь? – сдержанно спросил он.
– Я сразу тебя раскусил: душа твоя мятежна, а сам ты – человек насилия…
Оборвав свою речь внезапным смехом, всадник прибавил:
– Хорошо, что ты враг оптиматов. Твоя ссора с Суллой заставила меня подумать: вот безбоязненный человек, который добьется чего захочет!
Так беседуя, они шли узенькими уличками.
Выйдя на большой пустырь, прилегавший к стене Сервия Туллия, они добрались, наконец, до Тригеминских ворот. Рослые рабы, оба нумантийцы, вывезенные Марием из Испании, едва поспевали за ними.
Тит Веттий жил против храма Меркурия и проводил время в пирах, забавах и увеселениях. Дом его был открыт для всех. Как большинство римской молодежи, Веттий жил в долг, занимая деньги под большие проценты, и ростовщики не отказывали ему, зная, что он – единственный наследник богатого дяди. Но старик, которому давно уже было пора умирать, продолжал жить, хмурый, одинокий, раздражительный.
Это был один из богатейших всадников Рима – Муций Помпон; сын его Помпоний и племянник Леторий погибли во время восстания Гая Гракха, защищая вождя до конца, Веттий неоднократно обращался к дяде за помощью, но скупой старик резко отказывал: «На пиры и развратных девчонок не дам ни асса, а понадобятся деньги на дело – приходи, побеседуем». Однако дела все не было, да и Помпон не поверил бы без поручительства лиц, заслуживающих доверия, и Веттий брал ссуды у знакомых менял, или аргентариев, как их называли, и выдавал долговые обязательства, спокойно проставляя на пергаменте чудовищный процент L и обещая возвратить заем в недалеком будущем.
– У меня сегодня соберется несколько человек, – сказал всадник, входя с Марием в обширный атриум, устланный Attalice vestes – коврами, вышитыми золотом, выработка которых началась при Аттале I. – А вот и дорогой друг Луцилий! – закричал он с веселым смехом. – Скажи, какие добрые боги вняли моим мольбам и внушили тебе вспомнить обо мне? Э, да вы, кажется, знакомы! – удивился он, видя, как Луцилий пожимает руку Марию. – Тем лучше! Боги способствуют приятным встречам доблестных мужей!..
– Да замолчи! – прервал его Луцилий. – Неужели ты будешь доволен, если я опишу тебя в сатире болтливым амфитрионом, который угощает гостей словесной жвачкой вместо кушаний?
– Пощади! – не то шутливо, не то с испугом взмолился Веттий, воздевая руки. – Я обращусь к Фебу-Аполлону и божественной музе Полимнии с пламенной мольбой, чтобы они на тот раз лишили тебя вдохновения!..
Луцилий, улыбаясь, взял его под руку:
– Все тот же шутник и весельчак! Покидая Тринакрию, я помолился Меркурию, Нептуну и Эолу, и они милостиво сопутствовали мне.
– Расскажи, как живешь в Тринакрии? Спокойно ли там? Много ли написал и кого осмеял? Прочти что-нибудь, пока соберутся гости…
– Живу хорошо, пишу мало, читаю Гезиода, Гомера, Энния, иногда путешествую по острову. В Тринакрии спокойно, но мне кажется, что боги варваров готовы помогать рабам…
– Что ты говоришь? – вскричал Веттий с заблестевшиими глазами.
Луцилий улыбнулся.
– А может, я и ошибаюсь. Вот Марий слушает нас и удивляется: болтуны, бездельники – не так ли? А ведь быть таким храбрым воином и мрачным оптиматоненавистником – не много ли сразу? Но успокойся, Гай Марий!
Сципион Эмилиан ценил и любил тебя, несмотря на то, что ты враг нобилей…
– Ошибаешься, благородный Луцилий! Эмилиан любил и ценил меня за военные подвиги, – уклончиво ответил Марий и, подумав, прибавил: – Откуда он мог знать о моей ненависти к оптиматам? Да и есть ли она во мне?
– Не хитри, прошу тебя…
В это время вошли Люций Апулей Сатурнин и Гай Меммий. Сатурнину было шестнадцать лет, а Меммию побольше, но Меммий жадно прислушивался к суждениям своего друга. Считая себя учеником Меммия, Сатурнин ошибался: скорее он был последователем Гракхов. Меммий знал это и, сам преклоняясь перед погибшими братьями, высоко ценя полезную их деятельность, думал, что друг его будет продолжать дело Тиберия и Гая.
Плечистый краснощекий Сатурнин и смуглый полнотелый Меммий подняли руки в знак приветствия и одновременно воскликнули:
– Слава доблестным мужам, надежде Рима! Веттий поспешно подбежал и подвел их к Луцилйю и Марию:
– Знаменитый поэт, бесправный всадник. А это – пропретор…
– Да мы знакомы! – перебил Меммий, сжимая руку Мария.
– Оба готовы нам помочь, – продолжал Веттий. – Так ли я говорю, друзья?
– Ты не ошибся, – сказал Луцилйй, а Марий молча наклонил голову.
Мне кажется, – осторожно замети Меммий, – что нашим новым друзьям мало известны цели, ради которых мы собираемся. Боги и справедливость на нашей стороне. Но кто не знает положения народов, населяющих нашу республику? Всюду стоны, разорение, спекуляции и уменьшение деторождения. Жить, квириты, становится все труднее… Положение земледельцев до сегодняшнего дня было таково. Несколько лет назад комиции решили отменить аграрный закон Гракхов и суммы, вырученные с арендованных общественных земель, распределить среди городского плебса. Это был ловкий ход со стороны сената – ход Афродиты! Хлебопашец имеет участок и делится доходом с горожанином. Братская помощь – не так ли, квириты? – злобно засмеялся он.
– Но городской плебс и так получает даровой хлеб, а деревенский бедняк – ничего (не жрать же ему землю!), и он не в силах заплатить за аренду своего поля. Да и сбывать овощи все труднее, и заморский хлеб вытесняет на рынке наш, римский… Так ли говорю? А сегодня этот подлец Спурий Торий сумел провести закон…
– Какой закон? – прервал Марий. – Неужели оптиматы опять нажимают на нас?
– Общественная земля объявлена частной собственностью, – сказал Меммий, – ее внесли в ценз, и отныне хлебопашец может продавать ее, дарить или оставлять в наследство кому угодно. А хуже всего – что гракханские наделы уничтожены, древний ager publicus исчез и пострадали римляне, латины и союзники…
– Все теперь понятно, – усмехнулся Луцилйй, – борьбу нужно начинать снова. Вся Италия стала частной собственностью, и нобили начнут так же, как до Гракхов, притеснять хлебопашцев, продавать за долги их земли или скупать за бесценок!
Сатурнин взволнованно забегал по атриуму.
– Вот, квириты, плоды нашей нерешительности! – воскликнул он. – Теперь не триумвиры будут ведать земельным вопросом, а цензоры, консулы и преторы…
Задумавшись, все стояли, опустив глаза.
– Это, квириты, первая новость, – заговорил Меммий, подняв голову, – о второй скажу после… А теперь послушайте, что делается в благословенном богами городе Ромула: девушка, пятнадцатилетняя дочь консула Люция Кальпурпия Бестии, этого продажного пса, который вместе с Эмилием Скавром был подкуплен Югуртрю, забеременела и сделала себе выкидыш; жена претора Кассия родила в его отсутствие и ребенка удавила; а дочери всадников, научившись предупреждать зачатие, безнаказанно развратничают, потому что и матери их не без греха…
– Ужасное зло, – сказал Луцилий, – рождаемость падает, а если это продолжится несколько лет, Рим впоследствии ощутит недостаток в воинах…
Марий засмеялся.
– Это тебя не опечалит, благородный Луцилий, – вымолвил он, поглаживая волосатой рукой густую черную бороду, – пусть в Риме будет меньше воинов, лишь бы у вас, союзников, было их побольше!…
– А если и так, – вспыхнул Луцилий, – я люблю Рим, я верный сын его! Нет, не сын, а пасынок, потому что Рим не заботится о своих детях… Были прекрасные борцы-полубоги, которые больше радели о нуждах бедных союзников, чем отцы государства. И что ж? Их умертвили, обвинив в посягательстве на целостность республики… И кто обвинил? Кто? Люди, достойные самой жестокой казни! – И повернувшись к Сатурнину: – Друг, – спросил он, – где же ваша вторая новость?
– Вот она! – вскричал Сатурнин. – Югурта прибыл в Рим!
Все молчали.
– Ну и что ж? – первый заговорил Луцилий. – Югурту мы знаем (помнишь, Гай Марий, юного царевича?), он легко согласится на мир.
– Это были славные дни римского величия! – улыбнулся Марий. – Но не тешь себя, благородный Луцилий, надеждами: Югурта хитер и коварен…
– Я такого же мнения, – согласился с ним Меммий. – Разве не он подкупал наших военачальников? Даже Марк Эмилий Скавр, princeps senatus, [5]5
Глава сената.
[Закрыть]не устоял против его золота! Пусть он это сделал по наущению Кальпурния Бестии, вина все равно на нем, хотя он и сумел оправдаться. А куда девались слоны, скот, лошади и серебро? Царь выдал их Бестии, заявив, что сдается на нашу милость. А потом он подкупил военачальников Бестии, и они продали ему скот, перебежчиков, слонов я даже серебро…
Веттий рассмеялся:
– За серебро царь приобрел свое же серебро. Хоте– лось бы знать – за какую цену?
В атриум входили центурионы, воины, клиенты, полупьяные, неряшливо одетые граждане, бедняки и рабы.
– В твоем доме, дорогой Тит, настоящее царство Сатурна, – насмешливо шепнул Луцилий, – равенство, братство, благосостояние, радость… Уж не думаешь ли стать вождем всех этих оборванцев?
– Не глумись, прошу тебя, – покраснел Веттий, – твое отношение к бедности равносильно презрению римлян к союзникам.
Луцилий побледнел.
– А ведь ты, carissime, [6]6
Дражайший.
[Закрыть]тоже союзник… Эти же люди готовы постоять с мечом в руках за дарование вам прав гражданства.
Сатирик растерялся:
– Прости. Я не знал, ради чего собираются эти люди. Не забудь – человек я новый, и мне показалось, что они пришли только для того, чтобы поесть и напиться…
В атриум вбежали с веселым смехом блудницы и флейтистки, окружили мужей, воинов, ремесленников и рабов. Посыпались вольные шутки.
Меммий, Марий и Сатурнин отошли к имплювию: брезгливость вызывали в них эти женщины, а Тит Веттий, позволявший им обнимать себя, показался Марию легкомысленным и пустым человеком.
– Я догадываюсь, зачем приглашены развратницы, – сказал пропретор, – и считаю наше присутствие в этом доме постыдным.
Меммий молчал, но Сатурнин спокойно ответил:
– Да, но неужели они не люди? А разве нам известно, что довело их до такой жизни? Может, голод, насилие – кто знает…
К ним подошел Луцилий:
– Взгляните на столы, которые вносят слуги по приказанию амфитриона…
Голос Веттия донесся до них:
– Освободить место для плясок да сказать повару, чтобы поторапливался, иначе – клянусь Прометеем! – я похищу у него огонь или его у огня!
Все засмеялись.
– Опимианского вина не подавать: оно пахнет кровью Гракха!
Слова хозяина потонули в шуме голосов. Гости возлегали за столами.
Веттий подхватил Мария и Меммия под руки, кивнул Сатурнину, приглашая его следовать за собой, и торжественно подвел всех троих к столу, за которым уже возлежали две матроны и девушка: Люция – молодая дочь Муция Помпона, жена всадника Мамерка, Цецилня – пожилая супруга нобиля Нумерия, и Лоллия – дочь всадника Аниция.
Три мужа заняли места за столом.
Пожилая матрона говорила молодой:
– Удивляюсь, Лоллия! Ты пренебрегла счастливым случаем познакомиться с царем! Разве ты не была у жены Гая Бебия, когда Югурта навещал его?
– Верно, благородная Цецилия, но царь прибыл сегодня утром; вид у него был усталый, и мы с Терцией не посмели показаться ему на глаза.
– А кто сопровождал Югурту, кроме Кассия?
– Царские сановники, с такими зверскими лицами, что нам было страшно…
Сатурнин подмигнул Меммию. Марий исподтишка наблюдал за ними, чувствуя, что здесь, за столом, должно произойти нечто занимательное.
– Югурта, конечно, посетил народного трибуна, что бы заручиться его поддержкой, – заговорил Меммий, косясь на матрон. – Идя сюда, на пирушку, я встретился с Гаем Бебием, и он сказал мне… Но, может быть, благо родная Лоллия расскажет нам своим приятным голосом, о чем договорились царь и народный трибун?
Меммий, улыбаясь, взял с блюда румяную, поджаренную куриную ножку и поднес девушке. Лоллия поблагодарила его взглядом.
– Как договорились – не знаю, – сказала она, – но, сидя в перистиле, я слышала, как Югурта торговался с благородным Бебием: трибун должен был стать оплотом против римского правосудия и народного негодования..
– И Бебий… – побледнев, шепнул Меммий.
Но Цецилия перебила их, – она поняла, что дело может кончиться неприятностями для Бебия, – и голос ее прозвучал предостерегающе:
– Все это сплетни, дорогая Лоллия! Югурта не мог посетить народного трибуна, потому что он виделся в этот день со своим родственником Массивой, сыном Гулуссы и внуком Масиниссы!
– Но ты сама говорила! – вспыхнул Сатурнин.
– Я говорила? Когда?
– Замолчи, лживая женщина! Сказками о свидании Югурты с Массивой дела не поправить! Всем известно, что Массива бежал в Рим после сдачи Цирты и убийства Адгербала и теперь, по совету Спурия Альбина, добивается царской власти в Нумидии. Следовательно, Югурта не мог навестить своего врага!
Люция не слышала, занятая едой. Но резкий голос Сатурнина заставил ее насторожиться. И она решила поддержать Цецилию:
– Конечно, благородная матрона права. И я могу поклясться Юпитером, что Югурта, побывав у Гая Бебия, отправился к… (она забыла имя Массивы и растерялась) к… как его имя? Масинисса? Не помню…
Сатурнин расхохотался. Это было невежливо по отношению к гостье (даже Меммий смутился, а Веттий покраснел), но временами на него находили приступы веселья и тогда он пугал грубым, неприятным смехом окружающих. И сейчас, опрокинувшись на ложе, хватаясь за живот, он захлебывался от хохота, багровый от напряжения, потный, с залитым слезами лицом.
– Перестань, перестань! – шептал Меммий, – Ты обидел амфитриона и его гостью, ты…
Марий молча наблюдал за ними. Его хмурое волосатое лицо кривила презрительная усмешка, а мрачный взгляд, казалось, говорил: «Не обманете, вижу насквозь – и вас, и гостей, и никому не верю; потому что все вы негодяи».
А Люция переглядывалась с мужчинами; любовников у нее было много, и она обдумывала, как распределить дни свиданий и как поискуснее обмануть подозрительного мужа.
Лоллия и Цецилия поспорили. Размахивая руками, они оскорбляли друг дружку грубой бранью. Марий смотрел на их возбужденные лица, и ему становилось весело.
– Ты, подлая, бегала к Гаю Бебию, как субуррадка! – кричала Лоллия, размахивая обглоданной куриной ножкою. – Ты развратила добродетельного супруга добродетельной жены! Твои бесстыдные ласки знакомы всему Риму!
– Лжешь, потаскуха!
Глаза Лолии округлились. Она с ненавистью смотрела на густо покрытое румянами поблеклое лицо матроны и вдруг размахнулась, швырнула в нее обглоданной костью.
Цецилия вскрикнула. Из разбитой нижней губы текла кровь, на побледневшем лице застыл испуг, и, матрона прижимала ладонь к ране, вздрагивая всем телом.
Веттий растерялся; он умолял Цецилию возлечь за другим столом, где случайно освободилось место (один старый раб, объевшись, внезапно умер, и его поторопились выволочь наружу), но разъяренная женщина воспротивилась:
– Я ее искалечу, подлую! Она, дочь полуплебея, подняла руку на патрицианку!..
Ей не дали говорить. Гром голосов потряс атриум:
– Что ты там врешь, старая подошва, о плебеях?
– Толстая свинья! Веттий поднял руку:
– Тише, квириты! Я собрал вас не для того, чтобы смотреть на драки и слушать споры! Еще не выпита ни одна капля, а раздор уже блуждает по атриуму. Что же будет, когда Вакх развеселит ваши сердца? Неужели хотите, чтобы я лишил вас вина?
Все замолчали, кроме Цецилии и Лоллии. Теперь переругивались почти шепотом.
Марий повернулся к Веттию:
– Позволь мне, дорогой амфитрион, унять этих самок. Одно твое слово, и я стукну их лбами с такой силой, что эти глупые головы расколются, как тыквы, и мы увидим, много ли червей завелось у них в мозгах?
Он оглянулся. Ложе Меммия и Сатурнин опустело: пользуясь возникшим спором, оба друга поспешили скрыться.