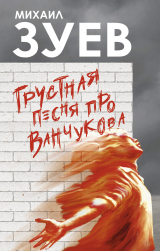
Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Анна Петровна, поняв, что дела Ванчукова плохи, отвела его в школьную библиотеку, где строгая библиотекарша, похожая гонором на кого-то уж никак не меньше чрезвычайного и полномочного посла – советское посольство было чётко через дорогу от школы – выдала Ольгерду с десяток тонюсеньких учпедгизовских книжек для изучения языка в спецшколах. Каждая книжка содержала по одному-два рассказа или по одной-две сказки на английском. Тексты были оригинальные, написанные носителями языка. Ванчукову особенно запомнились книжечки, содержавшие сказки американских индейцев. После недлинных текстов в каждой книжечке начиналась словарная часть, где по сноскам, скрупулёзно, терпеливо были выписаны все непонятные слова и выражения. Выписаны они были хитрым образом: часть давалась сразу в переводе на русский, а часть – объяснялась другими, более понятными – очевидно, так сочли составители – словами на том же английском. Домашнее чтение пяти-семи страниц текста занимало у Ванчукова не меньше трёх часов. Он читал, смотрел в словарную часть, выписывал слова, добавлял к ним переводные соответствия. Тут же всё забывал и опять смотрел на текст, как широко известный герой русского народного эпоса смотрит на новые ворота. Самое грустное заключалось в том, что никакого понимания языка на следующий день это не добавляло.
Ванчуков заплыл слезами. Наверное, нехорошо плакать взрослому мальчику, но… Сергей Фёдорович посмотрел на безобразие и стал вечерами на час-другой приглашать домой свою переводчицу, грузинку Аду. Ванчуков-старший по-английски знал пять фраз, из них две нецензурные. Ада знала всё остальное. В отличие от посольской фифы Анны Петровны Ада сразу стала с младшим Ванчуковым разговаривать, не обращая внимания на его мычание и ошибки. На третий вечер Ванчуков заговорил. Не поверил себе. Ада рассмеялась, поправила, подыграла, и Ванчуков заговорил увереннее. Жизнь стала налаживаться.
На следующий день на уроке Ванчуков задвинул две тирады, которые накануне с ним бегло отрепетировала Ада. Класс замер, у Анны Петровны отвалилась нижняя челюсть, и его тут же, как ни в чём не бывало, приняли в общую беседу. Ванчуков нёс чушь, лепил ошибку на ошибке, но из-под плинтуса вылез и больше за всю жизнь не вернулся туда ни разу.
Ванчуков вдохнул полной грудью и зажил полной жизнью. Захотел джинсы, настоящие, американские. До этого его тощая задница знала только советские холщовые «чухасы». Американских фирменных джинсов на клёпке с тройным швом было везде навалом, стоили от тридцати пяти до пятидесяти фунтов. Мать вздохнула, прикинула, сказала, месяца за три накопить реально. В жизни Ванчукова появилась цель, которую можно было достичь в обозримом будущем. Но случилась «Война Судного дня».
Мужчины оставались, «уплотнялись», селясь для безопасности – никто не знал, что будет дальше – вместе по четыре-пять человек в квартире; женщины и дети подлежали немедленной эвакуации. Ванчуков с матерью самыми последними зашли на трап самого последнего транспорта, отправлявшегося в Союз с военного аэродрома под Каиром. «Ил-18» только что сел, моторы погасил на полчаса. Дозаправился и пошёл обратно. Стюардесс в полёте не было. Их заменяли улыбчивые молодые люди в белых рубашках, чёрных галстуках и серых пиджаках.
Летели долгим кружным маршрутом.
– А почему так длинно? – спросила Изольда.
– Потому что через Турцию было бы на три часа меньше, да на три дня дольше. Не дали разрешения на пролёт над территорией, – улыбнулся улыбчивый.
– А что это за фигуры вдали за иллюминатором? – спросил Ванчуков.
– Это наши истребители. Их три. Слева и справа, – снова улыбнулся улыбчивый, – ещё один сверху, ты его не увидишь.
– Зачем? – спросил Ванчуков.
– Хороший вопрос, мальчик, – улыбчивый больше не улыбался. – Защитить не защитят, – замолчал, подбирая слова. – Но того, кто посмеет, в живых не оставят. Там без шансов.
Над Югославией, ближе к Любляне, истребители покачали крыльями, задрали носы, опустили гузна и пошли на снижение.
– На базу уходят наши ребятки, – сказал улыбчивый. – Дальше будет без происшествий, – он снова улыбался.
В Жулянах дождило. Мгновенно подогнали трап. На поле играл военный оркестр. Каждой спускавшейся по трапу женщине офицер с капитанскими погонами дарил красную гвоздику. Солдаты споро подхватывали ручную кладь и спящих малышей. Изольда впервые за всё время разрыдалась. А Ванчуков вдруг понял, что родина бывает разная. И теперь перед ним была такая, которая не то что не отберёт у твоего отца несколько тысяч фунтов в месяц – а не раздумывая оторвёт за жизнь твоей мамы и за тебя любую голову. Этого кратко мелькнувшего в себе откровения Ванчуков потом никогда не забывал.
* * *
Коротко посмотрев направо, Ванчуков перебежал асфальтовую нитку дороги. За забором виднелись два пятиэтажных институтских учебных корпуса, химический и биологический. Лекция была назначена в биологическом, на втором этаже. Ванчуков снял куртку, повесил в пустой гардеробной, поднялся по лестнице. Дверь в аудиторию открыта. Почти все девчонки и мальчишки из первой группы вечерней биологической школы были в сборе. Олик раскланялся с сидящими. Плюхнулся на скамью, расстегнул папку, достал общую тетрадь и своё главное богатство: японскую чернильную ручку с золотым пером. Открыл тетрадь на чистой странице, свинтил колпачок с ручки.
В аудиторию вошёл молодой стройный невысокий брюнет в роговых очках с тяжёлыми линзами. Его светлая улыбка летела впереди него.
– Привет, ребята! – сказал студент четвёртого курса биофака Саша Козак. – Все в сборе?
Староста первой группы, сидевшая на первом ряду, кивнула.
– Ну, тогда начинаем! – довольно сказал Саша, включая проектор. – Кто там у двери? Погасите первый ряд ламп, пожалуйста.
Глава 8
На тыльных сторонах ладоней, промокнутых вафельным полотенцем после мытья горячей водой с мылом, ощетинилась сеточка мелких трещинок. Сквозь, то тут, то там крошечными точечками проступали маленькие тут же подсыхающие алые капельки. Кожа едва ощутимо чесалась, саднила. «Красота какая. Цыпки. Довела руки вода, совсем добила», – вздохнула Изольда.
Расстелив на пёстрой пластиковой столешнице пошатывающегося кухонного стола с разболтанными ножками позавчерашнюю «вечёрку», Иза чистила картошку. Картошка из овощного на Беговой, как всегда, была плохой. Мелкая, подмороженная, склизкая даже после мытья, подгнившая. Чистить такую надо внимательно, осторожно, чтоб не пропустить едва различимые коричневато-белые вкрапления отмороженной гнили. Возьмёшь кило – половина, а то больше, в очистки.
Невдалеке звонким металлом щёлкали аляповатые, из лакированных деревяшек, со штампованным циферблатом батареечные ходики, пришпандоренные криво вкрученным шурупом к фанерке декоративного короба, скрывающего канализационный стояк. Каждый щелчок – Изольда знала – гулко отдавался в самом дальнем уголке тёмной пустой холодной квартиры. Пока не вернулся муж, Изольда всегда проветривала, в любую погоду устраивала сквозняк через коридор из спальни в большую комнату – будто открытые фрамуги способны побороть всегдашнюю прилипшую к стенам затхлую табачную вонь. Темнело быстро. «Свет зажечь, да руки мокрые, грязные – снова мыть, опять станет противно жечь кожу. Ладно, дочищу как есть. Авось не порежусь».
За всё ощутимее наливающимся фиолетовыми чернилами окном гулял с подвыванием ветер. Остальные дома не доставали до верхотуры двух шестнадцатиэтажек-близнецов, одиноко подпиравших шатёр низкого неба в глубине тихого района, затерянного меж ипподромом и вокзалом. Взгляд Изольды птицей вольготно летел на полкилометра вперёд, до самого Ленинградского проспекта. Через широченную, в три нитки, улицу на крыше двенадцатиэтажной «сталинки» с номером «18», рождённой причудой американской мечты неведомого архитектора в конце пятидесятых, едва заметно засветилась, а вскоре, прогревшись – заполошно вспыхнула яркая никому не нужная реклама «ROBOTRON/DARO/DDR»[17]17
Daro и Robotron – государственные компании из Германской Демократической Республики, производившие счётно-вычислительную технику.
[Закрыть]. Буквы, образующие первое и последнее слово, были не так высоки. Не мигая, ласкали взор насыщенным зелёным – так, что хотелось всё забыть и смотреть не отрываясь. Центральные же литеры, высотой в два, а то три человеческих роста каждая, зажигались, гасли, волнами снизу вверх меняли цвет: зелёный… красный… жёлтый… зелёный… красный… d… da… dar… daro…
Даро… даро… жизнь прошла даром… лишь блеклая пелена за хрупкостью оконного стекла.
* * *
Мама.
Маму, пока та была жива, Изольда ненавидела. С каждым днём больше. Уже некуда было, но, оказалось, есть. Ненавидела за всё. Жарче всего Изольда ненавидела мать за то, что сама была неспособна взять и повернуть всё с головы на ноги. Просто взять и мать полюбить. Выходило так, что ненавидела Иза не мать; ненавидела – в матери – саму себя. Мать же, словно в насмешку, всё подливала масла в огонь. Казалось, не хотела дня, не могла недели прожить без того, чтоб не разбередить раны дочери. Если раньше Калерия Матвеевна выясняла отношения наедине – хотя какие такие там были «отношения» и что можно было выяснять сорок с лишним лет подряд?! – то потом даже и Сергея Фёдоровича стесняться перестала.
Тот просто плюнул на идиотские бабские дрязги и стал ещё больше времени проводить на работе. Иза же словно забыла, что у неё есть сын. Наверное, от большого ума последовала примеру мужа. Её выбрали в заводской профком. Никто ведь особо не хотел гнуть спину на благо общества, а тут вдруг – такая для всех удача. Отвечала в профкоме за «детский» сектор: путёвки в ведомственные ясли, детсад, зимние санатории, летние пионерские лагеря. Путёвки за полстоимости – для малоимущих семей, совсем бесплатные – для матерей-одиночек. Несчастные бабы шли с бедами к Изольде косяком, как обречённый лосось поднимается холодными бурлящими таёжными речками в верховья на нерест. Изольда Михайловна вопросы решала чётко, справедливо. Оперативно. Мамаши на неё чуть ли не молились. Знали б они, почему в Изольдином окне до ночи не гаснет свет… Знали бы: собственный сын, не видя толком ни отца, ни матери, заперт дома с немощной бабушкой и как манну небесную ожидает вечернего мультика по телевизору в семь пятнадцать. Ни в чём не виноватый малыш, ни разу не воспользовавшийся ни бесплатными яслями, ни садом за полцены, ни прочими эманациями счастья. Это же – как замечательно, как современно: любить детей! Чужих.
Мать слегла в один день, внезапно. Ещё утром бодро собачилась, отправляя Изу на работу. А днём позвонила соседка снизу: «… плохо… совсем плохо, вызывали скорую… сразу без разговоров – увезли… да, ваш Олик сидит у меня… нет, поел хорошо, нет, не плачет, да нет, не беспокойтесь…» Вскорости мать из больницы выписали. Привезли, подняли на стуле на четвёртый – без лифта же; положили на кровать.
И всё. Пять лет пластом. Все дела под себя. Пролежни. Дистрофия. Бронхит. Пневмонии. Кахексия. Работу Изольде, понятно, пришлось оставить.
Речь Калерии Матвеевне не отшибло. Но поменялась мать кардинально. Когда её только привезли, Изольда вся внутренне сжалась, машинально приготовилась к новому потоку придирок и оскорблений. Вместо – была тишина. Мать молчала неделю, только в ответ на вопросы головой мотала: «да», «нет». Через неделю тихо заплакала и впервые в жизни попросила у дочери прощения. Без театра, без ажитации. Оказывается, могла так разговаривать. Умела.
Изольда долго ходила как пришибленная: в сорок с лишним наконец-то обрести маму?! Теперь она каждый день подолгу сидела возле кровати и слушала, слушала, слушала… Слушала то, что мать не удосужилась сказать ей за все годы. Слушала про отца. Слушала про маминых братьев-сестёр. Слушала про Смольный. Слушала снова про отца. Болью и стыдом отзывались в Изе мамины слова. Оказывается, она и на сотую долю не знала мать. Хотя – а разве мать, на ту же сотую долю, знала дочь?! Вот так живут люди: под одной крышей, десятилетиями заперты в тесную ячейку бытия, бок о бок, слыша дыхание; живут, спуская в канализацию отпущенное время; живут, друг друга не зная. Себя не зная. Себя не узнав – как другого понять?..
В сентябре семьдесят второго, едва Ольгерд пошёл в пятый, у бабки диагностировали рак почки. Увезли в больницу. Три дня, две ночи, и Калерии Матвеевны не стало. Приехали в больницу, скорбную повинность исполнить. Грузовик подогнали с опущенными бортами. Сергей, Изольда, Ольгерд; соседки ещё. Человек десять набралось. Никакой музыки, никаких бумажных цветов; только живые. Глупо-то как – зачем неживому человеку живые цветы? Чтоб в последний раз поиздеваться? Путь от заводской больницы до кладбища недолог. Пешком уложились в полчаса.
Олик первым шёл за машиной. Задний борт болтался, на ухабах гулко бился о сцепку. Пол кузова обшарпанный, занозистый, грязноватый. Из выхлопной трубы вкусно пахло бензиновой гарью.
Кто-то в Изольдину голову втемяшил: мол, нельзя гроб в могиле землёй сразу присыпать; нужно сбить из досок настил на прочных ногах, сверху над крышкой поставить, на него грунт и накидать. Потом, через месяц-другой, когда подломится, досы́пать. Изольда вспомнить не могла, кто надоумил. Уже позже, через год-другой, всё же всплыло: Калерия Матвеевна сама и сказала.
Сергей Фёдорович всё исполнил в точности – и чтоб без музыки, и чтоб настил.
Наутро Изольда проснулась, молча умылась, даже не поинтересовалась, как там муж и сын. Оделась во всё чёрное, как вчера, вышла на улицу, дождалась трамвая, уехала. Валялась на свежем холмике. То плакала, то нет. Сергей Фёдорович тактично выждал полчаса, поехал с водителем следом. Подняли, привезли домой – это в разгар-то рабочего дня. На следующий день всё повторилось в точности. И ещё через день. И ещё, и снова. Приезжала домой, ничком падала на кровать, не раздеваясь. Ольгерд за мать испугался так, как никогда раньше ни за кого не боялся. Заниматься с ним было некому. Сам в летний городской лагерь уходил утром, вечером из лагеря возвращался. По вечерам с отцом разговаривал: не как в жизни, как в кино. В плохом кино. «Как дела?.. Что в лагере?..» Живые люди так между собой не говорят – только персонажи. Через неделю у Изольды как отрезало. Чёрное сняла, на кладбище больше не таскалась. Все вещи материны – всё, что могло о ней напомнить, раздарила-распродала.
Спустя месяц вечером стояла у кухонной раковины, посуду мыла. Жаловалась: «Живот». Ноги под себя цаплей подгибала. То одну, то другую. Приехала терапевтша из заводской поликлиники. Расспросила, пощупала, глупостей наговорила: мол, пищевое отравление. Сделала клизму, уехала. Ночью – боль нестерпимая, язык сухой, обложен. Стала заговариваться, выходить из сознания. Сергей сообразил, позвонил главному хирургу города. Тот посреди ночи примчался, ткнул пальцем в живот пару раз. Набрал своим: «Аппендицит атипичной локализации, перитонит, машину пришлите…» Уехал сам – мыться.
Открыли. В диагнозе доктор Разуваев не ошибся. Перфорация отростка, гной в брюшине. Обширная ревизия брюшной полости. Решили всё же разрез не расширять, срединную лапаротомию не делать. Стали так мыть. Как за брыжейку пару раз неосторожно потянули – болевой шок, остановка сердца. Непрямой массаж, три минуты. Всё же завели.
Изольда провалялась в хирургии месяц.
Отец с утра до вечера на работе – кто ж главного инженера с завода отпустит. Олик на самообеспечении: обеды сыну готовить отец нанял соседку, а всё остальное – сам-сам. Небольшая, родная трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже с широким видом на море – далеко, в километрах плещущееся внизу – в момент стала пустой. Жизнь, казалось, потеряла смысл. Было их здесь четверо, и вот, в какие-то короткие недели, Олик один. Он просыпался, скоро делал уроки – то было совсем несложно. Если было бы можно, он бы делал уроков вдвое, втрое больше! – лишь бы чем-то занять себя, унять поселившуюся внутри сосущую тревогу, не отпускавшую душу. Сидел за столом у окна, в ставшей совсем пустой после бабушкиной смерти комнате, читал запоем фантастику, смотрел сквозь пыльное стекло на далёкое море.
Обедал. В полвторого собирал портфель, уходил в школу. Вечером возвращался, зажигал настольную лампу, опять читал и всё ждал, когда же щёлкнет замок, заскрипят давно не мазанные петли входной двери, войдёт усталый отец. Иногда тот звонил: занят, не жди, ложись спать. Олик раздевался, шёл в ванную, зажигал молочно-белый фонарный шар, открывал жестяную коробочку, мочил под краном противную колючую жёсткой щетиной зубную щётку. Макал в зубной порошок. С остервенением, до крови из дёсен, тёр крепкие здоровые зубы. Сплёвывал – солёно… полоскал рот, выключал свет, тащился в разложенное кресло-кровать, залезал под одеяло с головой и мгновенно засыпал, чтоб хотя бы на время покинуть мир, что он раньше так любил, в одночасье переставший быть для него уютным.
Конечно, Изольда ничего не знала. Даже не догадывалась. Лежала на спине в больничной палате. Спаечный процесс, дренажи, релапаротомия, разваливающиеся швы. Будто какой свирепый Дед Мороз, не дожидаясь зимы, не желающий погодить до Нового года, разом распахнул страшный мешок и доставал из него несчастья: одно за одним, одно за одним… Вернувшись домой, едва придя в себя – ходила ещё плохо, всё болело – Изольда стала вести себя странно. Избегала заходить в комнату, где долгие годы лежала мать. Потом сказала Сергею Фёдоровичу, что в этой квартире её всё гнетёт, что жить здесь она больше не хочет и не может. Сергей, к его чести, вместо того чтобы списать всё на бабью дурь, отвёз жену к психиатру, брату хирурга Разуваева. Тот слушал Изольду Михайловну внимательно, потом попросил подождать в коридоре. Пригласил Сергея. Усадив, предложив чаю, Разуваев-младший вздохнул:
– Посттравматический синдром, Сергей Фёдорович. Это серьёзно. Меняйте обстановку, если не хотите прогрессирования. Одни таблетки ничего не дадут.
* * *
Деваться было некуда. С горисполкомом Сергей договорился неожиданно быстро. Решили, что свою квартиру он вернёт на завод, а город выделит точно такую же, в самом центре, в следующем доме за городским театром. Центр центральный, центровее уже некуда. Одна только беда: квартира с самой постройки дома не ремонтирована.
Денег на книжке было немного, совсем немного. Но тут – Нечистой, бывший и здесь заводским начснабом, сказал как отрезал:
– Серёжа! Бог с тобой! Какие деньги? Ты о чём? Закупишь только материалы. Остальное моя забота.
Подогнал заводскую ремонтную бригаду с удвоенным составом. Каждый день в две смены, по шестнадцать часов. За две недели управились. Убитая обшарпанная «трёшка» превратилась в светлые хоромы. Соседям не понравилось. Написали анонимку в «народный контроль». Главный инженер металлургического завода – человек в городе немаленький; проверять явился замначпред нарконтроля лично. Пожал руки Ванчукову с Нечистым, выстроившимся у двери:
– Ну, показывайте, что ли…
Прошёлся по небольшим комнатам, заглянул на кухню, в ванную, в туалет. Поскрипел пальцем по новой чешской сантехнике, улыбнулся электрическим розеткам, расположенным по совсем новой моде, прямо над плинтусами. С одобрением кивнул на здоровенный газовый бойлер в ванной и чудные смесители без поворотных кранов, с одной длинной ручкой. Вышел на маленький балкон, задрал голову на свежевозведённый крытый навес. Сергей с Нечистым ходили вслед.
Остановился. Повернулся.
– Иван Иваныч, ну что же вы… Я бы для себя сделал побогаче. Подороже. А то не по чину Сергею Фёдоровичу такой «эконом».
И, на этот раз, Ванчукову:
– Не беспокойтесь, Сергей Фёдорович. Никаких нарушений не вижу. А то, понимаешь, всяким тут зависть глаза ест. Развелось этих писунов… – и пару непечатных сверху добавил. Для ясности.
Быстро переехали – дома в трёх кварталах один от другого. Купили даже немного новой мебели, непонятно зачем – буквально несколько месяцев спустя пришлось в спешке собираться за границу. Едва-едва успели найти приличную молодую семью с совсем маленьким ребёнком; квартиру им оставили бесплатно, что называется, «за присмотр».
Египетский вояж Изольда переносила стоически – понимала, Сергею обратного хода нет. Сибирячка; жара поначалу изматывала, лишала сна. Спасали кондиционеры, но те были старыми, ещё начала шестидесятых годов, жрали море электричества, страшно гудели и дули ледяным ветром; отрегулировать не было никакой возможности. Заняться Изольде было нечем: утром отправила мужа и сына, днём – жди сына, вечером – приедет муж. Станет совсем скучно – тогда убирай квартиру. Сто двадцать квадратов в двух уровнях уборку любили. Как раз – когда закончишь второй уровень, глядь, а на первом уже пора снова начинать. При встречах в лифте Изольда с грустью посматривала на соседку-венгерку, которая держала домработницу и к тому же нашла себе работу в городе наравне с мужем.
Единственным развлечением был поход по магазинам. Но тут две проблемы: нет денег – раз, и строгий консульский запрет для жён на передвижения по городу в одиночку – два. Город восточный, времена неспокойные. Может произойти всякое.
– Встречаетесь обязательно втроём, нанимаете такси и едете, – сказали в консульском отделе на инструктаже.
– А почему втроём? – изобразив дурочку, поинтересовалась Изольда.
– Так принято, – железобетонно ответила помощница консула.
«Гаремом» в город выбирались обычно раз в неделю, в основном на рынок. Цены на продовольствие на базарах отличались от магазинных в меньшую сторону раза в полтора, а то и в два. Двое, Изольда и Света Николаева – жена замдиректора советской «виллы», вместе ездили постоянно. Третье место было вакантно, кандидатуры раз от раза менялись. Николаева оказалась жутко полезна тем, что знала нескольких «жён», чьи местные мужья работали таксистами.
– Упаси боже снимать такси на улице, – в первую поездку учила Изольду Николаева, – хрен пойми, кого снимешь и как с ними разговаривать! Наши-то, наши, по-русски понимают! Правда, Лизимба? – хлопнула она с заднего дивана по спине широкого в плечах плохо выбритого брюнета за рулём поезженного «фиатика».
– Прафда-прафда! – с потешным акцентом засмеялся тот. – Жына рюския, дети рюския, сам я рюския! Прафда-прафда!
– Вот, – продолжала Света Николаева, – сам знает, куда везти, сам всё понимает. И сумки с собой таскать не надо: купили что, в багажник положили, дальше шопиться пошли. Не украдёт…
– Зачиемь обижаэшь? – делано обиделся «рюския» таксист Лизимба.
– Да ладно тебе, Лизимба! – засмеялась Николаева. – Сам ведь знаешь, были случаи. Вот буквально три месяца назад. Сняли бабы такси. Поехали одежду покупать, при деньгах как раз были, мужья отпускные к зарплате получили. Насовали шмотья всякого полный багажник. Потом из лавки выходят – а таксиста с их покупками и след простыл.
– Искали? – спросила Изольда.
– Кого? Таксиста? Да разве его найдёшь?! Таксишные «фиатики» тут все на одну морду. – И, склонившись к самому уху Изольды, прошептала: – Да и эти ухари тоже.
– Да ладно тебе… – прошептала Изольда в ответ. – Наши-то девчонки своих мужей от других отличают!..
– Вот пусть они и отличают! Им положено! – громко нагло сказала Николаева. – А нам так и даром не сдалось!..
– Весело тут, Иза! Возят на «мерседесе», живём в пентхаусе, а денег нет. Вот до чего проклятый капитализм людей доводит… – говорил Сергей Фёдорович.
– Это не капитализм, Серёжа! – отвечала жена, вспомнив мультик про Винни-Пуха и Пятачка, ходивших в гости к Кролику, – «это кто-то слишком много ест»!
– Ну да, аппетиты ГКЭС неуёмны. Ничего, и это переживём.
Покойная мама за ближневосточной суетой Изе не то чтоб забылась, но, что ли, отпустила. Больше не снилась. Жить не мешала.
* * *
После спешной эвакуации женщин и детей Сергей Фёдорович остался в той же квартире. В «уплотнение» к нему подселили Юрия Палыча Беляева. С ним Ванчуков отработал на Донбассе лет пять-шесть, только Юра был с другого завода. «Конкурирующая фирма», – смеялся Палыч. Поскольку жили теперь вместе, то и на завод ездили вместе. Сергей Фёдорович от водителя отказался, а машину оставил. Сам он ездить за рулём не любил – мешала близорукость, а Юр Палыч, напротив, и в Союзе был заядлым автомобилистом.
– Ну как тебе «мерс»? – спросил Ванчуков развалившегося за рулём Беляева в тёмных очках «рэй бан», когда они в первый раз утром вместе ехали на работу.
– Издеваешься?! Да мне такой собственный даже в эротическом сне не светит!
Местный запретный колорит начали осваивать с похода в ночной клуб, вроде как для смотрения танца живота. Ничего особенного в танце не было. Стробоскоп лупил по глазам, долбанутая на всю голову восточная музыка гремела невыносимо. Ада что-то кричала Сергею на ухо. Для Юр Палыча, чтоб ему было не скучно, Ада привела коллегу, латышку Мирдзу из ГКЭС. Посидели с час, блёстки и пляски впечатления на мужчин не произвели. На женщин тем более. Приехали домой. Быстро организованно целеустремлённо напились. Места в квартире было много, никто никому не мешал.
Наутро, после приготовленного Адой и Мирдзой чудесного завтрака, пока Юра на «мерсе» развозил дам по домам, Сергей валялся в гостиной на диване в одних трусах под похрюкивающим кондиционером и размышлял о жизни. Просто настроение подобралось соответствующее.
Чувствовал ли он что-то к Аде? На этот вопрос Ванчуков ответить бы честно не смог. С одной стороны, миловидная тридцатилетняя женщина, годящаяся Сергею Фёдоровичу в дочери – уж, по крайней мере, моложе его собственной дочки Ирины – откликалась в нём странной смесью вожделения и умиления. Ада была воспитанна, начитанна, лупила практически «синхрон» с бешеной скоростью. С ней было забавно. Но ведь правда-то заключалась в том, что ещё позавчера Сергей вообще не мог подумать, что между ними случится вот такое и случится именно так. Поэтому, с одной стороны, у него стало тихо проявляться нечто, похожее на чувство долга перед миловидной, нежной, немного неуклюжей девочкой. А с другой – ему было глубоко безразлично.
Он как-то – по-прозекторски, по-препараторски – отстранённо вспомнил, как начиналась «их история с Изольдой», и невольно поморщился. В названии истории с Изольдой было одно лишнее слово. Теперь, двадцать лет спустя, он твёрдо знал, какое именно: «их». Может быть, та история действительно имела отношение к Изольде; да, может быть. Но – к нему? Определённо нет. И если б не Олик, то никакой бы истории не случилось. То была не его история, то была случайность.
Ванчуков встал с дивана, пошёл на кухню, открыл здоровенный холодильник с витыми никелированными буквами GE на выпуклой двери, достал с дверной полки едва начатую бутылку водки, наплеснул немного в стакан и выпил словно воду. Вернулся в гостиную, взял со стола мягкую пачку «кента», прикурил и вышел на террасу. Ударил в нос пряный ближневосточный аромат с фирменными смрадными нотками. Тихо: суббота, выходной день. Низенький бестолковый город с высоты шестого этажа был перед ним как на ладони. Выцветшие дома с плоскими крышами, похожие на картонные коробки, на полки книжных этажерок; буйная, солнцем поеденная растительность, редкие нешумные автомобили, катящиеся по размягчённому жарой асфальту… Всё какое-то экзотическое, какое-то не наше, какое-то чужое. Словно из передачи «Международная панорама» с Юрием Жуковым.
Виноват ли он в чём-то перед Адой? Конечно, нет. Никто её силком не тянул. Как ей смотреть в глаза завтра? Завтра воскресенье, тут это первый рабочий день недели. Как? Да нормально! Что за глупости вы себе думаете, Сергей Фёдорович?! Что же, нужно было отказываться? Ой, простите, ой, извините, ой, я не могу, облико морале, ой, меня не примут в пионеры!..
Ванчуков невольно рассмеялся: на ум пришла странная аналогия. Вот, к примеру, если бы с Адой вчера нужно было идти на партсобрание? Правда, парторганизации здесь как будто нет, называют её «профкомом». А настоящий профком именуется «месткомом». Так вот, если бы с ней – на партсобрание? Пошёл бы. А если бы с ней, например, в бассейн, стометровку плыть? Тоже пошёл бы. А ещё куда-нибудь? Металлолом собирать? Ванчуков опять улыбнулся. Да тоже пошёл бы! Просто совсем без разницы, куда идти. Вот так они вчера и оказались в одной кровати: потому что – без разницы. Что на партсобрание, что в кровать. Никаких лишних эмоций. А если бы она не пошла вчера? А тоже было без разницы.
Изольда? Что – Изольда? Та Сергея давно раздражала. С ней как с женщиной он бывал по обязанности. Разговаривать давно не о чем. Незадолго до смерти, может, месяца за два, как-то раз Калерия Матвеевна после очередных дрязг Изольды с мужем сказала Сергею:
– Бегите, дорогой Сергей Фёдорович, бегите… Она не даст вам жить спокойно…
Никакой лучшей рекомендации от женщины, сожравшей когда-то собственного мужа, конечно, ожидать было нельзя. Самое грустное, что Сергей даже не возмутился словам тёщи. В них не было мудрости. Однако не было и ненависти. Что же было? Была чистая правда. Изольда стала его ошибкой. Исправить же – ни сил, ни возможности.
Ольгерд, конечно, не раздражал так, как его мать. В нём было нечто живое, нечто своё, по-обезьяньи неуловимо похожее на самого Сергея. И случись этот Ольгерд на двадцать лет раньше, всё могло бы быть иначе. Но теперь Ванчуков воспринимал его как строгий ошейник с шипами, защёлкнутый второй женой на его больной, в шрамах, в облезлой седой шерсти, шее. К чести Изольды, она ни разу ещё не натянула цепь. Но цепь была, и ошейник – был; и это оба знали, хоть старательно избегали называть вещи своими именами.
Вот Лёва – другое дело. Теперь уже взрослый мужчина. Получил после Витьки Финкеля кафедру в заведование. Делает докторскую диссертацию. Ванчуков любил старшего сына. Нет, не так: Ванчуков любил сына. Потому что Лёва-то и был его сыном. Единственным. А этот? Этот – он так: побочный продукт. Байстрюк. Не повезло всем – Сергею, Изольде… Так с какой стати Ольгерд должен стать исключением?!
* * *
Без пяти восемь Олик выскочил после лекции на тёмную, всю в подрагивающих морозных одуванчиках фонарей, улицу Кибальчича. Куртяшку застегнуть забыл, разок мотанул вокруг шеи чёрный, «весёлым роджером» развевающийся шарф. Невыкуренная сигарета так и осталась нетронутой на самом дне чёрной кожаной папки. Убыстряя шаг; вприпрыжку скользя по раскатанным студентами пединститута дорожкам; срываясь, где можно, на бег, помчался к метро «ВДНХ».
В вечернюю школу при биофаке МГПИ Ванчуков попал совсем не случайно. Хотя на лекции и практикумы Олик ходил всего три месяца, история эта началась года два назад – а то, может, и ещё раньше. В школе Ольгерду всегда было откровенно скучно. Программа простая, неинтересная. Да и мать подлила масла в огонь. С тех пор как она села дома по уходу за Калерией Матвеевной, ей стало нужно больше причин, чтобы быть дома на самых, что ни на есть, «законных», по её мнению, основаниях. Изольда откуда-то взяла, что Сергей не одобряет её уход с работы. Сергею же на самом деле было безразлично. Уюта «посадка» жены дома в его жизнь нисколько не добавила. Готовила Иза плохо: неизобретательно, невкусно. Разговаривать с ней было особо не о чем. Поэтому Сергей Фёдорович с утра до ночи сидел на заводе. Ну а завод – место такое: бери больше, кидай дальше. Сколько бы ты ни работал, а несделанные дела всегда найдутся. Барышев такой же. Никто в заводоуправлении не удивлялся посиделкам Барышева с Ванчуковым часов так в десять вечера. Дым коромыслом, кофе, если чего покрепче – то под настроение; чертежи валяются по столам, меловая доска вся исчёркана цифрами да схемами…








