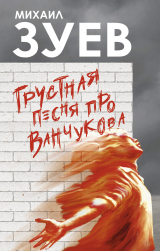
Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Вагон-ресторан, как раз и навсегда заведено директивой Министерства путей сообщения, располагался посередине состава. Сергей шёл сквозь громыхавшие раскачивающиеся стальные коробки: вагон – тамбур, вагон – тамбур, вагон… Колёса лупили по стыкам, в тамбурах сухое горло першило от раз и навсегда въевшейся в краску стенок вони табачных смол. Вагонные коридоры вымело от людей свалившейся на мир ночью. Холщёвые полосатые дорожки на полу, постеленные поверх ковровых, то тут, то там пестрели подсохшими грязными пятнами. Осень, дожди; три дня в пути, ещё четыре впереди – откуда уж тут взяться свежести половиков, как, впрочем, и свежести себя самого…
Дойдя, Ванчуков подёргал дверь. Закрыто. Постоял недолго. Постучал – не робко, но и без особого нахрапа: дворянская порода. Ещё через полминуты за дверью приглушённо зашевелились, замок лязгнул, дверь нешироко приотворилась:
– Чего тебе? Не видишь, всё, не работаем мы.
– Проголодался, – как-то беззащитно, по-детски тихо сказал Ванчуков расплывшейся в дверном проёме низенькой тётке с сальными волосиками на макушке. Та просунула голову в щель между дверным полотном и косяком, с шумом втянула воздух мясистыми, ходящими из стороны в сторону, как у собаки, большими ноздрями:
– Вроде не пьяный…
– Я не пил. Я есть хочу, – тётка недоверчиво с головы до ног ошкурила мужчину утомлённым жизнью взглядом. – У меня никаких припасов нет. Не купил… А есть хочется.
– Ладно, давай, – тётка открыла дверь, пропуская Сергея Фёдоровича внутрь. – Заходи, только без глупостей. И порционные – не подаём, кухня закрыта до утра.
– Ничего, спасибо, – улыбнулся Ванчуков, – давайте, что есть. И чаю, погорячее. Помолчав, добавил: – С сахаром.
Тётка по-доброму улыбнулась:
– С сахаром так с сахаром. Этого добра у нас хоть отбавляй, самогонку-то не гоним.
Вскорости тётка, приодевшая по такому случаю белый передник, сгрузила с блестящего подноса на столик миску гуляша с картофельным пюре, два солёных огурца, тонко порезанную копчёную колбасу, тарелку с порубленной горбушкой чёрного, блюдечко со слезой пошедшим сливочным маслом, бутылку боржоми, сахарницу, заварной чайник и сто пятьдесят водки.
Перехватив недоумённый взгляд Сергея Фёдоровича на пузатый графинчик, пожала плечами:
– Я по виду твоему поняла: пригодится. Давно, поди, на свете живу.
Ванчуков лишь благодарно улыбнулся в ответ.
Шебаршин позвонил Барышеву неделю назад, продиктовал дату и время. Хотел ещё дать адрес, но Барышев, записывая в блокнот, сломав дрогнувшей рукой карандашный грифель, перебил: кто ж четвёртый дом на Старой площади не знает?
Ванчуков Барышева выслушал спокойно. Излишне спокойно, отловил его браваду Барышев – гляди ты, ни один мускул в лице не дрогнул. Не боится? Или окаменел от всего, что пришлось вынести? От несправедливости? От шельмования? «Цирковые» гены в Барышеве были сильны, вынослив он оказался в этой жизни невероятно; трудно вышибить из седла, прежде подумай разок-другой наперёд, как бы Барышев сам тебя не вышиб или не пришиб! А вот Ванчуков, как и отец его, Фёдор Викентьевич, они другие – дворянская белая кость. Их тоже не подвинуть, но какой ценой? Что происходит у них внутри? Какими страшными усилиями даётся им внешнее спокойствие? Барышев знал: там, где он пройдёт, плюнет, разотрёт и не заметит, эти надорвутся и подломятся. Не потому что слабые. А потому что тонкие внутри, не кряжистые. И когда невидимый посторонним налёт погибели всё чаще стал проявляться на бледном худом лице Сергея, для Барышева то было как острым ножом по сердцу. По большому доброму честному сердцу Вячеслава Олеговича Барышева.
От двух стопок голова Ванчукова мелодично загудела, будто большой бархатный колокол липкой патокой малинового звона размазался под крышей черепной коробки. Ушло напряжение; расслабилась шея, спина обтекла мягкую диванную спинку, разгладились привычные волевые морщины носогубных складок. Поезд, раскачиваясь, уносил Сергея прочь от дома сквозь малолунную мокрую, но тёплую осеннюю ночь. Сергей Фёдорович встал с диванчика, потянул защёлку окна. Форточка двойного остекления выскользнула из рамы, немного откинулась, под напором впустив в вагон заоконную сырость.
– Кури, – добро, по-матерински, сказала низенькая тётка, ставя на стол ещё горячую от недавнего мытья кипятком чистую фарфоровую пепельницу с литерами «М.П.С.».
Ванчуков не спеша извлёк из глубин памяти фотографию; в который уже бесчисленный раз стал её разглядывать. Само фото осталось за тысячи километров приклеенным в домашнем альбоме. Но этот факт ничего не менял. Фотография была с Ванчуковым всегда. Срослась с ним. И всякий раз, когда пусто и одиноко, он осенялся её невидимым светом, словно крестным знамением.
Трое их тогда было, по прихоти судьбы попавших на один курс: Ванька Бурлаков, Слава Утёхин и он, Ванчуков. С Утёхиным вместе ещё с рабфака: Ванчуков пришёл из электриков, а долговязый Утёхин старше четырьмя годами, отслужил, потом колесил по стройке комбината шофёром и экспедитором. Пухлый блондинистый Ванька же был совсем молодой, весёлый, лёгкий, сразу после десятилетки. Хотел стать астрономом, но отец уговорил в металлурги. Ванчуков с Утёхиным сдружились сразу, Бурлаков добавился, понятно, годом спустя. Учились все трое на «отлично», пить – ну, особо, так чтобы, то нет; за драки не привлекались; на танцы в заводской клуб, а летом в парк бегали постоянно. Это же Славка познакомил Ванчукова с Евгенией – разглядел где-то двумя курсами старше, на соседнем факультете; хотел вроде как «для себя», но, увидев, какими безумными глазами провожает друг Серёга Женьку, отступился. Уступил.
Это они вместе, втроём – на незримо висящем перед Ванчуковым на фоне тёмного вагон-ресторанного окна фото; они, застыв, в воскресном девятом июле тридцать девятого. И губы у всех троих синие от холода. Только фотография ведь чёрно-белая, синева на ней незаметна. Даже небо над их стрижеными головами там серого цвета. А губы синие, потому что вода в озере студёна. Холодна и чиста. Смеющиеся Ванька и Славка в воде, по грудь, «замком» держа Серёгу вприсядку над водой на скрещённых руках. Через мгновение он прыгнет, рассыплются брызги; все втроём ввинтятся в воду и поплывут, кто как умеет, к небольшому островку невдалеке, чтобы выпасть из воды на песок, и валяться, и разговаривать, и шутить. Последний раз вместе. Это воскресенье. В понедельник Утёхин и Бурлаков сядут в поезд, уедут в Сталинград, по распределению, на Сталинградский тракторный. А Ванчуков останется.
Ванчуков не помнил, кто сделал фотографию. Может быть, это была Женька. Всякий раз, когда разглядывал жившее в его сознании фото – а встречаться с успевшей пожелтеть карточкой вживую было выше сил Ванчукова – из глубины поднималась тоска. И даже не от того, что не было больше на свете ни Бурлакова, ни Утёхина, а потому, что смешное студенческое фото как будто наперёд знало судьбы: двое ушедших держат высоко над водой того, кому суждено остаться. И никто ещё ничего не знает, никто не догадывается. Умная Женька потому-то и припрятала фотку – разве ж не понимала она, что творится в душе мужа?
– Вот видите, ребята мои хорошие, такие дела… – вслух сказал Ванчуков, допивая водку. Сидевшая в торце вагона за служебным столиком низенькая тётка не удивилась: повидала всякое.
– Ну, ты наелся? – безразлично спросила она Ванчукова.
– Спасибо, – ответил он и тихо кивнул.
Весь оставшийся путь до Москвы Ванчуков пролежал на верхней с «Мартином Иденом», выходя из купе лишь чтобы умыться, справить естественные надобности и раз в день что-то наспех бросить в топку. Даже курить забыл.
В Москве поселился в общежитии Минчермета на бульварах. Комната чистая, просторная, на двоих, без соседа. Вечером пошёл в «Ударник». Перед сеансом в фойе издевался над трубами, банджо и барабанами маленький оркестрик. Потом час с чем-то на экране что-то происходило. Что именно, не запомнил.
Старая площадь осталась такой же, как и тридцать с лишним лет назад, разве что стену Китай-города срыли. Дом с номером четыре Ванчуков смутно помнил с детства: с отцом много раз проезжали мимо на извозчике или на служебном, лопоухом – дутыми крыльями, изумлённом – выпученными глазами фар, чёрном «форде». Ждать пришлось недолго. Проверив паспорт, человек в штатском с выправкой проводил Ванчукова в комнату на втором этаже. В комнате был стол, четыре стула у стола; телефон, графин с водой, четыре стакана на столе; это всё. Окно сиротливое, без занавесок. Сергей Фёдорович присесть не решился, подошёл к окну. Окно смотрело во двор. Через двор, словно муравьи по тропе, ходили туда-сюда тронутые налётом важности люди, изредка нарочито медленно проезжали одинаково чёрные «победы» и «ЗиМы».
Ванчуков долгими годами представлял себе этот день, а теперь, когда он настал, не испытывал ничего, кроме внутренней усталости и равнодушия. Скрипнула дверь, Ванчуков обернулся. Вошёл неприметный средних лет человек с тонюсенькой папкой в правой руке – не высокий, не низкий, не полный, не худой, в аккуратном мышиного оттенка костюме с небольшим круглым значком с ленинским профилем на левом лацкане однобортного явно на заказ пошитого пиджака, в белой рубашке, при чёрном галстуке, на левой руке часы «Победа» на кожаном ремешке; предложил садиться, сам сел напротив, не открывая папки. Задавал вопросы, Ванчуков отвечал. Минут пять спустя папку открыл, негромко зачитал решение Комитета партийного контроля, копию решения выдал Ванчукову на руки; оригинал, сказал, будет направлен в городской комитет почтой. Снял трубку, набрал трёхзначный номер. Сказал несколько слов. Встал. Ванчуков встал следом. Мужчина пожал Ванчукову на прощание руку и вышел. Через минуту тот же человек в штатском проводил Сергея Фёдоровича до вестибюля. Ванчуков забрал из гардеробной плащ, впервые заглянул в выданный ему белый листок бумаги: «…Ванчукову Сергею Фёдоровичу, 1915 года рождения… восстановить в рядах Коммунистической партии Советского Союза… считать партийный стаж без перерыва…»
Ванчуков понял, что сильно проголодался. Недолго думая, отправился в гостиницу «Москва», поднялся на самую верхотуру в кафе «Огни Москвы». На удивление, обошлось без очереди. Что-то съел; хотел было напиться, но передумал. Спустился на площадь, по улице Горького поднялся до Центрального телеграфа, из переговорного позвонил Барышеву на домашний, не сразу сообразив, что дома уже глубокая ночь. Вяч Олегыч выслушал молча. Потом спросил:
– Дела в Москве ещё есть?
– Нет, Вячеслав Олегович.
– Домой хочешь?
– Ещё как!
Барышев продиктовал имя, номер телефона. Сергей Фёдорович позвонил, обо всём договорился. Утром к общежитию подошла машина. Ехали час. На аэродроме ЦАГИ в Жуковском Ванчукова подсадили в кстати подвернувшийся самолёт. До аэропорта Абагур оставалось три с лишним тыщи вёрст, двенадцать часов лёту, три промежуточных посадки. Ванчуков сидел, скрючившись, на узкой твёрдой скамье по борту холодного салона. Фюзеляж транспорта был весь заставлен ящиками с оборудованием. Через час из кабины вышел штурман, уставился на порядком замёрзшего Сергея, сердобольно спросил: «Спирт будешь?» Оказалось, что как ни верти, а хлеба и тушёнки всё равно меньше, чем спирта.
Сели в Абагуре, прямо посреди города. Барышев как чувствовал: приехал встречать, сам был за рулём; упёрся мордой бежевой служебной «Победы» прямо в торец скользкой, жухлой травой поросшей полосы. Ванчуков, просветлённый, картофельным мешком скатился с самолётной лестнички. Барышев споро поймал, порывисто обнял, прихватил, зафиксировал. Донёс на плече до машины, загрузил тело, портфель и чемоданчик на заднее сиденье. «Победа» кругом почёта крутанулась, плюясь из-под колёс грязью с ошмётками травы, забуксовала было, но – дёрнулась, ускорилась, повлекла мало что соображавшего Ванчукова вперёд, к светлому будущему.
Глава 3
Гулкий коридор городского глазного диспансера ядовито пах новым линолеумом и чем-то ещё, волнующе-медицинским. Ранним вечером под высоким потолком тускло светились молочно-белые шары потолочных ламп. Метрах в тридцати, в конце коридора, в дальнем торце в стене угадывалось полутёмное окно.
– Сколько створок у оконной рамы, две или три? – спросила Евгения сына. Створок было четыре.
– Две, по-моему, – прищурившись, тихо ответил Лёва. – Ну, может, три. Мам, ну какая разница! «Смутился, – подумала Женя, – вот зря я с ним так».
– Ты посиди – я скоро, схожу пока в аптечный киоск внизу. Если раньше вызовут, заходи, – вполголоса попросила сына. Тот, поправляя тяжеленные, оставляющие канавку на переносице очки, лишь молча кивнул, провожая маму взглядом.
Аптечный киоск Евгении не был нужен сто лет в обед. Просто – собраться с мыслями. А мысли посещали невесёлые. Вот и сбежала, чтобы не дай бог не разреветься при сыне. За полтора месяца Евгения «собрала» всех приличных глазных врачей города. А результата как не было, так и нет. Доктор Гликман, главный офтальмолог, стал последней надеждой. Выше идти некуда. И не к кому.
Лёва не любил больниц. Какой нормальный парень в восемнадцать может их любить? Лёва любил две вещи: математику и бокс. И тем и другим занимался давно. Занимался честно, самозабвенно, без поблажек. Учёба и спорт помогали друг другу, были единым целым. К математике, привечаемой мальчиком с детства, незаметно добавилась физика. Всякие химии-истории-биологии шли не очень, поэтому школьная медаль вышла лишь серебряной. Но что значит «лишь», если в городе выпускников-медалистов в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом по пальцам перечесть? К боксу же сразу после вступительных экзаменов – серебряные медалисты сдавали два, а не четыре – добавилась институтская секция альпинизма. Руководитель секции, расслабленный жилистый тридцатилетний доцент кафедры сопромата Угрюмов, полностью соответствовавший фамилии, посмотрел на пришедшего новобранца, коротко кивнул, приладил пояс, зацепил страховочным концом и пустил вверх по тренировочной стене. Посмотрел с минуту, тут же проснулся, встал со скамейки, даже присвистнул. Семнадцатилетний жутко серьёзный и жутко стеснительный студент первого курса по специальности «обработка металлов давлением» Лев Сергеевич Ванчуков был немедленно зачислен в альпинистскую секцию – ещё даже не успев спрыгнуть и коснуться пола носками новых кедов.
Целый год всё было нормально. Но в конце первого курса пришла беда. Дрянное зрение (а другому-то и взяться неоткуда, если оба родителя с детства с миопией средней и сильной степени) пошло вниз стремительно. Подбор очков, повторяемый теперь каждые два месяца, не помогал. Не успевал парень привыкнуть к новым линзам, как они уже годились разве что для мусорного ведра. За полгода цифры съехали с «минус трёх» до «минус пяти». Было понятно, что этим дело не ограничится.
Лёва не жаловался. Он вообще не привык жаловаться, никому и ни на что. Был он упёртый, спокойный и справедливый. Небольшого роста, может, на сантиметр выше отца. Флегматичный. Шуток не понимал. Из-за многолетних занятий боксом все его в окру́ге знали, шпана не связывалась – были поползновения, но всякий раз кончались для шпанцов плохо. Он и теперь ни на что не жаловался. Мама случайно обратила внимание: сын иногда морщится так, будто что-то его беспокоит. Лёва долго не сдавался, на мамины расспросы отмалчивался, но потом всё же признался: «Голова стала болеть».
В кабинете глазного врача никого не было – сказали, отошёл на консультацию в горбольницу. Лёва сидел на фанерном стульчике возле самой двери. Гликман на приём опаздывал уже минут на пятнадцать. Лёву это не беспокоило. Если придётся ждать – значит, буду. А как иначе?
Через минуту после маминого возвращения пожилой усталый сутулый доктор Гликман быстрым шагом, чуть подволакивая левую ногу, прошёл длинным коридором, открыл дверь кабинета, махнул рукой – «заходите». Посадил сына и мать на два стоящих рядом стула. Вопросов задал немного. Лёва к ним привык, потому что слышал их и раньше, у других врачей. Ответы выслушал внимательно. Было видно, что никакие вопросы ему не нужны – работал он уже лет сорок, так что все вопросы были давно заданы, ответы получены. Лёва, правда, даже улыбнулся: вопросы доктор задавал вроде бы ему, а отвечала в основном мама. Доктор в ответ улыбнулся тоже. Глаза его были зелёные, добрые. Несмотря на приличный уже возраст, очков он не носил. «Наверное, это хороший признак, – подумала Евгения, – если офтальмолог сохранил собственное зрение. Пусть тогда и нам поможет…»
– Ну, давайте, молодой человек, учить вас ничему не надо, всё и так сами знаете. Лопаточку в руки, левый глаз прикрываем, читаем вторую строку… Третью… Четвёртую…
Проверил другой глаз. Пощупал глаза через прикрытые веки.
– Хорошо, хорошо, молодой человек, давайте к гиперболоиду инженера Гарина! – «Юморной он всё же», – усмехнулась Евгения, наблюдая, как Гликман прилаживает голову сына к солидному офтальмоскопу.
После осмотра глазного дна задумался. Недолго помолчал:
– Подождите маму в коридоре, хорошо? Я её скоро к вам отпущу.
Лёва сосредоточенно кивнул, встал, вышел, закрыл за собой дверь.
Доктор сел за стол, придвинул стул, сложил руки перед собой, сцепил пальцы.
– Не стану вас зря обнадёживать. Вы ведь хотите знать всё как есть?
Евгения сосредоточенно кивнула.
– Так бывает. Не очень хороши дела с детства, но… – доктор Гликман замялся, подыскивая слово, – …но терпимы. Словно, ну, как поточнее сказать, привычны. Человек же ко всему привыкает. И потом, лет в шестнадцать, семнадцать, у кого как, может, в восемнадцать – раз! – и такой вот скачок. Даже, я бы сказал, прыжок. Недобрый. Проблема в том, что мы не знаем, на каких цифрах тот прыжок остановится, – доктор опять помедлил, – и остановится ли вообще. Вы меня понимаете?
– Что вы хотите сказать? – каким-то чужим, металлическим голосом вымолвила Евгения.
– Я хочу сказать вам правду. И я её скажу. Так вот. У вашего сына всё было неплохо. Процесс не прогрессировал. Да?
Евгения опять кивнула.
– А потом – выпускной класс. Экзамены, волнения. К тому же он у вас боксом занимается. Правильно?
– Правильно… – эхом отозвалась Евгения.
– Даже если по голове не получал, бокс – это как вибрационная болезнь у шахтёров с отбойным молотком. Только там это профессиональная вредность, а здесь – вот даже не скажу, что. Постоянные сотрясения корпуса. Напряжение мышц шеи и спины, рефлекторно передающееся на зрительную мускулатуру. Рассуждать можно долго и красиво, никто не знает, как там на самом деле. Одно известно – бокс с сохранением геометрии глазных сред и остроты зрения не дружит. Вы меня понимаете?
– Да, понимаю, – отрешённо вздохнула Женя. – У меня же ещё дочь. Они близняшки. И у неё тоже зрение начало ухудшаться.
– Ничего не поделать, – Гликман встал с кресла, прошёлся по продолговатому пеналу кабинета от стены к стене. – Ну да ладно, пока это были общие слова. Правильные такие. Без них в нашей профессии никуда. Простите великодушно. Теперь о том, что делать. Увы, делать особо нечего. Симптоматическая терапия, всякие капли – они, если честно, что мёртвому припарки… И подбор, раз за разом, новых очков. Каждый раз всё хуже и хуже. Всё сильнее и сильнее. Могут быть самые непредсказуемые последствия. Вплоть до слепоты, – последнее слово Гликман произнёс тихо, но с расстановкой по слогам.
– А когда оно остановится? – хрипло спросила мать.
– Я же сказал: не ведаю. Да и не я один не знаю. Можно, конечно, пойти оперативным путём. У нас, кстати, в городе филиал московского института офтальмологии, в курсе?
– Я знаю, – кивнула Евгения.
– Беда в том, что гарантий такие операции не дают. Делают их недавно, не набрали ещё должного опыта. Можно рискнуть, но ставки – сами понимаете… Хотя… – врач замолчал.
– Что «хотя»? – встрепенулась Женя.
– Даже не знаю. Если не скажу – буду неправ. Если скажу – тоже. А-а-а, ладно… – махнул рукой Гликман. – Есть такой метод. Вроде есть, а вроде и нет. Снаружи – простой, внутри – чертовски сложный. Называется «тканевая плацентарная терапия». После родов у рожениц берут плаценту. Обрабатывают определённым образом. Консервируют. И при необходимости подсаживают больным.
– Это сложно? – неосознанно подалась вперёд Евгения.
– Если с точки зрения непосредственно операционной техники – элементарно. Под местным обезболиванием в мягких тканях спины делается карман, туда подсаживаются кусочки плаценты, накладывается пара швов сверху – и до свидания. Сложность в другом: какую плаценту забирать, у кого, как её обрабатывать, как консервировать, по какой схеме подсаживать. Первым этим заниматься начал академик Владимир Петрович Филатов. К сожалению, в прошлом году Владимир Петрович ушёл из жизни в весьма преклонном возрасте. Так вот: есть данные, и их всё больше, что подсадка плацентарной ткани останавливает прогресс миопии.
– Что значит «останавливает», доктор?
– А то и значит, сударыня. Не лечит. Не делает лучше. Но дальше процесс не развивается. Где его поймали, на какой стадии – там он и останавливается.
– А сколько раз нужно делать операцию?
– Есть разные схемы, и никто не знает, какая из них лучше. От одного до трёх-четырёх. В том-то и загвоздка.
– Спасибо, доктор. А кто делает? Вы?
– Нет. Я методом не владею. Мне, буду с вами честен, не велено. В городе такие вмешательства производит только один врач.
– Глазной?
– Удивительно, но нет. Не глазной. Хирург общей практики. Главный врач центральной больницы, Михаил Иванович Пегов. У самого Филатова учился, переписывался с ним годами. Больше вам никто не поможет. Только тут проблема… – Гликман снова ненадолго замолчал. – Проблема в том, что Филатов хоть и был большой человек, академик, Герой соцтруда, орденоносец, – даже на Нобелевку его выдвинули, правда, не наши, а тамошние… – а метод-то всё равно так и остался, как бы так сказать… официально не одобренным. Нет его нигде в министерских нормативах и рекомендациях.
– И что же, доктор?
– А то, что теперь, после смерти Филатова, кое-кто пытается его имя вымарать из истории медицинской науки. И так сделать, чтобы о методе его забыли и никогда больше не применяли.
– Это очень серьёзно? – тревожно спросила Евгения.
– Весьма. У Михаила Ивановича уже были проблемы с контрольным управлением горздрава. Он полгода как операции по филатовскому методу прекратил. Да и вообще он теперь оперирует реже. Здоровье шалит.
– И что же мне делать?
– Простите. Простите, – это всё, что я вам могу сказать. Попытайтесь встретиться с Михаилом Ивановичем – возможно, он найдёт основания для приёма. Возможно, он вас выслушает. Он хороший человек, отзывчивый.
– Можно мне будет сослаться на вас?
– Ссылайтесь, ради бога. Старый Гликман никогда от своих слов не отказывался. Только вряд ли это поможет. Ответственность, в случае чего, всё равно вся будет на нём. А метод… я же вам сказал: вроде бы есть, а вроде бы теперь уже и нет.
– Я пойду, доктор! – поднялась со стула Женя, забыв поблагодарить и попрощаться.
– Идите, деточка. Если что-то делать, что-то в мире будет меняться. Желаю вам, чтобы перемены были благоприятны для вас. И ваших деток.
* * *
Сергей Фёдорович коротко, но конкретно, чётко, обстоятельно – как всегда – выступил на утренней планёрке у начальника цеха. Сдал дела молодому, пугливому, в дети ему годному – второй год после института – дневному мастеру. Почистил зубы над побежалой потёками ржавчины эмалированной раковиной – челюсти заломило родниковым холодом, без удовольствия умыл колючее лицо пахучим мылом. Бриться не стал. Глотнул полстакана горячего сладкого чаю. Переоделся устало – спину ломило. Зашнуровал ботинки, закурил, вышел из прокатного, грохочущего каждодневной стальной жизнью, на заводской двор. Ночью над заводом зависал осенний дождь. Такой казённый, ленивый, как всё вокруг. Необильный, словно по обязательству – без задора, в меру, для галочки. Пыль немного прибил, грязи не развёл – ну и ладно. Ванчуков с детства хотел, чтобы если дождь – так дождь, чтобы в лужах плескалось и гудело высокое синее небо. На этот раз для луж воды не хватило. Земля, гравийные и песчаные дорожки, асфальт просто стали сырыми, местами в радужных разводах от неряшливо пролитого когда-то, то тут, то там, бензина или дизтоплива; и оттого выглядели неопрятно.
Никаких планов у Ванчукова после ночной смены не было. Вообще. Сергей просто хотел доехать до квартиры и лечь спать. Дети в институте, жена на работе. Дома будет тихо. Мешать некому. Он невольно поёжился, поднял воротник плаща, бросил окурок в урну и пошёл по дорожке в направлении центральной проходной.
– Серёжа, – негромко окликнула сзади Женя. Ванчуков обернулся. – Доброе утро, Серёжа. Постой. Поговорить надо.
Жена шла из заводской лаборатории. За четыре года из простого инженера поднялась там до замначальника. Ванчуков же как был сменным мастером, так там и остался.
– Присядем? – Евгения свернула с дорожки к крашенной зелёным деревянной лавочке. Сергей поплёлся следом. От утренней прохлады его ощутимо потряхивало.
– Я водила Лёвушку в глазной диспансер.
– Да? – глупо спросил Ванчуков.
– Да, – не замечая отсутствующего взгляда Сергея, ответила жена. Она давно уже не замечала ни его отсутствующего взгляда, ни самого Ванчукова. – Были у Гликмана.
– А кто это? – не понял Ванчуков.
– Главный врач.
– И что? – прозвучало грубо, словно Ванчуков взял и посреди пустого места сказал: «И чего ты ко мне пристала?» Евгении же было всё равно. Она даже не заметила.
– Серё-о-жа, – глядя куда-то в другую сторону, низким грудным тоном прогудела Евгения, – он… он ослепнет.
– Когда?.. – сдуру ляпнул Ванчуков. – Ч-чёрт, я не это хотел сказать! Что ты такое несёшь?! – Евгения не ответила. Отвернула лицо в сторону. Осенний ветер сушил и холодил влажные скулы и щёки.
Повисла тишина. Женя собралась с силами, твёрдо отчеканила:
– Гликман… дал нашему сыну!.. шанс, – «нашему» прозвучало с надрывом. – Один шанс, Серёжа! Если его будет оперировать Пегов… – Ванчукова передёрнуло. С женой он давно договорился: что было, то быльём поросло. Теперь же Евгения договорённость нарушила.
На лице Евгении снова проявились едва заметные на ветру мокрые дорожки под глазами. Ванчуков отвёл взгляд. Многое пришлось ему в жизни пережить, но в такие минуты он чувствовал себя сволочью. Беззащитной сволочью. Тихие беззвучные женские слёзы испепеляли мужскую душу, словно беспощадная вулканическая расплавленная лава; и не было от них спасения.
Всё началось почти четверть века назад. Женька Гурова была старше их всех, без пяти минут выпускница «доменного» факультета. На вечеринку в общежитие привёл её Славка Утёхин. Они тогда гурьбой сидели, второкурсники, конец зимней сессии праздновали. Славка был ровесником Женьки, на четыре года старше Ванчукова. У Сергея ещё детство в голове шарманку крутило, а Славка уже – мужик солидный. А солидному пора обзаводиться домом и семьёй.
Евгения вышла из исконных сибиряков, предки её крестьянствовали по Енисею да пушниной промышляли. А вот она решила в инженеры. Не просто так. Батя, недолго думая, решил подросшую дочь отдать за своего товарища, тоже охотника. Товарищ был положительный, хозяйство крепкое, хребет мощный – не перебить, не переломать. А Евгения не захотела. Повздорила сильно с отцом. Разругалась смертельно. Тот запер её в погребе. Защёлку изнутри гвоздём расковыряла; руки в кровь изгвоздав, ночью дверцу открыла. И, в чём была, пешком через тайгу подалась в город, на строительство комбината. Потом уже, сказали, повезло ей. Суженого-ряженого, отцом назначенного, в тридцать седьмом увезли прочь. Хозяйство порушили. Избу да делянки с землёй сровняли.
Ванчуков, сам хлипких дворянско-еврейских космополитских корней, женщин таких – плебейских, душою цельных, телом ладных, движениями плавных, речью глубоких – не встречал никогда доселе. Разве что на картинках. На репродукциях Кустодиева; может, ещё Петрова-Водкина. А тут вошла: тихая, но властная; медленная, знающая себе цену, но добрая. Светлая изнутри, но не коптящая.
Сергей залип. Что делать, не знал. Ходил за нею всюду. В библиотеку, в кино. На институтских комсомольских собраниях старался сесть поближе. Она его особо не привечала, но и от себя не гнала. Славка только головой покачал, сказал: «Тебе и карты в руки. Пошёл я». Не захотел быть третьим лишним.
Прошло лето, Женя выпустилась, стала молспецом, получила комнату в новом бараке, в верхней слободке, недалеко от комбината. Приняли её в партию. Они три месяца не виделись – летом Ванчуков уезжал далеко-далёко, на запад, на Обь, разнорабочим в изыскательскую партию. В первый день сентября, сразу после лекций, Евгения встретила у института. Сказала: «Пошли». Сергей не понял, спросил: «Куда?» Ответила просто: «К тебе и ко мне. К нам. Жить».
Что тут скрывать, не было у Серёжи мужского опыта до Жени. Так вдобавок, оказалось, и у Евгении не было мужчин до него – ничего не добился тогда настырный папаша с ненужным женишком. Вот так они одновременно стали: Сергей – мужчиной, Евгения – женщиной. Днями Серёжа учился, ночами устроился на подработку. Сначала электриком – а что такого, дело-то давно знакомое. Потом, после третьего, в прокатный, чтоб специальность с самых рабочих азов знать. Свадьбу комсомольскую справили через полгода. Весело, задорно. Обошлось без драки. Подарили молодожёнам обеденный стол и четыре стула – мол, чтоб в доме гости не переводились. С детьми не спешили. Только уж после того, как Сергей вышел на диплом, решились. Близнецы родились в начале сорокового, а уже весной Ванчуковы из деревянного, но тёплого и уютного слободского барака съехали в только что отстроенные светлые трёхкомнатные хоромы на главной улице. Улица становилась всё длиннее, новых домов – всё больше и больше.
Военное время Сергею запомнилось сумбурно, фрагментарно, словно в каком-то тумане. Он внезапно стал холостым. Из мужа и новоиспечённого отца превратился в рыцаря прокатного стана, лишь изредка покидавшего цех, где теперь жил на военном положении. Приходя домой на одну-две ночи в месяц, видел детей и жену словно со стороны, как будто это не его; как будто ему показывают какой фильм или спектакль, где он одновременно и зритель, и герой. И без того не особо телесно состоявшийся, Ванчуков сбросил ещё семь кило, хоть кормили в цеху достаточно; стал мускулистым, жилистым, но чувствовал себя плохо. Сказывались постоянное пребывание в сухом раскалённом цеховом воздухе, безудержное курение, злоупотребление чифиром – тогда без него было не выжить, да и «наркомовский» спирт здоровья никому не прибавлял. Люди понимали: мы здесь, на комбинате, одни; помощи, замены, пощады ждать неоткуда. Многие, кто постарше, тяжело заболевали, их комиссовали. Кто-то умирал прямо на рабочем месте. Оставшиеся смотрели на приходящих новичков даже не снисходительно: с сожалением. Сожалели не из-за смертей товарищей. По большому счёту, к смерти все привыкли. Она устоялась, прижилась в ближнем кругу каждого заводчанина, как кто-то давно знакомый, не нуждающийся в представлении. Сожалели же потому, что неопытных молодых нужно учить. И не один день. Пока молодой слаб, положиться на него нельзя. Значит, нужно взвалить на себя больше. Ещё больше, чем было. Войне всё равно, где ты – в окопе ли, в цеху ли. Прокатит по тебе кованой танковой гусеницей, размажет по бетонке и не вспомнит: был, не был.








