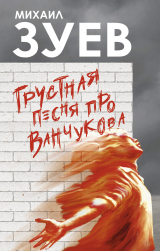
Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Глава 6
К пяти пополудни солнце, неуловимо багрянея, идёт на посадку; перекатывается наверх горки, откуда вытекает, жарко подрагивая в зарождающемся мираже, улица плавленого асфальта с раскалёнными трамвайными рельсами. Море вдали устало бликует патокой штиля. Горяч воздух; поднимается, дрожит по-над застеленными покоробленными стальными листами крышами, строя причудливые отражения. Птицы смолкают: жарко. Совсем уж далеко, ближе к горизонту, внизу, в гавани, то и дело растревоженными китами раскатисто бухают судовые гудки. Им вторят муравьями ползущие трамвайчики – тринь-трень… динь-дон-н-н!.. – ухая-постукивая тяжёлыми в зеркало отполированными стальными катками по рельсовым стыкам. Такое время, странное время: не день уже, и ещё не вечер.
Солнце устало. Сноп первых вечерних – вот теперь-то понятно, что уже не дневных – лучей пробивает мутное, неведомо когда мытое, стекло в оконной раме, да прямиком отправляется туда, где ему и нужно сейчас быть по всем законам небесной механики: в угол комнаты.
Пуста комната. Двойная распашная, белым крашенная дверь плотно прикрыта. Ни мебели, ни занавесок, ни люстры. Нет вообще ничего, кроме маленькой кроватки в уголке. Раскинувшись, влажно разметавшись, раскисши от жары, на ней спит Ванчуков. Первый раз на новом месте.
Ехали долго. Папа, мама, бабушка и Олик. Четыре дня, три ночи, пересадка, два поезда. Ванчукову уже четыре месяца как два полных года. Никогда не ездил поездом. Если прижаться лицом к стеклу, всё-всё за окном вагона оживает. Сначала – верблюды, степь, пыльные просёлки, серьёзные люди в войлочных халатах. Другим утром – рощи, реки, аккуратные белёные домики-мазанки. Третий день… а что третий? Да так, ничего особенного. А на четвёртый – море! Настоящее.
Скользит поезд по берегу. Между колеёй и волнами узкая полоска песка.
В дороге устал, всё тёр глаза руками – вот и загноились. Бабушка говорит длинное незнакомое слово: конъ-юнк-ти-вит. Женщины, как могли, лечили: глаза крепким чаем промывали. Вроде прошло, но всё равно – веки со сна разлепить непросто.
Ну, так всё это уже позади. А сейчас солнце целует, щекочет-озорничает. Будит. Олику просыпаться не хочется – а солнце требует! Пролезает озорно сквозь заклеенные отступающим конъюнктивитом веки, дразнится, не переставая – нестерпимо хочется чихнуть.
Еле слышно открывается дверь спальни. На пороге отец с Нечистым: тащат панели разобранного платяного шкафа. Стараясь не шуметь (получается плохо), ставят к стене. Уходят за инструментом, возвращаются; начинают потихоньку скручивать деревяшки между собой. Ванчукову хочется разлепить веки, но получается не очень.
Склеились ресницы. А через клей ресниц и розоватость век в узкой глазной щели занимается радуга. Смеётся солнце сквозь немытое окно. Отец оборачивается, лицо его расплывается в радуге склеенных ресниц, становится похожим на воздушный шарик.
Июль шестьдесят четвёртого. Город полного Солнца.
Самый первый день.
* * *
Им по четыре. Неполных.
У Олика есть большой фанерный паровоз и вагон к нему в придачу. У Гули – железный самосвал. Это значит, что Олик и Гуля с утра до вечера возят важные грузы. Лёша, Гулин старший брат, ему уже восемь, куда-то ушёл, а потом вернулся и притащил им экскаватор. Это значит, что у них есть железнодорожная станция и платформа для погрузки-разгрузки. Они насыпали три террикона возле дороги. Завтра будут строить дом. Это будет заводоуправление.
Им по пять.
Олик подрался с Лучиной, и Лучина разбил ему нос. Гуля подрался с Лучиной, и Лучина разбил ему нос. Гуля и Олик вдвоём, в кровавых соплях, накостыляли Лучине, и тот убежал жаловаться матери. Олик и Гуля не стали дожидаться, когда прибежит Лучинина мать, а пошли в соседний двор, через два дома, умываться. Там водонапорная колонка. Умылись. У Олика нос почти не болит, а Гуля ещё немного морщится. Потом пошли к Гуле домой. Он живёт через два подъезда от Ванчуковых. У его бабушки холодный вишнёвый компот. Вкусно.
Олику и Гуле по шесть.
Если протиснуться в узкую щель между гаражами, то за третьим по счёту гаражом, между ним и забором детского сада, много места и никого нет. Гуля знает, как строить вигвам. Олик и Гуля целый день строили вигвам, таская ветки и дощечки через щель за гаражами. Потом пришёл Лёша. Он не смог пролезть в щель – он большой и застрял. Тогда он залез на крышу последнего гаража, спрыгнул к Олику и брату и сломал их вигвам. Лёша не хотел, да они и не обиделись: «Снова построим вигвам».
Гуле семь, Олику тоже почти. Завтра они вместе идут в первый класс.
Одинаковые рубашки, одинаковые портфели, одинаковые пеналы для карандашей, одинаковые чернильницы-непроливашки. Портфели пахнут кожзамом. Рубашка жмёт Олику шею. Портфели достала в отделе рабочего снабжения на работе тётя Лина, мама Гули. А рубашки шила тётя Иза, мама Олика, и чуть ошиблась в размере на рубашке для сына.
Олик с Гулей не боятся школы. Только волнуются немного. Олику вместе с Гулей хорошо. Гуля – друг.
* * *
Вечером, вчера, чуть ли ни каждый час:
– Алё, Гуль, ну?
– Не знаю, не пришёл ещё.
Потом.
– Гуля, ну чего?
– Ничего.
Наконец!
– Олик, давай в десять!
– В десять? Как штык!
Каникулы. Июль. У взрослых работа. Одних не отпустят. Остаётся Лёша. Он уже взрослый. С ним можно.
Утро, без пяти десять:
– Ба-а-а, пока! – Ванчуков скатывается со своего четвёртого: холщовая сумка с бутербродами и сухими трусами, майка-алкашка, жёлтая панамка, шорты синие, до дыр протёртые босоноги.
Гуля первым выходит из подъезда. Щурится. Ярко сегодня, безветренно, безоблачно. Лёша, дымя сигаретой, за Гулей следом.
– Привет, Ольк! – это Лёша.
– Здравствуй, Лёх! – это Олик.
– Чего встали? Пошли! – а это Гуля.
На улице: две остановки в горку. Можно на трамвае. Но ходят редко, и всё равно вылезать на пересадку. Улица утром нарядная, мокрая после поливалок. Они не для асфальта, для газонов: лето засушливое. А всё равно на асфальт стекает. Вкусно пахнет мокрой травой и прибитой пылью.
Идут молча, по левой стороне. Вот дом Светки с соседней парты, за ним – Лёхи Рёвы. Через дорогу Игорёк живёт, вот же его балкон – под самой крышей! На перекрёстке Лёшу окликает парень. Шушукаются о чём-то – не слышно. Подъезжает трамвай:
– Мелкие, я на следующем, догоню! С круга без меня ни ногой!
– Хорошо, Лёх!
В два прыжка в вагоне. Трамвай внутри ароматен. Пахнет металлом, машинным маслом, коленкором, деревом, грязью, подгнившими персиками, по́том, разлитым на пол кислым квасом. На маршруте два кондуктора, работают по очереди. Один – лет шестидесяти, с деревянной ногой. Когда по вагону идёт, нога поскрипывает; морщится – больно. Сегодня же – тётка со двора. Как зовут, Ванчуков не знает. Он с Гулей со всеми во дворе здоровается. И с ней тоже.
– Здравствуйте! – это Гуля.
– Здрасьте! – а это Олик.
Тётка улыбается – совсем легонько, лучистыми морщинками возле глаз, остаётся неподвижно сидеть на служебном кондукторском месте. Это означает: я вас узнала, поедете сегодня со мной без билетов. Олик с Гулей экономят шесть копеек на двоих.
– Слышь, копьё добавим, ещё на одно фруктовое хватит! – это Олик.
– Угум-с, – это Гуля.
Трамвай старый – на крыше дуга, не пантограф. Сцепка скрипит, в подполе вагона воет, лязгает; весь шатается в поворотах. В вагоне пусто. На передней сидушке какой-то мужичок в окно глядит; ещё Олик с Гулей, да кондукторша – вот и все пассажиры.
Дорога под уклон. Мимо ледоколом проплывает ванчуковская школа. У неё лето, она спит и видит задорные школьные сны. Ванчуков с Гулей теперь большие. Перешли в третий класс и потому будут учиться во вторую смену. Но то ещё не скоро. А пока – в половине одиннадцатого утра июля семидесятого – школа плывёт мимо трамвая, и им туда не надо. Олик с Гулей довольно переглядываются.
Совсем узкой и пыльной становится улочка; двухпутка иссякает в одноколейку. Сбоку от утопленных в землю рельсов горбатится вековая булыжная дорога. Ещё две остановки – и вагон, кренясь и хрустя, въезжает на разъезд; замирает. Минуту-другую стоит. Жужжит бестолковая муха. Жарко. Наконец в лоб к разъезду приближается встречный. Въезжает не сразу – «автомат» с той стороны заело. Тучный усатый водитель, бормоча под нос, спускается, ковыляет с ломом, переводит стрелку. Бросает лом в вагон под первое у двери сиденье; залезает по ступенькам, кряхтя, отдуваясь. Две встречных зелёных стальных сардельки вползают на разъезд. Путь свободен. Вагоновожатый крутит ручку, звякает колокольчиком. Вагон трогается.
На кругу Гуля и Олик безнадёжно долго ждут Лёшу. Наконец тот спрыгивает с задней площадки подошедшего трамвая:
– Что, вспотели?
Теперь недалеко. Пять минут, в предвкушении ускоряя шаг – и вот он, пирс, морская станция и пляж.
– Лёх, мы с пирса, а?! – это Гуля.
– Лёша? – это Олик.
– Дуйте! – это Лёша.
Сбросив на песок одежду с сандалиями – бегом на длинный пирс. Там скамейки, бабушки с внуками, кнехты, чалки от катеров, навес для тени, поилка-фонтанчик. Сильно-сильно разбежавшись – кто дальше?! – с торца в зеленовато-прозрачную воду! Из песка на дне сокровищами Аладдина драгоценно искрится и блещет галька. У-у-у-х-х! – гудит тугая вода в ушах. Теперь наперегонки до бакена.
Бакен – красный, ржавый, под ватерлинией весь оброс ракушками. Взобравшись на бакен:
– Чё-то холодно, а?.. – это Олик.
– Да не, не холодно. Погнали обратно! – это Гуля.
– Погнали!..
На берегу Лёша с ребятами. У них мафон и «прокол-харум»[10]10
Procol Harum, популярная британская музыкальная группа, основанная в 1967 году.
[Закрыть].
– Лёх, черешню дай! – это Гуля.
– Слуг нет! В сумке возьми! – это Лёха.
Олик и Гуля, Гуля и Олик – на самой полосе прибоя; тот сегодня штилем. На спинах, раскинув руки. Солнце печёт лица. Скользкие черешни во рту холодят зубы. «Ви скипд дзе лайт фанданго…»[11]11
Искаж. англ., строчка из хита A Whiter Shade of Pale группы Procol Harum.
[Закрыть] – выводят струнные.
Выплюнутая с силой черешневая косточка улетает в зенит. К солнцу. Оно так близко.
* * *
Ты вот попробуй рассказать, что такое зима, тому, кто живёт за Полярным кругом. На смех ведь поднимет! Тот, для кого зима девять, а то и одиннадцать месяцев каждый год, знает: зима – испытание. И даже если бравирует стойкостью, отрицать не будет.
Тогда попробуй рассказать, что такое зима, тому, кто никогда не выезжал из своих тропиков. Для него эта зима – симулякр. Вроде слышал, что бывает где-то, вроде в телевизоре видел; и что? Чужая реальность – далеко, да и не реальность-то она совсем, а так, видимость одна.
Другое дело, когда ты из южного города. Там, где летом и плюс тридцать с лишним не редкость. И помидоры вызревают с твою голову величиной; и море в августе – как парное молоко, и звёзды близко на иссиня-чёрном небе. Но вот наступает конец ноября, и вроде – пора, а всё никак.
Осенняя одёжка всё гнездится и гнездится на вешалке у двери. И шапка там же, на полке, куда-то забилась – с высоты твоего девятилетия до неё без стула и не добраться. И ботинки зимние, похоже, останутся неношеными в нетронутой коробке – нога-то растёт быстро (ох, как быстро, шепчет про себя мама) – и каждый день обещают минус, а он, словно заговорённый, оборачивается плюсом; пусть маленьким, но плюсом.
В школу: вторая смена. Час дня. Ясный, холодный день. Но опять плюс. С моря дует, сегодня жёстко. Шарф тёплый, не страшно. Семьсот метров от двери до двери, поначалу степенно, а ближе к концу дистанции почти бегом. Промозгло. Но яркое всё такое вокруг – никакой зимы. Не вяжется картинка с начинающими потихоньку подмерзать щеками.
А всего через шесть часов, в семь, открываешь высоченную дверь на улицу – она хлопает, тебя в темноту и в неверный свет качающихся фонарей выпуская, а тебе в мордашку – н-на!.. н-на!.. и ещё: н-на! – пригоршнями ледяной терпкой крупы! Началось! Неужели?!
И ты – тебе теперь всю дорогу под горку – идёшь, волочишь свой портфель неподъёмный, пьянеешь от сухого острого снега, втыкающегося в лицо, и думаешь: «Как же хорошо! Как долго я этого ждал!» Вот и трамвайный круг, и тебе направо, и всего-то полкилометра до дома, а прямо тут, перед тобой, гидрант несколько часов как прорвало – и до следующего перекрёстка тротуар – вовсе не тротуар, а под горку каток. И ведь раскатали уже! И ты – с разбега – скок на дорожку, и как же здорово, обувка демисезонная, и подошвы-то у неё скользкие! Только ледяная дорожка быстро кончается, и ты портфель бросаешь и опять бежишь вверх, к началу – да ты и не один такой, много вас, а дорожка одна! С хохотом и толканием, с кучей мала и присвистом – так до одури, до жара под холодной потной рубашкой, уже не скользишь – летишь над улицей!
А годом позже: первый снег ночью. И первый лёд на горке в соседском дворе. И вместо школы – с горки, с горки, на ногах, на портфеле, на заднице! И половина твоего класса тут, вместо школы и уроков. А в школе – так карантин же, ура-ура-ура! И уже ноги не держат, и штаны мокрые, и снег за шиворотом. И домой идти как-то надо, а портфель – ты на нём вместо санок – было портфелю всего три дня; и ведь дорогой был, ну и как объяснить, а?..
Ты не знаешь меры в зиме, потому что её мало и выключат её в любой момент, тебя-дурака не спросив, не предупредив. Зима в твоём городе – как кусочек хлебушка голодному ребёнку дать. Проглотит в один миг, спасибо скажет – да не наестся.
* * *
Бывает так: допустим, тебе пять. Или шесть. Или семь. Или ещё сколько-то – какая разница.
Отец уехал в командировку. За полторы тыщи километров. Вечером, в ночь, сел за руль и уехал. Он не один, он с водителем – они на подмене едут, чтобы не спать и быстрее доехать. Он уехал, а ты остался. У тебя такая же обыкновенная жизнь, как всегда.
Настаёт следующий вечер.
Никто не заваривает чай, неуклюже засыпая в чайник заварку и обязательно просыпая мимо. Никто не наливает потом в стакан с подстаканником, где что-то написано непонятными закорючками. Я не могу прочесть: это армянские буквы, написано – «Ереван»; а подарил дядя Гагик, мамин однокурсник.
Никто не скрипит стулом у телевизора. Телевизор выключен, никому теперь не нужен. Стоит: серый, металлический, совсем холодный. К нему щекой прижимаешься – он ледяной, а вот когда отец смотрит, тогда тёплый, потрескивает внутри. И, если принюхаться, от задней картонной стенки отдаёт свежей грозой.
Некому курить. Пепельница мытая – противная, нежилая, ненастоящая.
Секретер закрыт. Зелёная лампа, что обычно освещает внутренности, полные ручек, книжек, тетрадей – там есть даже увеличительное стекло и логарифмическая линейка – лампа выключена и повесила голову на самом верху. А стул, что всегда повёрнут к деке секретера, нынче прилепился спинкой к стене. Это не его место – но нет дома хозяина, и стул теперь просто старая мебель, а не держалка, к которой можно прилепиться обеими руками и отвлекать отца от дел.
Телефоны молчат. Все три: городской, заводской и прямой диспетчерский. Они горой – отпихивая друг друга: я!.. я!.. нет, я!.. – сгрудились на маленькой полочке. Их провода всегда путаются между собой, тогда отец тихо ругается. Иногда он кладёт трубку от одного на рычаг другого, смеётся. Отец близорук как крот, и без очков ему все телефоны на одно лицо.
Поутру не пахнет противным «шипром». Некому гудеть-жужжать бритвой. Некому чистить ботинки. Некому влезать в длинный чёрный плащ, да и самого плаща на вешалке нет. И шляпы тоже.
Так тянутся дни – три, четыре, пять – почти неделя. И вот он должен вернуться. В пять вечера – нет. В шесть – нет. В девять ты – «без разговоров, я сказала!» – идёшь спать.
Ты не ворочаешься. Ты покорно ложишься, натягиваешь одеяло до подмышек и засыпаешь. Но не до конца. Ты вроде спишь, а вроде не совсем спишь. Потому что ждёшь.
И где-то там, совсем сквозь сон, коротко хлопает дверь. И – голос, тихо-тихо. И чемоданом об пол – бух! И – чуть-чуть «шипр».
А ты в состоянии полного безоговорочного беспредельного яркого горячего счастья хочешь вскочить и к нему побежать, но вместо – тут же безмятежно засыпаешь совсем.
Чтобы утром проснуться от жужжания бритвы, стены запаха «шипра» и идиотского треска трёх телефонов.
* * *
А ты вечность как на воротах, и августовский закат против тебя, в лицо тебе, в глаза, и твоя команда дует – играть не умеете, и на ворота никто становиться не хотел, и ты тоже не хотел, а тогда кому; а сам играть тоже не умеешь и знаешь это, и вот вы дуете всухую, а тут Колобка в штрафной роняют, и вам пеналь, а это не «вам пеналь», это тебе пеналь – и выходит этот, крепкий, приземистый, кеды у него новые, красные; и так легонько разбегается, а это обманка – ноги-то каменные, и со всей дури тебе под дых – х-х-х-а-а!.. ты как подкошенный, мячом убитый, с мячом в себе, но не забил он!.. фига с два! – а что толку, вы всё равно сдули; и ты встаёшь из пыли – мокрый, грязный, и нижняя губа дрожит от боли и позора, и ковыляешь с площадки домой, мимо барака с палисадником, где собачка Булька, там Марина живёт, ты ей нахамил недавно и не извинился, она с тобой не разговаривает, отворачивается – и ты бредёшь мимо, а язык шершавый к нёбу прилип и сопли высохли от жажды, и волосы пепельными стали от пыли; и вдруг твоего плеча касается, и ты оборачиваешься – а это Таньчик, маринина сестра, мелкая, тебе уже десять, почти одиннадцать, а ей восемь, и ты уже растёшь, а она ещё нет, и всего-то она тебе по плечо; и не говорит ничего, только смотрит и двумя руками тебе кружку с холодной водой – да так смотрит, будто знает такое, чего ты не знаешь; и ты принимаешь из её рук кружку, в самый-самый первый раз, и не знаешь ты ещё, сколько раз будешь такую кружку из таких рук принимать, и не знаешь ещё, что вода в ней будет только живая или мёртвая, а третьего не дано; да как узнать, пока не пригубил, но это всё через годы – а пока ты смотришь в первый раз в её сапфиры небесные, и что-то такое растёт в тебе, чего не пугаешься, но удивляешься себе, и молча подчиняешься её жесту, а плечи твои расправляются; и вот ты уже варвар-победитель, и нет такой силы, чтобы от глаз её свой взгляд оторвать, – принимаешь только твой, тебе одному предназначенный, студёный кубок, наполненный мёдом и счастьем, нет его в целом свете дороже.
И начинаешь пить.
* * *
На следующий день не изменилось ничего. Только, если всегда Ванчуков просыпался, делал уроки, собирал портфель, выбегал из дома за пирожком с повидлом, ватрушкой или бубликом, прибегал домой, отдавал пирожок, ватрушку или бублик, хватал портфель и нёсся в школу во вторую смену, то на следующий день он проснулся, сделал уроки, собрал портфель и поплёлся в школу. Как обычно, мимо рабочей столовой, где и пекли пирожки с повидлом, ватрушки и бублики. Только теперь в первый раз прошёл мимо.
Дня через два исчезли очки с прикроватной тумбочки. Очень старые. Одна заушина сломана, а правая линза – круглая и изящная – с маленькой озорной трещинкой сбоку. Когда уходил в школу, очки были на месте. Когда вернулся, рядом с пепельницей, теперь пустой и чистой, не было уже ничего.
На следующий день не стало пепельницы. И тумбочки.
Ещё через несколько дней рассохшийся скрипучий комод, в чьи ящики Ольгерд любил засовывать курносый нос и нюхать чудесный запах древности – ещё тогда, в те времена, когда не доставал рукой до верхнего ящика – комод ушёл вслед за очками. На том месте, где он когда-то стоял, стена кричала совсем свежей, не выцветшей жёлтой побелкой. Это только кажется, что вещи живут сами по себе. Нет, они безраздельно связаны с людьми. И приходит день, когда их больше некому защитить.
Швейная машина исчезла, не прощаясь, спустя две недели. Подставка с ножным приводом – на нём Ванчуков совсем маленьким любил кататься, словно на качелях – оставалась на месте ещё какое-то время. Подставка без машины Ванчукову не нравилась: вызывала неясное щемящее чувство.
Когда человеку почти одиннадцать, мир изумительно материален, осязаем, ароматен и безжалостен.
Настал черёд кровати, старой, металлической, с продавленной сеткой, с никелированными перекладинами и круглыми холодными шариками. Вернувшись в очередной раз домой сразу с тремя пятёрками в дневнике, Ванчуков не обнаружил кровати. Вместо неё пятном сиял невыгоревший линолеум. Но на это было наплевать. Хуже другое – в том месте, где привыкли стоять тапочки, линолеум оказался вытерт. Раньше прогалины были закрыты тапочками – а теперь смотрели на Ванчукова, не моргая.
Тут до него впервые дошёл смысл произошедшего.
Тумбочка с тяжеленными хрупкими пластинками на семьдесят восемь оборотов и уснувшим на ней патефоном и раньше не интересовала Олика – лишь однажды, глупо разбежавшись из коридора, он влетел в неё и разбил две или три штуки, брызнувшие по полу острыми хищными осколками. Наверное, такими же, только ледяными, Кай во дворце Снежной Королевы составлял слово «вечность». А теперь отсутствие тумбочки не оставило в Ванчукове никакого следа. Только: «Ну вот, и тумбочка тоже…»
К сороковому дню всё было кончено. Осталась старая китайская фарфоровая чайная кружка, многие годы потом хранившая Олика. Впрочем, в один из уже взрослых переездов кружка бабушки Калерии исчезла. Грузчики поживились.
* * *
Ноябрьский день краток, словно предрассветный сон. Ноябрьский день прорисован штрихами лаконичности. Ноябрьский день исполнен тревогой. Ноябрьский день говорит тебе – мальчишка, подумай о большем.
Лишь только придёт утро, на небосклоне появятся следы сумерек. И пусть блики оранжевой палитры цветят серые стены домов и прозрачные скелеты тополей. Пусть.
Неслышно пройдут минуты, и город окажется мягко и внезапно укрытым, сначала – серой пеленой тумана, поднимающегося оттуда, снизу, от пирсов и причалов; потом – волной войлочных глухих сумерек, когда даже иерихонские гудки порта будут казаться мягкими. Обволакивающими, баюкающими, безысходными.
Они шли – молча, сосредоточенно, глядя под ноги. Верно, у них была цель. Верно, они прошли уже двадцать кварталов, всё удаляясь, удаляясь, удаляясь от уютного старого домика – оставшегося там, за шумным проспектом, за театральной площадью, за россыпью белых хат на склоне горы, за невесомым движущимся горизонтом, очерчивающим Город со стороны неба.
Они шли – молча, неровно, нервно, думая на ходу каждый о своём. То один из них, то другой – силуэты, окружённые певучим влажным воздухом ноября – забегал вперёд, задумавшись, забывшись – нет, верно, забыв что-то важное. Потом они снова брались за руки, пытались идти в ногу, подстраивая шаги свои друг под друга; так трогательно и заботливо.
Верно, войлок тумана, стелившегося вдоль бухты, заставил их поднять воротники, зашмыгать носами, крепче прижаться друг к другу. Заскрипели под ногами бесчисленные мелкие, обточенные временем камушки. Пятна выброшенных вчерашним штормом тёмных влажных водорослей заставляли подошвы ботинок скользить, только усиливая пожатие сцепленных рук.
Мелкая водяная пыль висела, будучи осязаемой – символ безраздельного единения воздуха; на глазах темнеющего свинцового неба; морской воды, кипящей бурунчиками вдалеке, обрушивающейся на каменистый берег с остервенением безразличного вечного двигателя, не ведающего боли, возраста, усталости.
Они вышли на мол; весь из старых разбитых морем бетонных плит, облепленный ракушками и сыростью; на мол, где в стороне угадывалась старая разрушенная водонапорная башня красного пористого кирпича; и остановились.
Море было рядом. Теперь оно гремело во всю ширь береговой полосы; оно лизало подошвы ботинок; оно ласкало днища брошенных шлюпок. Оно рождало туман и ту самую серую пелену, что должна была накрыть Город через десяток предзакатных минут, отчертив границу между детством и зрелостью, отмерив расстояние между прошлым и будущим, в который раз отделяя день от ночи.
Они опять думали – каждый о своём, слушая гортанные трели диковинных морских птиц; внимая гулу вибрирующих валунов; чувствуя скрип и пыхтение прогибающихся старых просмолённых свай. Они стояли, соприкасаясь ладонями, словно пытаясь защитить друг друга от этой неуправляемой неизбежности. Набегавший сырой ветер придвинул их ближе, давал им свежесть, давал им влагу, растворённую в мириадах терпких пылинок, оставляя солёные следы на их лицах.
В какой-то миг они перестали думать – каждый о своём. Они перестали дуться друг на друга. Они поняли – и это было не вдруг (нет, вовсе не вдруг!) – что-то такое, особенное; то, что раньше никогда не приходило им в головы. Тогда они отбросили прочь стеснение, обнялись, и ветер не был больше холодным. И море не было больше чужим, а туманная пелена, закрывшая в тот самый миг весь город, больше не пугала безысходностью. Она всего лишь одеяло. И рассвет будет – так скоро!
Так стояли они – двое Ванчуковых, двое мальчишек, двое человеков. А ветер трепал седые волосы одного и раскачивал смешной помпончик на шапочке другого.
* * *
Если же есть машина времени – найти скрипучую латунную ручку, провернуть назад с хрустом, и тринадцатилетним стать.
А по пологой зимней утренней дуге плывёт состав, ход набирая, тот, что из города твоего в Москву, узоры на окнах, уютно-тепло в вагоне от рычащего в коридоре титана, Курский через три четверти часа, уютно-тепло в тебе от тягучего, нёбо обнимающего чая с печеньем и сахаром, и неба черна синь, и почти уже солнце, край его красен, как арбузный; а мальчишки вдали гурьбой с горки на санках; один-то выпал, да кубарем с шапкой наперегонки; а ты хочешь к ним, туда, где холодно, и хочешь здесь, где жар, титан и печенье, и нет в тебе грусти, что всего и сразу не бывает, потому что – бывает, и всё возможно, даже машина времени.
Если же нет на свете машины времени и не повернуть латунной ручки – да и что?.. Бывает всё. И всё – возможно. Всё всегда с тобой и навсегда в тебе. Да и зачем тогда машина времени? Всё равно не догнать улетевшую с горки мальчишкину шапку.
Январь семьдесят пятого. Город полного Солнца.
День последний.








