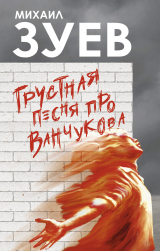
Текст книги "Грустная песня про Ванчукова"
Автор книги: Михаил Зуев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Евгения на появлявшегося на короткие побывки мужа смотрела с бабьей тоскливой жалостью, хотя так-то, в повседневной жизни, бабой не была: всё чаще «включала мужика». Знала: лучше так, урывками, чем изо дня в день, из часа в час ждать почтальона с треугольным конвертом. А то с похоронкой.
После войны, когда Ванчукова придавило и едва не погребло под свалившейся анонимкой, не отстранилась. Но и сочувствия особого не проявила. Сочувствовать не умела: отцовское воспитание, широкая кость. Ванчуков же изводил себя, видя, как те, кто начинал вместе с ним, а то и моложе, давно обогнали его, ставшего жертвой обстоятельств. Он не отдавал себе в том отчёта, но отчаянно нуждался в сочувствии. Друзей особо не имел: два настоящих, довоенных друга погибли, а просто пить с кем-то, чтобы «излить душу», не хотел. Да и вообще водку не уважал, как, собственно, и она его. К женщинам был не то чтоб равнодушен – просто некогда и незачем, ведь есть жена. И волнует она его до сих пор; сам себе порой удивлялся. Однако, не получая от неё отклика, потихоньку не заметил, как сам угас.
Трудно поверить, ни о каких «глупостях» с Изольдой поначалу и не помышлял. Девчонка и девчонка. Миловидная. Не в меру серьёзная. Ум живой. Бывает ехидной. И что? И ничего. Тем более дипломниц две. Барышева, дочь Вяч Олегыча, воспринималась Ванчуковым как филиал шефа. А в присутствии старших несуразности неуместны. Дипломный семестр вскоре закончился. Барышева получила на защите «хорошо», чему, зная предмет едва ли на «удовлетворительно», была безмерно рада. Три парня, как Ванчуков и предугадывал, защитились ни шатко ни валко, без особых претензий. Пегова блеснула. Доклад отбарабанила – видно было, что понимает, не зазубрила. На вопросы отвечала живо. Один раз сбилась немного, однако то было несущественно: сладкое яблочко без червячка не поспевает. Так что свой красный диплом она отработала.
После защиты прошло ещё с полгода. Партбилет Ванчукову осенью вернули. Он воспрял. На первомайской демонстрации пятьдесят пятого Сергей и Изольда, ставшая младшим инженером-конструктором в заводском КБ, шли в одной колонне. Им дали тащить один транспарант на двоих; Изе – за левую оглоблю, Сергею Фёдоровичу – за правую. На транспаранте было что-то написано про встречный план. После демонстрации оказались вместе в одной шумной компании, в гостях у ведущего конструктора. Пили яблочный сидр. Сидр – штука коварная; пьётся поначалу легко, словно играючи; голову сносит беспощадно.
Ванчуков отправился покурить на лестницу. Уже было там человек пять. На шум спора вышла Изольда. Постепенно народ всосался обратно в квартиру за добавкой: кто сидра, кто Массандры, кто водки. На лестнице Сергей и Иза остались вдвоём. Зачем Ванчуков привлёк девчонку к себе, ощущая собственной кожей под тонкой парадной рубашкой её грудь в тесных чашках бюстгальтера; зачем ему была нужна её гибкая талия; к чему его наглая левая рука угнездилась на её правой ягодице – Ванчуков не понимал и двадцать лет спустя. Изольда не дёрнулась. Не отстранилась. Неумело, окаменев, горячие сухие потрескавшиеся от весеннего авитаминоза губы ответили на поцелуй.
Краткий миг спустя они в панике отшатнулись друг от друга, будто оба попробовали что-то опасное, страшное, что-то ядовитое, будто каждый из них был для другого змеёй, будто их шибануло током из трансформаторной будки: «Не влезай! Убьёт!» Но было поздно.
Дальше началось непотребство. И дело тут вовсе не в том, кто с кем и в каких художественных подробностях стал спать.
* * *
Начать нужно с того, что Изольду сразу следовало вынести за скобки и оставить в покое. И вовсе не потому, что жена Цезаря выше подозрений – ни жён, ни цезарей на горизонте, понятно, и близко не наблюдалось. Причина в том, что она-то как раз была абсолютно свободна и распоряжаться собой имела полное право так, как ей заблагорассудится. Тем более Иза девушка молодая, неопытная; раньше с мужчинами в отношения вообще, а тем более – в близкие, никогда не вступавшая. С другой стороны, молодость её была уже на излёте: двадцать три, и отзываться о ней как о попавшей в омут страстей инженю было бы недальновидно. Нет: понимала, что делает. Не понимала – зачем; но тут сработал простой суровый возрастной триггер, «пора». А вот кандидатуру, с какой этому «пора» она из планов и намерений позволила перейти в свершившийся факт, следует рассмотреть более подробно. С увеличительным стеклом. Даже, для надёжности, под бинокулярной лупой.
Сергею Фёдоровичу было сорок. Воспитания хорошего, из семьи, стоявшей на традициях – как с отцовской, так и материнской стороны; ни в детстве, ни в ранней юности Ванчуков не изведал сиротства. Когда Женя Гурова, сызмальства обращавшаяся с охотничьей малопульной винтовкой спорей и привычней, чем с тряпичной куклой, взяла его в охапку, она озвучила план, простой и честный. «Жить». И этот план существовал до момента, когда у них всё началось. С Изольдой же инициатором выступил Сергей Фёдорович; выступил безответственно, глупо, малодушно, не имея к тому же никакого плана и никаких намерений, простирающихся дальше съёма штопаного девичьего нижнего белья. Ванчуков сделал то, что делать был не должен; сделал то, что похотливые дворяне вроде озабоченного графа, отца русского сериала, делали со своими дворовыми девками. В конце концов, Бог графам судья, но там девки были взаправду своими, потому что – крепостное право. Здесь же совершён был поступок нечестный, вероломный – и в отношении девушки, и в отношении своего (и не только своего!) будущего.
Вдобавок в Изольде не было по-настоящему ни перца, ни соли, ни должного воспитания, ни стержня: что могла заложить в неё мать-тиран, наедине с кем она осталась в раннем отрочестве? Что ж удивляться, что в недавнем прошлом Ванчукову девица Пегова быстро наскучила. Мир не без добрых людей: Евгении всё стало известно скоро. Никакой такой ревности от нежданного известия она не испытала. Всё потому, что известие было ожидаемым: Евгения выжгла рядом с собой весь ванчуковский кислород. Женя понимала, что рано или поздно, но – так будет, так произойдёт; что почти бездыханный Сергей выпадет из безвоздушного пространства рядом с ней, не обладая силами прекратить тяжеленную му́ку, в какую попал – неважно, по своей или не по своей воле.
Сергей тяготился отношениями с Изольдой. Они вели в никуда. Поэтому, когда Женя заявила на него свои права, малодушие Сергея было спасено. В один из дней он встретил Изу на улице возле заводоуправления; говорил не грубо, но нехорошо, держал себя нервно, куда деть предательски дрожащие руки, не знал. Глаза прятал. Девушка стала спокойна, попрощалась, ушла прочь. В пять минут всё было кончено. Женя ничего не сказала, только обняла Ванчукова крепко; он растёкся. Ему даже не стало стыдно, что было то не объятье жены, а, скорее, матери. Барышев, не видя более препятствий, сделал Ванчукова заместителем начальника прокатного цеха. Разваленная было карьера стала складываться, шаг за шагом налаживаться; на оттаявшей поляне робко пошли в рост всходы первых подснежников. Как инженер Ванчуков был талантлив; как оратор – речист; как изобретатель – инициативен; как управленец – точен.
«Один шанс, Серёжа! Если его будет оперировать Пегов…» Расклад понятен: один шанс для сына. И ни одного – для отца.
Иза пообещала и слово сдержала: Михаил Иванович сына прооперировал. Ванчуков не спал две ночи, и вовсе не из-за операции. В третью ночь шагнул за порог и из дома ушёл, чтобы никогда больше не вернуться.
* * *
В середине шестьдесят первого Изольда забеременела. Ванчуков больше не метался. Он взял купейный билет с двумя пересадками и поехал в Казахстан, где год как главным инженером металлургического завода посреди дикой степи был назначен Барышев. Вяч Олегыч встретил на не успевшей ещё нормально отстроиться станции, в дом приезжих не пустил, поселил у себя. Жил один, помогала приходящая домработница. Дочь давно вышла замуж, уехала с мужем на Донбасс; жена просто в Казахстан не захотела, зная, что это вряд ли надолго.
Барышев без эмоций выслушал. Наутро поехали на завод. Вызвал начхоза с фамилией Нечисто́й. Нечистой был человеком умным и неунывающим.
– Да всё же несложно, товарищ Барышев! Имеем: ожидаются три человека, товарищ Ванчуков, товарищ Пегова и мама товарища Пеговой. Так? Так. Товарищ Ванчуков и товарищ Пегова будут работать на заводе. Так? Так. Мама товарища Пеговой – пенсионерка. Брак между товарищем Ванчуковым и товарищем Пеговой не заключён…
Ванчуков не развёлся.
– …требуется: поселить товарища Ванчукова, товарища Пегову и маму товарища Пеговой в одну квартиру. Так? Так. Теперь решение. Выделяем товарищу Ванчукову трёхкомнатную квартиру в заводском доме приезжих. Фонд заводской, не городской, проверки и внешние указания исключены. Товарищ Пегова после оформления получает койко-место в заводском общежитии. Для матери товарища Пеговой мы оформим временную прописку в частном секторе, есть у меня люди с вариантами. И живите себе на здоровье! Квартира большая, трёхкомнатная, меблированная. Телевизора, правда, нет, но холодильник и пылесос имеются. Даже посуда кое-какая… – довольный Нечистой, подкручивая усы, посматривал то на Барышева, то на Ванчукова.
Вечером Барышев с Ванчуковым выпивали немного на кухне. Водка Сергею не шла, колом вставала, было тревожно.
– Знаешь, Серёжа, – приобнял его Вяч Олегыч, – вся наша жизнь такая вот… – запнулся, не найдя слова, – такая, что бояться не надо. Вот взять Нечистого. А ты знаешь, что он полный кавалер всех орденов Славы? Всех трёх степеней?!
Ванчуков удивлённо покачал головой.
– Он пехотинец. Боялся всего страшно. Сидели на позиции, в блиндаже. Он до ветру вышел, штаны снял. Тут блиндаж сверху накрыло. Было двенадцать человек, остался он один. Без штанов. Наутро написал рапорт: прошу зачислить в разведроту. Говорит, страх как рукой сняло. Всю войну без единой царапины. А взвод вокруг три раза обновлялся. Три раза! Никого не осталось, кроме него. Так чего нам бояться, Серёжа? Дальше Стикса не пошлют, а с него выдачи нет! – засмеялся Вяч Олегыч. Ванчукову показалось: как-то неискренне. Обречённо.
Сергей Фёдорович возвращался из Казахстана притихшим. Выходило так, что первый раз в жизни ему нужно было принять решение не про станки, не про железки, не про больше стали и проката советской стране, не про прочее светлое будущее. Совсем нет! А – звучало-то как несмешно – про себя самого как живого человека. К такому не привык. Такому научен не был. Ванчуков против своей воли вспомнил сказку про Буратино: нарисованный на холсте очаг, длинный нос и потайная дверь. Буратино, понятно, был он сам. Длинным носом выступил другой орган. Но, что до очага и двери, они от того не стали менее устрашающими.
Евгению – да, боялся. Но выслушала спокойно. Встала со стула, подошла медленно, подняла руку. Залепила пощёчину, не сильно, не чтобы сделать больно – чтобы сделать памятно. Сказала: «Развода тебе не дам». Вздохнула и вышла из комнаты вон. Отрабатывать три месяца не пришлось: Барышев даже из своего далёка на старом месте оставался в силе. Всё уладил. Отпустили за две недели.
Тысяча километров по прямой. Полторы – по шпалам. Ванчуков выкупил всё купе, чтоб не мелочиться. Чемоданов набралось штук пять, может, шесть. Ещё коробки какие-то, но те сразу в багажный вагон, без разбора. Изольда хотела груз отсортировать, вдруг что в дороге пригодится, но Сергей сказал – лишнее.
В начале декабря. Отъезжали поздней ночью, в пляшущем свете фонарей. Студёно, ветрено, скользко. В вагоне натоплено ой как жарко. Кровь, застуженная ледяным суховеем, хлынула удушливой волной сразу в лицо, будто от пощёчины. Лицо с мороза запахло одеколоном, будто только что сбрызнули. Сергей снял охолодавшее пальто с цигейковой подстёжкой, бессильно опустился на диван. Женщины обустраивались напротив.
Ванчуков не мог понять, что происходит. Эти две женщины теперь были его новым домом. То есть он должен был чувствовать, что вроде как сейчас дома, никуда не уезжает; это дом теперь ехал с ним. А Сергей совсем не был дома. Как на новом месте – проснёшься ночью, встанешь по нужде, пока идёшь – соберёшь всю мебель и все углы, потому что не знаешь, куда и, главное, как. Не знаешь, как быть. Как жить – знаешь, как быть – нет. Но ведь он и с Женей не был дома! Давно уже не был дома нигде. Впрочем… всё же с Женей – был. Совсем недавно. Совсем недолго. В то короткое мгновенье, когда, сухо треснув, сгорела в воздухе последняя пощёчина. Люди хорошо запоминают, как что-то начинается, и совсем не помнят концов. А Ванчуков запомнил. Как будто кто-то другой сказал ему: «Запомни». Вот и запомнил. Не понял, но запомнил. Теперь же он сидел на диване в вагонном купе, как пришпиленный, и деваться ему было некуда. Будущий ребёнок спутал все карты, лишил всех планов, лишил вообще всего. Иза от ребёнка избавиться отказалась наотрез; рожать бы стала в любом случае, ситуация бы всплыла… А его уже однажды из партии исключали. Так что – без вариантов. Членом и мудями копаем мы могилу себе.
Зашла проводница: «Граждане, билеты готовим… до конечной?.. вижу… хорошо… постельное рубль с человека… да, сдача с пяти есть, на стол вот положу… вафли и печенье семьдесят копеек… рубль обратно взяла… чай принесу сейчас… приятного пути…» Вагон тронулся не то со вздохом, не то со стоном. Со скрипом. Прошлое не отпускало, а будущее – как несмышлёный малыш, затерялось где-то в пути, заблудилось, не торопилось отыскаться.
Калерия Матвеевна, чуть стесняясь, исподволь разглядывала впервые в жизни случившегося у неё зятя. Чем больше узнавала Сергея Фёдоровича, тем больше он ей нравился. Было странное чувство, смесь радости и досады. Радости оттого, что наконец в доме, какой и домом-то назвать было большим преувеличением, появился мужчина. А досада?.. Она не хотела себе признаться, но почему-то наперёд знала, что Изольда недостойна Сергея. Изольда слишком топорная, слишком истеричная, размазня, слишком никакая, чтобы обладать таким мужчиной. Калерия Матвеевна поморщилась. Изка не сможет распорядиться богатством, что ей нежданно привалило. Калерия дочь не любила; от дочери зависела. Порядок вещей был нерушим, надеяться не на что. Она знала, что, скорее всего, это её последний поезд в жизни: отказывают ноги, плохо работают почки, тяжёлым камнем перекатывается сердце; трудно дышать. Поезд прибудет в точку назначения, и дальше ехать станет некуда. В душе Калерии, как всегда, крепло раздражение в адрес Изы. Только теперь, глядя на ещё пока последними силами молодого Сергея Фёдоровича, Калерия Матвеевна вдруг увидела на его месте бывшего мужа; Михаила Ивановича, которого сама, плача при этом, сожрала без остатка – и поняла, что Иза сделает с Сергеем то же самое. Так что – без вариантов. Ни Изольда, ни мать не умели быть по-другому.
Изольда же ни о чём не думала. Природа защищает беременных от тревог гормональным фоном. У Изы был теперь вдруг муж. Наверное, любимый – ну да, мужа же положено любить, ну, значит – любимый, а как же иначе… Изольда даже забыла своё обычное чувство, мироощущение такое, что её поезд сто раз уже ушёл без неё (и то было правдой), что опоздала она отправиться в путь лет на десять как минимум (и то тоже было правдой), что дурёха-то она последняя-распоследняя (не было правдой, но мать постаралась). Муж был не совсем муж (паспорт открой, бестолочь ты такая!), но всё равно был в полуметре, здесь, в купе, с чаем и печеньем, значит – муж, и прочь сомненья.
У Изы была мать. Её Изольда ещё неделю назад готова была уничтожить: вот ещё слово, вот ещё два, и я за себя не отвечаю… Но теперь к матери была лишь непонятно откуда вынырнувшая любовь и даже какая-то давно забытая нежность, потому что: «Меня не тронете, я в домике!.. я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл…» Иза знала, что теперь она сама уже – почти мать; а значит, индульгенция готова, выписана, защитной мантией вкруг неё обёрнута! Изольда теперь та самая «как все», и будто не было двадцатилетнего непрекращающегося пилёжа, обучения жизни, когда та, что сама жить не умела, сама – не сумела, имела вероломную наглость учить ту, из кого высосала все соки. Своими руками, выжив мужа, лишила девочку будущего. И вот они: две женщины, ошпаренные, сваренные вкрутую созависимостью, плечом к плечу на купейном диванчике, и ядовитая их паутина всё крепче и липче опутывает коконом Ванчукова, кто должен стать их, наверное, последней, финальной жертвой.
Но пока – ещё не время. В купе есть четвёртый. Ради него всё затевается! Он скрепляет несчастную троицу. Он ещё не здесь – доживает, додыхивает последние денёчки в Сидпа Бардо; не знает имени мира, куда придёт; не знает себя, не знает судьбы, не ведает будущего. Ещё не родившись, ещё не став – уже правит тремя судьбами. Он – главный в раскладе. Потому что если б не он, то и колоду тасовать не стали.
Вот поэтому, всего в паре неполных лет от протяжной декабрьской ночи, июньским утром шестьдесят третьего, прозрачным, в яркой дымке нехотя рассеивающегося тумана, новый Ванчуков встанет, застынет на краю взбугрённой свежей травой и залитой чернозёмной грязью лужайки. То будет самый главный Ванчуков со странным именем «Ольгерд», данным в честь какого-то затерянного в глубине времён родственника. Это же как замечательно, как современно: оставлять в наследство потомкам имена, и ничего больше, кроме имён!
Ольгерд Ванчуков. Новый человек. Хотя – стоп! Какой же он Ванчуков? Пегов! В свидетельстве о рождении вместо отца – прочерк. Нечистой, может, и рад бы подсобить, да тут власть его заканчивается.
Ладно, Ольгерд Сергеевич! Не расстраивайся. Всё ещё будет. Всё только начинается. Тебя никто не спрашивает.
Глава 4
Изольду повезли в роддом вечером в среду, в самом начале февраля. Точнее, не повезли: повёз – Нечистой. С транспортом дело зимой в казахской степи обстояло неважно. За неделю до того, как Изе рожать, разом на морозом битую для приличия немного припорошенную землю обрушилась снежная буря; и не прекращалась шесть дней кряду. Стало темно. Даже днём солнце, словно карандашным грифелем, было всё зачиркано вьюжными вихрями. Ольгерд потом уже, годы спустя, когда прилично подрос, рассматривал фотографии той странной зимы. Вот, к примеру, тянутся на завод грузовые поезда с рудой и углём. Крыши тепловозов с вагонами – прямо вровень со снегом. Как будто в метротоннеле идут поезда. А вот главная городская улица – первых этажей не видать; дома торчат, словно большие баржи, тяжело гружёные, утоптанные, вбитые в наст по самую ватерлинию. Магазинные двери – наспех откопаны, витрины белеют мутным холодным молоком из-под снега.
Почему мать на сносях в родильный дом вёз Нечистой, а не сам Сергей Фёдорович? Всё просто: у Нечистого в хозяйстве был вездеход. Плохонький, несуразный, но живой, тёплый, натопленный, с печкой на брикетах внутри, с торчащей из кунга трубой. Нападало столько, что без гусеничного хода никак не добраться, хоть бы и всего-то три или четыре километра. Летом, вон, пешком пройти и даже не заметить. У Сергея же Фёдоровича в хозяйстве ничего, кроме своих двоих, не было. Начальнику прокатного цеха личный транспорт не положен. На завод и обратно со смены ездил автобусом.
– Вы только не волнуйтесь, Изольда Михайловна! – гремел Нечистой. – Всё будет в самом полном порядке! Вы сейчас в роддом, а к вашему возвращению мы всё подготовим: и кроватку, и коляску, и ванночку… – Изольда, плохо соображая, в ответ на басовитые трели Нечистого только рассеянно улыбалась.
– Сергей Фёдорович! – гудел снова Нечистой. – Я Изольду Михайловну сейчас отвезу… да, отвезу и сразу вернусь! У меня приданое для вашего малыша давно уж припасено! Отдел рабочего снабжения в положение вошёл, постарался! Коляска – та вообще немецкая, киндерваген гемахт ин Дрезден[8]8
Детская коляска, сделано в Дрездене (искаж. нем.).
[Закрыть]! И вы, Калерия Матвеевна, не беспокойтесь! Пусть зима тут в степи и холодная, а жизнь теперь у нас совсем другая будет, тёплая… Отогреют всех нас дети-внуки…
Изольда, бережно, мелкими шажками ведомая под обе руки вниз по лестнице мужем и Нечистым, вдруг всплеснула руками:
– Ой, сумку, кажется, забыла…
– Я сейчас! – крикнул Сергей; помчался наверх. – Идите, спускайтесь, я догоню!..
В прихожей схватил сиротливо забытую в углу холщовую сумку с нехитрыми причиндалами, запрыгал цаплей через две ступеньки вниз. Нечистой осторожно грузил испуганную Изу в хрипящий на холостых хилым бензиновым моторчиком сорок седьмой «газон». Сграбастал сумку, залез сам, хлопнул водителя по плечу – мол, трогай – проорал в открытую дверь Ванчукову:
– Фёдорыч, не дрейфь, я скоро!
Без пяти минут бабушка, Калерия Матвеевна, не зная, куда себя деть, переминалась больными ногами возле гладильной доски. Стопка простынь и пелёнок – прогладить-то надо с обеих сторон! – потихоньку росла.
– Я на кухне посижу… – тихо сказал Ванчуков.
– Конечно, Сергей Фёдорович, идите. Поглажу пока. Поужинайте, всё готово.
– А вы?
– Да не до еды мне, дорогой Сергей Фёдорович. Кусок в горло не лезет.
Ванчуков пожал плечами, кивнул, повернулся и пошёл через длинный коридор, в который выходили все три крошечные комнаты дом-приезжской малосемейки, на шестиметровую кухоньку. Заглянул в одну кастрюлю, приподняв крышку, в другую. Есть и правда не хотелось. Снял телефонную трубку, набрал «ноль семь». Назвал город, номер телефона. Только успел насыпать в турку три ложки кофе из жестянки ленинградского молотого, как телефон коротко несколько раз хрюкнул.
– Спасибо, – ответил Сергей телефонистке, – я, да… заказывал.
Трубка немного помолчала, потом отозвалась баритоном:
– Да, слушаю.
– Здравствуй, Витя! – бодро откликнулся Сергей.
– О-о-о, Серёжа! – обрадовалась трубка. – Как твои дела?
– Ничего, вроде пообвыкся.
– Холодно у вас?
– Не так холодно, как противно, – поморщился Ванчуков.
– Как жена? – спросила трубка Витиным голосом.
– Час как в роддоме.
– Ну, ты молодец! – обрадовалась трубка.
– Стараюсь, – поддакнул Сергей. – Слушай, как там мой?
– Твой-то? Серьёзный он, Серёжа. Прямо как ты в молодые годы… – в голос Виктора замешалась смешинка. – Не нарадуюсь. А ты что, волнуешься?
Ванчуков промолчал.
– Ладно, Серёжа, ладно. Понимаю тебя. Ты далеко, сердце отцовское неспокойно. Но ты это зря, милый ты мой. Лёва твой молодец. Я под него уже аспирантское место выбил.
– С трудом? – спросил Сергей.
– Ну, Серёжка, без труда даже хрен не вытащишь из пруда, не то что – рыбку. Нормально всё было. Мне в этот год так и так два аспирантских места дали. Так что Лёва вовремя оканчивает. В следующем мест не будет. А у тебя там кто – мальчик или девочка?
– Вить, ну мне-то откуда знать…
– А хочешь кого?
– Как получится… – сказал Ванчуков. Он просто хотел жить. Становиться в сорок семь отцом в третий раз ещё год назад не входило в его планы. Ну никак.
– Ладно, – сказала трубка. – Не волнуйся. Всё сделаю.
– Спасибо, Витя, – искренне поблагодарил Сергей Фёдорович.
– Не за что. Ну, давай, брат…
– Давай… – эхом ответил Сергей и повесил трубку.
С Витькой Финкелем Ванчуков учился в одной группе. После выпуска пути разошлись. Сергей остался на заводе, Витька уехал аспирантом в Москву. Защититься не успел, призвали в действующую армию. Стал танкистом – он миниатюрный. Повезло: в танке ни разу не горел. Был ранен, но легко. Не контужен – а то бы досрочно комиссовали. Войну закончил под Прагой. Ещё два года служил на Дальнем Востоке, следом вернулся в город, в капитанских погонах. Защищался уже в родном институте. Учёный совет не успевшему в сорок первом стать кандидатом физматнаук танкисту на защите аплодировал. Теперь вот уже два года заведовал кафедрой физики с курсом физики прочности материалов.
Сергей знал, что перед Лёвой виноват. Почему – сформулировать бы не смог, но вина была и точила его изнутри с самого того момента, как вся эта его эскапада случилась. Ещё Ванчуков знал – и это даже нигде внутри него не обсуждалось – что всегда должен помогать, хоть сын и сам семи пядей во лбу и сам пробьётся… А пробьётся ли? Желающих хватает, а торных дорог в жизни мало. Ванчукова столько лет то одни, то другие, то по тем причинам, то по этим обходили на поворотах. Дочка Ирка – ладно, та девчонка, мать её к себе в лабораторию уж как-нибудь пристроит. Лёвушка – другое дело. Могут обидеть, бортануть самым наглейшим образом: мол, кто ты такой?.. Кто вступится за тебя?.. Ты и сам разберёшься, а нам тут своего человечка надо пристроить, так что погуляй до другого раза, нам нужнее…
* * *
В окно малосемейной кухоньки пытался постучаться рассвет. Чёрно-стальное небо на востоке потеряло глубину, стало сероватым и вскоре, недолго думая, порозовело. Наконец над горизонтом появилась тончайшая полоска яркого сияния. Так начинался первый день совсем новой жизни.
Сергей с блуждающей по лицу глупой улыбкой кособоко скрючился на табуретке со стаканом в руке. Пьян за прошедший с пробуждения час он стал уже изрядно.
– Сергей Фёдорович! – гудел рядом Нечистой. – Ну какая же она у вас молодец! Меня спросили – первородящая? Я отвечаю – да. Тогда, говорят, минимум сутки, а то и двое, кто ж гарантию даст. А она видите как быстро управилась! Ну, давайте, Сергей Фёдорович! – Нечистой чокнулся с Ванчуковым с такой силищей, что ванчуковский гранёный стакан, до половины налитый коньяком, чуть не вылетел из руки свежеиспечённого, в очередной раз, отца.
– Как назовёте? – с интересом спросил Нечистой. Все его слова, все его расспросы всегда были искренни. Вяч Олегыч, перефразируя классика, смеялся: «На сцене нельзя переиграть ребёнка, собаку и Нечистофеля!..»
– Вот я и говорю, – продолжал Нечистой, не дождавшись ответа. – Мы же новые ясли через полгода откроем, прямо в квартале от дома приезжих! Так что, если нужно, Изольда Михайловна сможет досрочно на работу выйти.
Ванчуков слушал болтовню Нечистого, и ему было хорошо. Даже непривычно хорошо. Много лет прошло, как Ванька Бурлаков и Слава Утёхин сгинули в Сталинграде. С тех пор больше друзей у Сергея не было. Только сослуживцы.
Большой уютный Нечистой в друзья Ванчукову не набивался. Вяч Олегыч сказал – помоги Сергею на новом месте по мелочам, если что-то понадобится. Но Нечистой по мелочам не умел. Если уж помогать – так во всём. Вот и сейчас: мало того, что жену Сергея окружил заботой; мало того, что в четыре утра оборвал телефон, поздравляя с сыном: «Вот, слушай, Сергей Фёдорович, я записал! В три часа сорок семь минут местного времени! Три кило семьсот, пятьдесят два целых сантиметра, оценка по шкале Ап… Ап… тьфу, чёрт!.. Апгар, вот!.. Восемь из девяти! Не выговоришь же!»; мало того, что пятнадцать минут спустя примчался, на горбу припёр, страшно по лестнице громыхая, весь дом приезжих перебудив четверговым утром: коляску, кроватку и ванночку – от неё больше всего было звона, будто колокол на колокольную верхотуру поднимали; так ещё и коньяк из-за пазухи, как джинна из бутылки… и, пока три тоста за три минуты не задвинул, не успокоился! Сейчас, рядом с Нечистым Ванчуков чувствовал себя так, что он не на собственной малогабаритной обшарпанной кухне, а будто в Сочи, в санатории «Металлург», в самом разгаре июля. И вот лежит он у прибоя на топчанчике и набирает в кулак песку, и песок тот из ладони сыпется, и делать ничего-ничего совсем не надо, и солнце пригревает, а море тихо за спиной плещет…
– Иван… – тихо позвал Нечистого Ванчуков.
– А?
– Слушай, Иван! Вань! А откуда у тебя такая фамилия? – был бы трезвый, конечно б, не спросил. Постеснялся. Но давно уже подпирало: вот и не удержался.
– Ой, Серёжа, – как-то даже смутился Нечистой. – Тут такая история…
– Вот и давай. Выкладывай! – воинственно сказал Ванчуков, доливая остатки коньяка в стаканы. Нечистой чуть наклонился, пошарил под столом на ощупь, достал из портфеля вторую бутылку.
– Ты, Сергей Фёдорович, сам какого года?
– Пятнадцатого.
– А рождён когда?
– По старому стилю – первого января. А по новому – тринадцатого.
– Понятно. А я, Серёжа, по старому стилю двадцать пятого октября семнадцатого, а по новому – седьмого ноября.
– Слушай, Вань! Как это тебя так угораздило?!
– Вот именно, что угораздило. Как и с фамилией. Нашли меня. Как щенка бездомного какого. Или котёнка. На станции, недалеко за Уралом, в двадцать втором году. В беспамятстве валялся возле путей. Патруль шёл – наткнулись на меня. Хорошо, лето. Живой. Руки-ноги целы. Может, с поезда сбросили. Может, сам вывалился – кто ж его знает. В больничку отнесли. А я – ни как звать, ни сколько лет, ни кто мамка, ни откуда – ничего не помнил.
– Совсем ничего?
– Ну да. Совсем. Они меня спрашивают – кто таков? Я слова-то понимаю, а сказать ничего не могу. Сижу, грязный весь, что твой шахтёр; в болячках, в струпьях. Стали метрики выправлять. Ну, говорят, с именем всё просто, будешь Иван Иваныч. Фамилию долго придумывали. Кто-то говорит – смотрите, мол, до чего жизнь-то мальца довела, грязный какой. Ну, значит, будешь Нечистой. Место рождения – Екатеринбург запишем, тут рядом. А день рождения? Будешь аккурат в день нашей революции! Так вот и записали. Потом оклемался немного. Отмыли, откормили, вшей повыводили. Отправили в детдом в Саратов. Так-то вот и стал я – Иван Нечистой, ровесник Октября.
Ванчуков хорошо помнил свой тысяча девятьсот двадцать второй. Москву, четыре комнаты в огромной квартире. Длиннющий балкон, выходивший на суетливую площадь, где на другой стороне замер в задумчивости грустный бронзовый Пушкин. Отцовский чёрный «форд» с водителем. «Елисеевский» гастроном через два дома, вниз по Тверской. Это ведь тоже был двадцать второй… Только, выходит, у каждого свой. Странное чувство посетило пьяненького Сергея Фёдоровича. «Вот, – думал он как-то не изнутри себя, как бывало обычно, а словно снаружи, как будто думал за него кто-то другой, но при всём том знал, что думает именно он, – вот… одно время… одно место… или почти одно место… и вот мы здесь рядом, а на самом деле всё для всех совсем разное. Мы с Нечистым за одним столом, руку вытяни – так друг в друга упрёшься. А на самом деле живём мы в разных временах и разных пространствах. И, оттого что всё рядом, они не перестают быть разными».
«Одна жизнь – у меня. Другая – у Ивана. Третья – у Изольды… наверное, спит теперь в изнеможении. Четвёртая – у детей моих, далёких, оставшихся без отца. Пятая – у этого, три семьсот, пятьдесят два сантиметра… Вроде вместе. А так – поврозь. И ничего с тем не поделать, хоть ты из кожи своей вылези, хоть ты к тому, кто тебе дорог, голым мясом по дороге ползи. Не доползти, не слиться с ним, не стать им. Не суждено». Ванчуков, будто осоловевшая лошадь, попавшая в рой слепней, мотнул головой, пытаясь немедленно отогнать от себя проклятое наваждение, – раз, другой…








