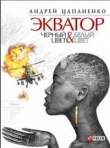Текст книги "Цвет черемухи"
Автор книги: Михаил Ворфоломеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Сомов же, глядя на Савву, думал, что его голова напоминает классическую голову древнеримского воина или императора.
Глухов рассказывал случай на железной дороге. Медвежонок пристрастился бегать на железнодорожное полотно и подбирать на нем остатки пищи, которые выбрасывали проезжающие. А иногда просто чтобы поглядеть на блестящие рельсы. Однажды из-за поворота выскочил состав, и машинист, увидев медвежонка, дал сигнал. Тот бросился бежать по шпалам. Поезд настиг его и смял. Все это видела медведица.
– И вот чего удумала наша девушка, – рассказывал Савва. – Легла, стала ждать поезда. Через какое-то время следующий состав появился из-за поворота. А она встала на задние лапы и пошла на железяку. Говорили, что ее далеко отшвырнуло в сторону. Я после того случая ушел в егеря.
– Ты думаешь, что сейчас можно уже и не охранять тайгу? – спросил Сомов.
– Охранять надо. Не все могут, и не все хотят. Я договорился. Меня хороший парень меняет. В нашем деле главное – не продаться. А мне к земле надо. Я ведь агроном.
– Как агроном?! – удивилась Надя.
– В Иркутске учился.
– А сколько прожил в тайге? – спросил Сомов.
– Двадцать лет. Мне сейчас сорок три.
Старухи, узнав, что Савва собирается переезжать в село, стали обсуждать, где лучше дом поставить, куда пойти на работу, а Сомов словно увидел, как до света будет вставать Савва Игнатьевич Глухов и уезжать в поля, как будет радоваться его душа полному урожаю и запаху земли. И только при мысли о Кате черный комочек прокатывался по жилам и чиркал острой стороной по сердцу.
* * *
Ночевать Савва не остался.
– Нет, Лукерья Лазаревна, зачем? Я привык к воле! Пойду на паром. Яшка мне чего-нибудь сбрешет.
Так и ушел. Перед тем как уйти, подошел к Наде, взял ее, как девочку, на руки.
– Я тебе гостинца привез. Дома увидишь.
– Савва Игнатьевич, хорошо, что вы остаетесь! Я так рада!
– И я рад, Надюшенька, – ответил Глухов.
Когда тетка легла, Сомов, стараясь не скрипнуть половицей, подошел к окну и выскочил в огород. Нестерпимо тянуло к Катерине. Прошел он к ней за селом и свернул прямо к ее дому. В дверь не постучал, а поскреб. Она распахнулась.
– Заходи! – шепотом сказала Катя.
Сомов прошел. В комнате он разглядел, что Катя в ночной сорочке.
– Пришли...
– Пришел!
В кухне на столе горела керосиновая лампа. Сомов спросил:
– Для чего это?
– Боюсь я в грозу электричества. Как гроза – я керосинку.
Волосы у Кати были распущены и густой волной падали на плечи. Освещение было теплым, живым. Только сейчас Сомов увидел, что глаза у нее вовсе не черные, как он думал, а серые, с большими расширенными зрачками.
– У тебя Глухов был?
Она крепко стиснула его руку. Окно было открыто. Прямо под окном поднималась красная луна.
Где-то тревожно просвистела птица. Из окна шел свежий запах молодой картошки.
– А ко мне Епифанов приходил. Сел на завалинку, тихий вдруг стал. Говорит: "Вот и все, Катенька, надежды мне больше нет! Так что прощай. Глухов пришел – свататься".
– Ты пойдешь за него? – спросил Сомов.
– Пойду, Егор! Ему подмога нужна. А я все стерплю. Не ревнуй, милый мой, хороший. Не ревнуй! Ты моя нечаянная радость! Огонек ты мой! Я по тебе зарубочку оставила!
И только сейчас Сомов увидел, что на правой руке у нее бинт.
– Что ты сделала?
– Ох, нашло! Как поняла про Савву, а ты перед глазами! И сладко, и жить нет возможности! Выскочила, а у нас в кладовке лежала коса. Что толкнуло, поди догадайся. Подошла – да как ширкнула рукой по косе. Прям по шагу! Вишь ты, жилы сберегла. Ничего зарубочка будет. Потрогаю, тебя вспомню.
Сомов стоял взволнованный и не знал, что ему сейчас делать. Хотелось сказать: "Ты выходи за меня!" Но что-то держало его в трезвости. "А может, это малодушие? – думал он. – Ведь такой уже не будет!" Другой же голос говорил: "Не удержать тебе ее..." И тогда он тихо сказал:
– Прости.
* * *
Пришло время сенокоса, и, словно что-то вспомнив, люди ожили. По вечерам стали петься песни, а в назначенный день все выходили на луга. Поехала и Лукерья с подругой Марьей Касьяновной. Взяли и Надю.
Сборы были веселые, хлопотные. Больше говорили о погоде, как да что получится. А приехали, поставили шалашики и, не дожидаясь солнца, вышли на луг. Среди всех выделялся Савва Глухов. Он стоял опершись о косу. Увидев Егора, крикнул:
– Рисовать будешь?
– Буду!
– Бог в помощь! Это красиво. Рисуй.
Рядом в ситцевом платье стояла Катя. Уже все село знало, что Катерина выходит замуж за Глухова. Они и не таились. Но за эти несколько дней она сильно переменилась: повязалась белой косынкой, стала выглядеть домашней, простой и замужней.
"Вот что в ней! – понял Сомов. – Она замужняя!"
Сомов уже прихватил холст, примерно разобрал, кого он возьмет на полотно, прикинул, разметил.
Из телеги вышел старик Козлов. Ему было далеко за сто. Светлый, почти прозрачный старик с тонким и красивым лицом вышел вперед косарей. Белая косоворотка с красным пояском делала его похожим на сказочного персонажа. Но сказка не сказка, а люди затихли. И послышалась неторопливая молитва. Слова ее были непонятны Сомову, но в горле сдавило, и он понял, что сейчас заплачет. Так было все неудержимо высоко, таким близким, родным, что хотелось упасть перед всем народом и крикнуть: "Простите!" И тут он почувствовал, как кто-то его тронул, повернулся, а рядом – Надя.
– Я с тобой постою! – шепотом попросила она.
Сомов с благодарностью сжал ей руку.
А на поле происходило следующее. Старику дали косу, он сделал несколько взмахов, вернул ее и отошел.
И тут весело, напористо грянула песня, и люди начали косить.
– Надя! Надя! Это невероятно!
– Да... Это наш с тобой народ! – Она улыбнулась. – Я теперь много об этом думаю... А ты заметил, как переменилась Катя?
– Да, – признался Сомов.
– И Савва переменился. Савва очень глубокий. Он, конечно, чувствует! Ты меня извини, может, тебе это неприятно?
– Нет. Немного щемит, но это так, как и по всякому прошлому.
Косили неделю, и всю неделю стояла сухая, жаркая погода. Все загорели. Особенно хорошо сенокос подействовал на Надю. Она окрепла и, приезжая на речку, вставала на песок, делая шаг-другой, не боясь упасть. Да и Сомов хорошо поработал. Сделал несколько эпизодов, научился косить и мог косить подолгу. Правда, ныли руки, ломило поясницу, но это была приятная боль.
Через неделю все вернулись в село, и пошла обычная жизнь. На край села, неподалеку от Лукерьиного дома, стали возить лес. Это Глухов начал строиться. Все знали о его необыкновенном умении ставить дома.
Подобралась бригада помощников, в основном людей пожилых, размеренных. Судили-рядили, как поставить, где вывести окна, дверь, какой фундамент лучше. Темно-золотые, высушенные бревна лиственницы звенели от удара. Дом из самого леса может простоять двести, а то и больше лет.
С последней машиной леса приехал и Савва.
Старый плотник Маслов Иван спросил:
– Какой дом будем ставить?
– Хороший! – улыбнулся Савва. – Как в старину!
– Пятиметровый?
– Да, Иван!
– Ну давай, с Богом!
И без лишних слов принялись за дело.
– К осени поставят, – говорила Лукерья. – Не дом – корабль!
От стройки шел запах смолы и табачного дыма. Сомов все это время много работал. И все это время Надя была рядом. Она уже многому научилась и незаметно стала настоящей помощницей Сомову. Она понимала, что оказывает ему реальную помощь, и от этого гордилась собой.
Перед тем как лечь спать, она открывала свой дневник и записывала в него самые сильные впечатления дня. Теперь ее записи начинались так: "Сегодня Егор закончил портрет... Мы долго его обсуждали, и я вижу, как он доволен..."
Лукерья и Марья теперь все чаще собирались вместе, гадали о Егоре:
– А что, будет кажно лето ездить сюда, так и Наде веселее, а про нас и толковать чего!
* * *
С августом пришли ночные заморозки.
Сомову надо было собираться в Москву, но он все не мог решиться уехать. Но ехать надо было. На осень была назначена его выставка, и то, что он сработал за это лето, ему хотелось показать на ней.
Дом Глухова вырос за это время и уже стоял под крышей. Прочный, огромный, он, как гриб, словно сам вырос из земли. Савва на окна навесил наличники такой дивной работы, что видавший много на своем веку Иван Маслов сказал:
– Где же ты такие видел?
– Где-то видел.
– Тебе бы для кремля работать! Такое, брат, умение – это не плотницкое. Это краснее! Это, брат, диво! Ты их сыми! Не ровен час, завистников накличешь!
С Катей, теперь уже Глуховой, Сомов изредка встречался на улице. Теперь она была вся в заботах о доме. И, провожая ее глазами, Сомов все время думал об одном: "А ведь она и моей женой могла бы стать... И так же бы бегала по хозяйству, что-то варила, стирала..." Такой и написал портрет Кати Сомов. Строится дом, она сидит на свежеструганой лавочке в светлой косынке. Ее чистое лицо словно излучает тепло материнства. Левой рукой она прикрывала правую, то место, где у нее шрам. Тайну о нем знали только Сомов и Катя.
Десятого августа Савва пригласил на новоселье. В подарок Сомов выбрал полотно с черемухой, одну из первых здешних его работ: на скобленом столе в глиняном кувшине стоит огромный букет черемухи. Писал он его с удовольствием, и получился он праздничным.
Народу на новоселье пришло много. Войдя в дом, Сомов с Надей на мгновение остановились, так он на них подействовал. Высокий, в пять метров, светлый, обитый гладко оструганными кедровыми плахами, которые источали таежный смолистый аромат. Вдоль стен резные лавки. А стол, накрытый человек на сто, был так обилен, что и не верилось, в самом ли деле все это растет на их земле.
Гостей встречали хозяева. Катерина – в старой цыганской шали, Савва в сером костюме. Картину, подаренную Сомовым, тут же повесили на стену и ахнули – до чего она пришлась к месту. Иван Маслов с мужиками внесли кровати и шкафы из кедра:
– Получай, Екатерина, для платьев, для рубах. Ну, на койке и полежать можно, коли будет охота!
Мебель была сработана на диво. Все открывали, закрывали шкафы, спорили, что теперь уже никто такие не сделает. Наконец унесли в спальню.
В самый разгар гулянья пришел Яшка-паромщик. И он принес подарок: завернутую в газету гимнастерку.
– Для работы – милое дело! – сказал Яков. – Она у меня с фронта. Не полиняла. Друг у меня был, Сережа Пряхин. Большой, как ты! Нам только выдали амуницию, а ему на пост. Ушел, и все... И убили. Так я гимнастерку для памяти взял. Сорок лет пролежала, а она все новая. Она новая, а Сережи нету. Носи, Саввушка!
Савва принял подарок, посадил Якова. Пожилые женщины всплакнули да и все как-то вдруг притихли. Война помнилась и еще болела. Цыпин встал и, взяв баян, объявил:
– Кончай воевать!
Тут же запели "Рябину", после – "Священное море". Про бродягу пелось особенно хорошо. Женщины его жалели, мужчины в бродяге видели себя. Как спели, тут же вскочил чуть выпивший Усольцев:
– А почему мы современные песни не поем?
– А ты попробуй, милый! – засмеялась Лукерья. – Окромя стыдобы, ничего не выйдет!
– Это почему? – не сдавался Усольцев.
– Непонятны они нам! – сказал Иван Маслов. – Они как жестянки: гремят-гремят! Прямо весь белый свет ими заполонили!
– А знаете, – сказала Надя, – знаете, в них нет коллективной жизни!
– Духа и души нету в них, – сказал мрачный Кирьянов.
Он всегда был с виду мрачным и хмурым, на самом же деле – очень душевный человек. Восьмой год работал председателем колхоза. Говорили о песне все и пришли к одному: что нынешняя, современная, как град, выбивает песенные ростки народной песни. Стали даже слова из новых песен вспоминать. Выходило пошло и глупо. Все эти песни жили в отрыве от народа, от его духа, от его внутренней, глубокой жизни.
Надя слушала разговоры с особенным интересом. Она открывала для себя то, что уже само назрело в душе, но не определилось до конца. Усольцев давно уже сдался. Но жена его все еще продолжала спорить. И даже в пику запела "Миллион, миллион алых роз..." – и тут все захохотали, так нелепо встряла эта песня – не песня, а что-то непотребное и дикое.
Расходиться стали, как стемнело. Лукерья и Марья Касьяновна остались помочь. Осталась и Надя. Когда вышли, Усольцев подошел к Сомову.
– Согласитесь, что невероятно. но факт! И дом есть, и семья! Нет, утвердительно говорю, не потянул бы я с такой силой! Савва – это факт налицо! Это что-то прямо... Я даже не знаю, что это!
Рита Цыпина, подхватив под руку Сомова, тихо сказала:
– Повезло Катьке. Могло бы и побольше повезти...
– Нет, ребята! – протестовал Усольцев. – А дом! Музейный экспонат!
Прощаясь с Сомовым, Усольцев сказал:
– Извини, но я перебрал... мне бы только с Ленкой развестись... Но как?!
– Молча, – сказал Сомов.
– Да, вы правы... Надо быть решительнее! Очень надо!
...Перед сном Сомов зашел к Наде. У них уже сложилось так, что перед сном они о чем-нибудь говорили. Прощаясь, Надя задержала в своих руках его руку, но Сомов сделал вид, что ничего не заметил. На душе у него стало пусто: он вдруг по-настоящему осознал, что Катерина ушла от него навсегда.
На другое утро Сомов уехал на этюды в таежное село Моты. Уехал один, предупредив только Лукерью. В Мотах он остановился в маленькой гостинице, или, как тут она называлась, в доме приезжих. Состоял он всего из четырех комнат. Три пустовали, а в четвертой поселился он.
Прожив неделю, однажды ночью Сомов проснулся от страха. Не помнил, что приснилось, но страх и мучительная тоска разрывали сердце. Он едва дождался рассвета и с первым бензовозом выехал в Бельское. Чем ближе было к дому, тем нестерпимее его тянуло туда. Даже шофер разнервничался:
– Ты это что, однако, того? Ты это, чуешь что, что ли?
– Ничего я не чую. Гони-гони!
– Да я гоню! Машина, холера, не бойкая!
Выскочив у ворот, Сомов вдруг остановился. Было, наверное, часов девять. Высоко на горе ходило стадо. На березах уже висели золотые пряди. Еще день-два, и начнут косить хлеб. Пока его не было, у дома Глуховых выросли забор и высокие ворота. Ставни были открыты. И Сомову до боли захотелось, чтобы из ворот вышла Катя! Он ждал напрасно. Потом он повернулся к Надиному дому. Ставни были закрыты... Опять нехорошее предчувствие засосало под сердцем. Занемели пальцы. Он толкнул калитку и прошел в дом. В доме у печки сидела Надя. Лицо ее, словно выбеленное известью, было потерянное.
– Надя! Что случилось, Надя?!
– Егор, бабушка умерла...
* * *
Схоронили Марью Касьяновну на старом кладбище у церкви.
Кладбище это стояло высоко над селом, и росли на нем могучие столетние пихты. К зиме пихты сбрасывали свой мягкий игольчатый наряд, а к весне вновь наряжались. Ребятишки бегали сюда собирать пихтовые шишки.
После похорон были поминки. Приехали родители Нади. Готовила на поминки Лукерья в своем доме, помогала ей Катя. Притихшая Роза тоже помогала, чем могла. К вечеру все поминавшие разошлись. Остались родители Нади. Сергей Лукьянович Истомин говорил мало. Мать Нади, Нина, нервно оглядывала дом, перебирала платочек и все глядела на дочку.
– Надя, – тихо сказал отец, – завтра домой.
– Да-да, домой! Только домой! – поддержала его жена.
Надя молча смотрела в окно.
– Что же я дома делать стану?.. Я же не спущусь с четвертого этажа.
– Квартиру поменяем. А как же по-другому?
– Оставьте девочку мне, – попросила Лукерья.
– А вы меня... Вы меня возьмете? Лукерья Лазаревна, возьмите!
Мать вскочила с места, заплакала:
– Это невозможно! Как же так, что ж ты домой не хочешь возвращаться?! Ведь мы не чужие! Мы же родители!
Сергей Лукьянович поднял свою красивую тяжелую голову и в упор посмотрел на дочь.
– Я не поеду, папа... Я от вас отвыкла, должно быть... Я понимаю, что жестоко это говорить, но лучше же правду сказать.
Сомов увидел, как Надя похожа на своего отца. В ней, как и в нем, были удивительная сила духа и сосредоточенность в себе.
– Уж сёдня-то споров бы и не надо, – сказала Лукерья, – погоревать-то бы о Марье... Как это вот – выйду, а ее нет? Как же?.. Ведь пятьдесят годов без малого мы на лавочке вместе просидели! Уж она-то меня дождется! Ох, не было лучше у меня подруженьки.
Отец встал, обнял Надю своими огромными ручищами:
– Тогда мы поедем. Живи! Я через неделю к тебе, к воскресенью.
– Отец, что ты говоришь! – вскрикнула Нина.
Надя прижалась к отцу, и Сомову стало ясно, что в нем тоже Наденька искала вот такого сильного и умного человека, как ее отец. Он видел, что их любовь друг к другу – любовь высокая, крепкая.
– Надя поедет с нами! – нервничала Нина.
Сергей Лукьянович посмотрел на дочь, взял за плечи жену:
– Поедем, милая... Завтра с утра на работу. То-сё! Пока доедем...
– Наденька! – закричала мать.
– Мама, не надо, пожалуйста... – поморщилась Надя.
– Мне без тебя... – Дальше она не смогла говорить.
Наконец кое-как распрощались. Сомов вышел проводить Истоминых. Приехали они на своем стареньком, но очень ходком "Запорожце". Попрощались. Сергей Лукьянович усадил жену, укрыл ей спину пледом.
– Она у меня все простужается... – Помолчав, он сказал: – Я ведь отца вашего хорошо знал... Надю поберегите... Она хорошая...
Пожав руку Сомову, он сел в машину.
Сомов дождался, когда красные огни исчезли за поворотом, и пошел в дом. Лукерья ушла в свою спальню молиться. Наде она постелила в "холодной" комнате. Зимой она не отапливалась, и жили в ней только летом. Окна выходили во двор. Сомов прошел к Наде.
– Тебе тут удобно?
– Очень...
– Ты устала?
– Да. Мне кажется, я сейчас упаду и буду долго спать... И просто не знаю, как проснусь... Очень будет страшно проснуться. Это невозможно осознать... Моя бабушка сейчас лежит в земле... И никогда... Я никогда ее больше не увижу! Знаешь, я очень люблю маму. Я люблю ее меньше, чем отца, но я ее очень люблю! Это я нарочно так с ней. Иначе она будет плакать и плакать. И отец ее любит. Она очень нежная... Вот, Егор, выходит, что смерть все-таки есть. А я не очень в нее верила. Приходит, Егор, такой момент... Вот и ко мне пришло это время. Когда я вернулась с кладбища, поняла, что больше никого у меня нет! Есть, конечно, ты, но... Ты не мой!.. Хотя ты мой... Я не могу, не могу! – Надя уткнулась в подушку.
Сомов подошел и положил ей руки на плечи:
– Успокойся.
– Ах, Егор, вместо счастья я даю людям только горе! Это нестерпимо больно! Иди, иначе я опять...
Но Сомов подошел ближе:
– Надюша... Ты мне только скажи, и я сделаю так, как ты захочешь.
– Я знаю... – Надя вдруг улыбнулась Сомову. – Я знаю, Егор! Я это сейчас поняла. Главное, что я люблю! Я, не кто-нибудь другой! А любовь это и есть Бог... Я люблю! Я способна любить, а значит, верить и веровать! Это счастье... Наверное, грех сегодня так говорить. Но я говорю то, что думаю...
Когда Сомов простился и вышел, была ночь. Спать не хотелось, в доме было жарко оттого, что целый день готовили. Уходя, он заглянул к Лукерье:
– Теть, я пройдусь...
– Иди, иди, а то уж шибко жарко!
Сомов вышел на темный двор. Виляя белым хвостом, выскочил Бобка.
– Где же ты обитаешь, друг сердечный? – Сомов поерошил собаку и вышел.
Спустившись к реке, он ощутил прохладу. Стояла середина лета. Над землей холодно горел Млечный Путь. Его сияние надолго притягивало глаз. Сомов пошел вверх по реке, прямо по гальке, которая звонко, с каким-то щебетом скользила под ногами. Не доходя до старой мельницы, он увидел костер и пошел на огонь. У костра сидели трое. Двоих он узнал сразу – Розу и Семена Бляхина. Третий Яшка-паромщик. Сомов подошел, поздоровался.
– Я тебя давно увидела, – хрипловато сказала Роза. Белое платье с нее Лукерья сняла, и теперь Роза была в новеньком – в клеточку.
– Сидим вот, – начал Бляхин, – а Яшка врет!
– Чё вру?! Чё вру?! – беспокойно заговорил Яков. – Точно я видел! Говорил он как-то неспокойно, отрывисто, точно лаял. – Гляжу, значится, гляжу, а она идет...
– Это он про Марью Истомину. Будто он душу ее видел, – пояснил Бляхин.
– Чё перебиваешь? Неинтересно – иди себе! – остановила Бляхина Роза.
Получив такую поддержку, Яшка продолжал увереннее:
– Идет-то прям отсель! – и он показал пальцем на белевшую в темноте церковь. – А темень – глаз коли! Темень-то темень, а я ее вижу! Думаю, может, перекреститься? Ведь я крещеный же! Потом думаю – не, не поможет! А она подходит, да молода-молода! В такое растерянье меня ввела, прямо до сердечного колотенья! – Маленькие черные глазки Яшки округлились. Шрам его стал багроветь, ноздри подергиваться. – И ладно бы, чё я ее вижу, и все, тако бывает со мной, а главно – я-то не выпивши, а пахнет кисло, как после сварки, вот она в чем, главна примета! Как она подошла, гляжу – Царица небесная, да то Надька, внучка ее! Ей-Богу, внучка! Она пальцем погрозила, на речку встала, прямо как на стекло, и пошла вверх, как навроде в Саяны подалась!
Яшка от своего рассказа сам мелко дрожал, и капли пота, как бусинки, блестели на его выгнутом казацком носу. Бляхин вскочил с места и побежал к реке. Слышно было, как он пьет воду, черпая ее горстями и шумно втягивая. Роза подвинулась к Сомову:
– Около вас посижу. Страшно тут с имя! Они прям как черти! И чё бесятся?
Вернулся Бляхин, рукавом вытирая лицо.
– Вы, как человек образованный, поймете, что происходит все оттого, что Яшка пьяница, – начал Бляхин, возбужденно чиркая о палец. – Ты зачем говоришь об этом? – повернулся он к Яшке. – Ты меня пугаешь? Меня?! А я не боюсь! Я вот сижу с человеком образованным, он мне все объяснит! Скажите, отчего она пахла сваркой?
– Я не знаю, – признался Сомов.
Яшка захохотал высоко, по-женски. Хохот его разнесся по реке эхом.
– Он видел, видел! – затараторила Роза. – Он и чертей видит! У, козлина проклятый! – Роза высунула язык и стала дразнить Яшку.
Тот встал на четвереньки и, выпучив глаза, зарычал на Розу. Она взвизгнула и пнула его в лицо. Яшка свалился. Роза стремглав исчезла в темноте. Из темноты донесся ее дикий вопль:
– Егорий! Егорий! Приезжий! Он Надю видел! Надьку! – Хриплый голос ее был пронзителен и дик.
Поднявшийся Яшка теперь кинулся, дразнясь, на Бляхина. Обхватив друг друга, они повалились. Сомов расшвырял их в сторону, и они сразу присмирели.
– Теперь забегается до полусмерти, – сказал Бляхин о Розе.
Сомов прислушался, но кругом было тихо. Посидев еще с полчаса с притихшими мужиками, он, не прощаясь, поднялся и пошел прочь.
Возвращался Сомов тем же путем, что и пришел. Он шел и думал, что завтра придет к парому и сделает этюд с головы Яшки. Еще он подумал, что надо бы сделать натюрморт с сибирскими цветами. Вдруг кто-то крепко схватил его за руку. Сомов отшатнулся и увидел, что это Роза. Уже поднималась луна, и ее свет, как серебряная дорога, струился по реке.
– Тебе чего, Роза?
– Сказать хочу! – хрипло зашептала она ему на ухо. – Сказать надо! Надю он видел! И я Надьку видела! На гору она поехала! На гору!
– Ну-ка, успокойся! Успокойся! – Сомов чуть встряхнул Розу.
В лунном свете ее белое лицо было как маска. Что-то трагическое и ужасное было сейчас в ее глазах.
– На гору поехала! – заорала Роза и стала вырываться.
Смутное подозрение мелькнуло у Сомова. Он кинулся к дому. Добежав, увидел, что свет везде погашен. "Спят..." – подумал он и сел на лавку передохнуть. Со двора Истоминых послышалось мычание коровы. Корова ревела не переставая. Свет у Лукерьи зажегся, и она вышла во двор.
– Ты куда, теть? – спросил ее Сомов.
– Так чё же корова-то... Пойду к ней. Почуяла, чё ли? Тоскует, поди! Лукерья вышла. – А где же Надя? Она же за тобой следом уехала. Поди, заблудится по потемкам. Пойду погляжу, может, к себе поехала?
Лукерья ушла. Слышно было, как она во дворе у Истоминых открыла хлев, как что-то говорила корове. Та успокоилась и замолчала. Вскоре Лукерья вернулась.
– Замок-то на двери! Нету ее там!
И тут до Сомова дошло, что Роза действительно могла видеть, как Надя поднималась на гору, куда гоняют скот.
– Иди спать, – сказал как можно спокойнее Сомов. – Я знаю, где она. Мы сейчас придем.
Лукерья вздохнула и ушла.
Как только звякнула щеколда, Сомов бросился бегом на гору. Луна поднялась, и стало светло. От света все казалось торжественным и трагичным, словно природа показала, что иногда она сбрасывает покров тайны и обнажает свою истинную суть, значение которой – в трагизме жизни и смерти, в их постоянной и молчаливой борьбе. Сомов бежал, и сердце его рвалось из груди. Наконец он взбежал на гору. Наверху дул легкий ветерок, и под его дуновением катились серебристо-зеленые волны реки. Там, впереди, у самого обрыва Сомов увидел Надю...
* * *
Надя подъехала к обрыву и отсюда, сверху, увидела в лунном сиянии реку. Пойменные луга стояли синими. Деревья, словно накрытые сверху тонким белым шелком, отсвечивали матово. Роса, холодная, осенняя, успевшая выпасть, светилась синим огнем. Все было необычно, и все говорило сейчас Наде только о смерти. "Я хочу ее, – думала Надя, – хочу в эту темно-синюю вечность! В это могучее ничто! Вот сейчас я... Одно движение, и я... Только ощущение полета, а удара я и не почувствую. Я даже не узнаю, что умру! Как это хорошо..."
Под скалой ревела река, ударяясь о светлый гранит, и, кроме этого рева, во всем остальном мире стояла тишина. Надя подняла голову к звездам. Они мигали холодно и безучастно. "Они вечны. Что им моя жизнь! – думала Надя. – Что моя жизнь этому бездонному космосу... Господи, как он необъятен!.. Где же там я найду бабушку, найду людей? Вдруг я останусь одна?.. – И это мгновенное озарение повергло ее душу в ужас. – А если там совсем пусто? Нет, нет! Господи, ты меня слышишь? Мне страшно! И мне нельзя больше жить!" Она тронула колеса кресла, и оно продвинулось к краю.
– Ну давай! – сказала она вслух. – Ах, Егор! Если бы ты знал, как мне горько и сладко одновременно... Прощай! – Она крикнула это громко, всей грудью, чтобы заглушить дикий, животный страх. Она ненавидела этот страх! Но сейчас, когда нужно было сделать последнее движение, она не могла пошевелить рукой.
– Надя! – услышала она.
Повернувшись, она увидела, что к ней бежит Егор.
– Надя! Надя!
...Домой они вернулись поздно. Уже поблекла луна, и солнечный свет, пока невидимый, окрасил своим живым теплом небо. И все словно ожило, вышло из оцепенения, из плена неверного лунного света.
* * *
Через неделю Сомов уезжал в Москву. После случая над обрывом Надя сильно изменилась. Она стала спокойной, молчаливой.
Отвезти его взялся Усольцев. Оставался еще час. Лукерья хлопотала по сборам, совала в чемодан всякие кульки.
– Так ты чё же надумал с домом? Не бросай ты его! Лучшего тебе не сыскать!
– А что, Егор Петрович, родные корни! Как всякий великий человек, вы должны иметь свои пенаты! Понимаете, на ваш дом мемориальную доску повесят! – сказал Усольцев.
– И на ваш дом тоже повесят. – В дверях стояла Надя. Именно стояла.
– Ты сама?! – крикнул Сомов.
– Сама! Сама, Егор!
Коляска ее была у дверей.
– Сила духа! Вот она, сила! – торжественно сказал Усольцев.
Вошедшая Лукерья даже заплакала.
– Я восемь шагов сделала.
– Ты будешь ходить, я знаю, – сказал ей Сомов.
– Буду! – неожиданно твердо ответила Надя.
И вот пришло время выезжать. Лукерья и Усольцев вышли во двор. Сомов поцеловал Надю в щеку:
– Ну, не грусти.
– Поцелуй меня, Егор... Я тебя ждать стану! И ходить научусь, и детей тебе рожу!
– Ты жди меня, – ответил Сомов.
* * *
На высоте десять тысяч метров Сомов посмотрел в иллюминатор. Над землей стояла ночь. В огромном черном небе летел его самолет. Сомов возвращался в Москву. Вдруг ему почудился стылый запах черемухи. "Это Надя думает обо мне", – решил он. И тут же вспомнил: браки заключаются на небесах...
Самолет уносил сомова все дальше и дальше от того крохотного клочка земли, который неожиданно переменил его жизнь и, главное, наполнил смыслом, хотя во всем происшедшем он не до конца разобрался.