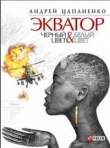Текст книги "Цвет черемухи"
Автор книги: Михаил Ворфоломеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Сомов повесил его чуть в стороне от других работ и время от времени что-нибудь поправлял в нем. На портрете Наденька сидела в своем кресле, в белой с синими цветочками кофточке. В руках у нее был томик Тютчева, голова откинута в сторону. Вокруг Наденьки нежно белели цветы дикой яблони. Их розовый цвет освещал ее лицо прозрачным, живым светом. Вокруг была весна весна была и в лице этой девочки. Только странный ее взгляд, который Сомов давно подметил, выдавал напряжение внутренней жизни.
Уже были готовы и сохли портреты Усольцева, Цыпина и Риты.
Он сделал и портрет поразившей его Доры Михайловой. Портрет этот еще не был закончен и потому стоял на мольберте посреди мастерской. Написать Дору подсказала Надя. Случилось так, что когда Усольцев ездил в районо, Сомов попросил его зайти в прокуратуру и поговорить о деле Михайловой. Усольцев все выполнил, и дня через два в село приехал следователь. Сомов с ним встретился, поговорил. Видимо, Егор так поразил следователя своим видом и умением говорить, что тот только отвечал: "Хорошо, очень постараюсь! Очень постараюсь!"
Дора пришла благодарить Сомова в черном пиджаке, с медалями во всю грудь, в черном платке и в новых, еще не ношенных лаковых туфлях, купленных, видимо, лет десять, а то и больше назад. Надя в это время была в мастерской у Сомова. Увидев Дору, она сказала, чтобы он обязательно ее написал. Писал Сомов ее во дворе, посадил на бревна, что лежали у дома, оставшиеся еще от его постройки. Дора смущалась, но Сомов сумел ее уговорить. Теперь портрет был почти готов... Черное загорелое лицо, черные от загара и работы руки... В глазах тоска. И только медали молодо и звонко горят на солнце. Непросто они достались Доре. Когда Сомов расспрашивал ее о медалях, она отвечала: "Работала, да давали... Денег-то раньше не шибко много было, больше медалей, чем денег-то, давали..."
Наде очень нравился этот портрет. Она подолгу рассматривала его и говорила, что самое поразительное – это глаза Доры. Голубые, блеклые, словно выгоревшие от нестерпимого зноя, что окалил ее лицо и руки.
Время цветения миновало. Завязались плоды, и, уже осыпанная зелеными ягодками, шумела под окном у Наденьки черемуха. На лужайках и опушках вспыхнули саранки. Вперемежку с саранками и стародубами они ярко-оранжевым шитьем пронизывали траву. Подходило время первого сенокоса. Ребятишки после Ильина дня залезали в воду, но купались не на быстрине, а в прогретых мелких заливах. Сюда же заплывали греться черные мальки. При появлении ребят они веселой стайкой как по команде, блеснув брюшками, уносились в другое потаенное место. Ребятишки ловили пескарей, иногда попадались и плотные ельцы. Настоящие же рыбаки уходили вверх по течению, далеко за село. Там, в глубоких водоемах и заводях, таился линь, а на крутой быстрине хватал таймень.
За эти недели, что Надя училась рисовать, у нее были заметные успехи. Рисовала она и раньше, даже немного занималась в детской студии, сейчас же, работая рядом с Сомовым, она быстрее продвигалась в учении. Ей нравилось быть рядом с Сомовым, слушать, о чем он говорит, наблюдать, как движется его рука по холсту. По вечерам к Сомову приходили Усольцевы, Цыпины, заглядывал маленький, рябой Бляхин. Семен Бляхин был местным поэтом, стихи которого печатались в районной многотиражке. Человек он был тихий, молчаливый. Когда разговаривал, чиркал пальцем о палец, словно очинял карандаш. Обычно к вечеру Лукерья ставила самовар, набрасывала на стол в комнате Сомова белую скатерть, ставила довоенные еще стаканы с блюдцами, большое блюдо с медом. Лукерья наливала чай, пододвигала стакан к гостю...
Утром Сомов пошел в магазин купить сахару и хлеба. Покупал он теперь на два дома – себе и Наде. Вернувшись, застал у себя Семена Бляхина. Семен пристрастился ходить к Сомову в гости. Садился в угол и наблюдал оттуда за всеми, кто появлялся. Работал он в местной котельной. На лето его пытались переводить на другие работы, но он не шел. Летом у Семена начиналась "его жизнь". Он вставал до рассвета и писал стихи, а вечером читал их своей старенькой матери, которая ничего не понимала. Читал и сам же плакал. Иногда, сложив стихи в папку, он хватал синий прорезиненный плащ и мчался в город. Там Семен ходил по редакциям, ловил литсотрудников, свято веря в их избранность и всесильность. Покупал водку, поил всех, кто соглашался его послушать. Сам он пил мало. Пропив деньги, отовсюду изгнанный, возвращался он к своей маленькой, старой матери, которая неизменно встречала его словами: "А мене сказывали, что будто убили тебя, раздели и бросили! Я уж и поминаю тебя как усопшего!" "Усопший и есть!" – трагически возвещал Семен и шел спать. Спал целую неделю, после чего начинал свою обычную размеренную жизнь.
С приездом Сомова у Бляхина появилось желание жить "другой жизнью".
Увидев входящего Сомова, Семен поднялся с табуретки:
– Не мешаю?
Он всегда говорил эти слова и никогда не здоровался.
– Нет, что вы!
– Благодарю!
Бляхин сегодня был в чистенькой полосатой, сильно застиранной рубашке. Жидкие светлые волосы свои он аккуратно пригладил. Нос пуговкой, красный, словно от постоянного насморка, он смешно его морщил. Бляхин не был женат. Так случилось, что по молодости лет все ему отказывали, и он, испугавшись дальнейших неудач, стал жить один с матерью. Мать он любил, и любил как-то болезненно. Купил аппарат, мерил ей давление, заставлял сидеть на диете. Выжившая из ума старуха во всем соглашалась с сыном. Вот и сейчас он начал с этого разговор с Сомовым:
– Напоил сейчас мать аспирином и уложил в постель. Вчера она работала на огороде, сегодня, чувствую, нездоровится ей – давление прыгает! Она меня в гроб вгонит! – Сказав, Бляхин поджал губы, словно обидевшись, что она его вгонит в гроб. – А я сегодня утром, как нарочно, муки творчества испытал! Вы сегодня испытывали?
– Я их не испытываю... – вяло ответил Сомов. Бляхин его смешил и в то же время раздражал.
– Нету экстаза? – серьезно спросил Бляхин.
– Ага! Нету...
– Гаврюшкин... Вы не знаете, случаем, Гаврюшкина?
– Нет, – признался Сомов, – не знаю.
– В райцентре он живет. Большой поэт! Косая сажень в стихах! Тот, если экстаза нет, – стаканчик красного... – Бляхин потупил полысевшую голову и замолчал.
Лукерья во дворе ставила самовар и разговаривала с Марьей Касьяновной. Сомов только видел их, но не слышал. Но по жестам их, по выражению лиц был уверен, что говорят они о Наде.
– Я вот, например, Пушкина не люблю, – заговорил снова Бляхин. – А Светлова уважаю! У Пушкина не поймешь, а у Светлова все понятно. У Рождественского хорошо!
Пришел Цыпин.
– Гигант! – завопил он, увидев Бляхина. – Невеста твоя приехала! Петр Сергеевич залился шелестящим смехом. – Егор Петрович, вы его невесту не знаете? Не знаете, да? – И Цыпин опять покатился со смеху.
Бляхин густо побагровел.
– Где это вы ее видели?
– На пароме! Насколько я понимаю, жить она будет у паромщика.
– Пусть живет... Яшка ее хоть бить не будет!
– Егор Петрович, а ведь у него действительно невеста есть!
– Какая она мне невеста! Все она врет! А вы, как врач, должны бы пресекать эти разговоры. Она как одета?
– Вполне прилично! Егор Петрович, невеста эта – того! – И Цыпин повертел пальцем у виска. – Роза Линькова! Роза, Роза, вянет от мороза! завопил Цыпин. – Ага, того! Она живет в Линьках. Там всего восемь домов и одни старики. Зимой, честно, живут только благодаря этой Розе. Она по любому морозу, по любому снегу идет в магазин за хлебом. Берет мешок и, верите, – с мешком обратно. Итого – сорок пять километров! А любит она попеременно – то Бляхина, то Яшку-перевозчика. Ну, Яков не особенно в счет, Яков пьющий зело! А что касается товарища Бляхина, то тут... Любовь!
– Дура она! Дура! Болтает, и все... А вы, как врач...
– Бляхин! – остановил его Цыпин. – Она одета очень прилично. Егор Петрович, если она одета нормально – значит, в данный момент она в уме. Значит, Семен нынче любовь раскрутит! – И Цыпин покатился со смеху.
Появилась Надя. Сомов встретил ее на кухне.
– Кто у вас? – спросила она.
– Цыпин и Бляхин.
– Я видела сегодня Розу. Ты ее не знаешь?
– Только что Цыпин рассказывал.
– Бедная... – Надя хотела проехать в мастерскую, но Сомов удержал ее.
– Ты до сих пор то на "вы" со мной, то на "ты"!
– Егор! Если бы я... Если бы ты мог... Мне видеть тебя – какой-то восторг! И я не знаю, бывает ли так? Но как только вижу тебя, теряюсь и говорю глупости, как вот сейчас! Егор, а давай завтра пойдем на тот обрыв.
– Нет-нет! Завтра – к реке.
– Хорошо... – Наденька взяла его руку и поцеловала. Она теперь часто целовала его руку. Целовала и прижималась щекой к его ладони. Егор ощущал ее нежную кожу, чувствовал, как бьется пульс на ее шее. От Наденьки всегда пахло свежестью. В эти мгновения Сомов готов был встать перед ней на колени, объясниться ей в любви. Он представлял, как она вспыхнет, как он станет целовать ее чуть припухлые губы... Как близко-близко увидит ее синие глаза...
Сомов понимал, что Надя и есть та самая девушка, которая ему судьбой завещана. И будь она здорова, он бы женился на ней не раздумывая! "А будет ли вообще она здорова? – думал Сомов. – Возможно ли после такой болезни выздоровление?" И не знал, что себе ответить.
За окном показался Усольцев с женой.
– Гости идут... – тихо сказал он Наде.
Она улыбнулась и быстро уехала.
Усольцевы принесли черемуховой наливки, долго рассказывали, как ее делают. Сомов внес самовар. Наденька за это время успела сделать карандашный набросок Бляхина. Все разглядывали, в том числе и Семен, и все, кроме него самого, находили, что хорошо.
– Меня лучше в профиль рисовать! В профиль всегда похоже выходит, говорил Бляхин. Он, хоть и не находил вовсе сходства, был очень доволен, что привлек к себе внимание. Даже раскраснелся от удовольствия.
Когда разлили чай и добавили в него черемуховой настойки, прибежала Рита Цыпина.
– Вы видели, Роза приехала! Я как раз из больницы выхожу, вижу она... В белом платье! Братцы, честное слово, в белом платье!
– Это пахомовское платье! – вспомнила Лена Усольцева. – Точно-точно!
И тут все наперебой стали вспоминать, какая была свадьба у Пахомовых и как наутро всю семью нашли мертвыми. Выяснилось, что пили они привезенный спирт, а спирт оказался не питьевым. В живых осталась только старуха, которая не пила.
И вот подвенечное платье оказалось у Розы. Старуха раздала вещи умерших. Люди, особенно кто победнее, брали охотно. Роза взяла себе белое кружевное платье, обрезала его до колен и стала носить.
– Зимой она ходит в ватных брюках и телогрейке, – тихо, одному Сомову, сказала Надя.
От этих разговоров Бляхин беспокойно ерзал на табуретке и часто глядел в окно. Цыпин это приметил.
– Семен, тебе надо подкрепиться! Иначе Яшку не одолеешь!
Рассказали и о Яшке-паромщике. Это был старый, совершенно спившийся человек. Рядом с паромом стоит будка, в которой он живет. Когда приходила Роза, она тоже жила в этой будке. И если Яшка гнал ее, она шла ночевать на паром.
– А где ее родители? – спросил Сомов.
– Нету у нее родителей, – тихо ответил Бляхин. – Ее подбросили в Линьках. Никто ее не брал, а после одна женщина взяла. Ее кто-то из города привез. Потом эта женщина, я слыхал, померла. Так вот Роза и живет: где накормят, где оденут.
– Как много несчастных... – сказала Надя. – Я раньше это не очень видела, а теперь вижу.
– Все это от водки! – строго заключила Лена.
Усольцев вдруг побагровел.
– А ты все знаешь, да? Ты все пережила, да? А может, от электричества?!
– Чего ты завелся? – сделала круглые глаза Лена.
– Да то! Несешь чушь. Ни милосердия в тебе, ни... Вообще ни черта!
– Вот это дал! – восхищенно сказал Цыпин.
Лена молчала растерянно, и было видно, как она собирается с ответом.
– Милосердие исчезает... – сказала Надя. – Оно исчезает потому, что о нем почему-то не говорят. Вот вы, Цыпин, вы доктор, а смеетесь над больной. Значит, никакой вы не доктор.
– Знаешь, Наденька, ты много на себя берешь! – вскинулась жена Цыпина.
– Я не смеюсь! Я шучу, – сказал Цыпин. – Это другое дело.
– Что это ты оправдываешься? – строго урезонила его Рита
– Я?! Я не оправдываюсь!
– Егор Петрович, вам, наверное, скучно среди нас? – тихо спросил побледневший Усольцев.
– Нет...
– Я вижу, что скучно. Мне скучно! А вам тем более. Там у вас в Москве большая жизнь! Не говорите и не доказывайте нам, что она такая же, как у нас! Нет! Мы здесь сдавлены, скучны! Говорим черт те о чем... Нам Блока заменяет Бляхин. Не сердитесь, Семен! Это я так...
– А что же ты хочешь? – вскочил Цыпин. – Тебе не нравится, ты руль поверни и кати в город. А лично я... Закончится моя отработка – и аривидерчи!
– Ты городской, а я деревенский. – Усольцев уже не мог сидеть и выскочил на середину. – Мне тут надо. В городе-то я вообще пугалом буду. Если честно, конечно, хватка у нас есть, а зачем она? Что я там буду защищать?
– А тут? – спросила его быстро Рита. – Тут-то ты кого защищаешь?
– Тут я себя защищаю. Того защищаю, который маленький во мне! Я вот в прошлый раз с Надей тут спорил...
– Чокнулись они на ней! – вырвалось вдруг у Лены.
Надя вспыхнула. И тут случилось неожиданное. В комнату вошла Катя, в струящемся, с нежно-лиловыми цветами платье, в босоножках на высоком каблуке. На шее был повязан сиреневый платочек.
Она вошла, несмело улыбнулась как-то всем и никому:
– Извините, что побеспокоила...
Сомов вскочил:
– Проходи, садись.
– Спасибо. – Катя прошла под взглядами всех.
От ее длинных и сильных ног, от ее тела веяло силой и здоровьем. Она села рядом с Надей и взяла ее руки в свои. Впервые Сомов увидел их вместе. И если Катя была хороша какой-то стихийной, диковатой красотой, то Надя была прекрасна классически. Это сразу понял Сомов, как только они оказались рядом.
– Две грации! – воскликнул Цыпин.
Катя повернулась к Сомову:
– Там девушка одна... Если можно, я приглашу ее. Ее знают.
– Кто такая? – заинтересовалась Рита.
– Да кто? – воскликнула Лена. – Будто не знаешь? Розка, конечно! Розка всегда ошивается около Надьки!
Сомова раздражала эта хамоватая Лена. Он видел, как страдал от поведения жены Усольцев, но это настраивало Сомова и против него.
– Позови, конечно...
Но звать не пришлось. В комнату вошла Лукерья, а рядом с ней девушка лет восемнадцати, с белым, без кровинки лицом, на котором болезненно кривились крашеные губы. Глаза у нее были разного цвета. Один темный, другой зеленовато-серый. Волосы – как лен. В белом застиранном платье, в кедах – она походила на девочку-подростка, которую неожиданно вытолкнули на сцену. "А ведь она по-своему красива", – подумал Сомов. Роза поискала глазами, увидела Надю и, совершенно не меняя выражения на лице, подошла к ней.
– Я тебя во сне видела! – Голос у нее оказался низкий, будто простуженный. – Ты чё, мужика любишь? Я его во сне видела. – Она вдруг в упор посмотрела на Сомова. – Во! Его любишь! – Роза широко улыбнулась. Зубы у нее были ослепительно белые. – Ты чё там сидишь? Иди сюда! Меня Катька привела. Я тебя искала, а Катька привела. Катька, дай мне духов, что раньше давала!
– Дам. Приходи, дам.
Роза взяла табурет.
– Пойду сяду... – И села рядом с Бляхиным. – Я у Яшки живу. Я у тебя жить не буду. У тебя мать дерется!
Приход Кати, а потом Розы развеял назревающий скандал. Стали расспрашивать Катю, как там в городе. Потом расспрашивали Розу. Та простодушно рассказывала о своей жизни. Надя отъехала к окну и смотрела на далекий лес. К ней несколько раз подходила Катя. Все видели – что-то тут происходит, но никто не догадывался, что именно.
* * *
Лукерья с Марьей Касьяновной по своей давнишней привычке сидели на лавочке у ворот. Сидеть любили на Марьиной лавке. Осталась она еще от той, первой постройки. Лавка была широкой, из одной толстой плахи. Были у нее и перильца, обвитые гирляндой цветов, вырезанных из корня. Спинка, также сплошная, была резной. В селе знали, что, отбыв срок наказания, заметно постаревший князь отдал дом и имущество молоденькой Агафье и Иллариону Истоминым. Говорили, будто бы они были ему детьми. Да и то верно, фамилии-то им сам князь дал. Иллариону шел тринадцатый годок, и он служил в доме князя. Когда хозяин уехал, Агафья доращивала брата, потом вышла замуж за богатого промышленника из Иркутска. Прожив с ним две недели, померла. Илларион же остался в селе, жил тем, что открыл школу, учил детей. Мужу Марьи Касьяновны Илларион приходился прадедом. Сказывали, что женился он на девушке необычайной красоты, но все время тосковал, писал куда-то письма. А дом переходил от одних Истоминых к другим.
Старухи любили вспоминать что-нибудь из своего далекого детства или из юности. Охотно вспоминали костры, что жгли ребята на конце деревни, гармошку, балалаечки.
К вечеру духота усилилась, едва струился со стороны тайги прохладный воздух. Однако стало ясно, что быть грозе. Марья, жалующаяся на сердце, и в этот раз почувствовала, как оно барахтается в груди, словно хочет выскочить наружу да глотнуть свежего воздуха.
Сразу сделалось тошно, а тело липко покрылось испариной.
– Ох, Лукерья, одна беда: все думаю, упаду, помру, а что с Надей будет?
– Дак ты не падай да не помирай! Мы как коров загоним, чаю со смородиной да валерьяной набухаемся – вот оно и полегчает. К грозе, должно быть, дело... – Лукерья поглядела на небо, но оно было чистым. Однако листья на черемухе сникли, да и береза не колышет ветвями, а ждет чего-то.
– Слышь, Лукерья, Катька-то Мамонтова досель к тебе никогда не ходила, а тут к Наде, гляжу, пришла, после с Розкой – к тебе!
– Гуляют! Пускай себе гуляют... – Не стала Лукерья рассказывать Марье ничего. Однако она знала, что у каждой жизни своя стежка. Где какой стежке встретиться, а где разойтись, никто не знает, да и гадать не стоит.
– А до чего хороша Катька-то! – продолжала Марья. – Прямо как в кино!
– Надо бы Розке платье какое сыскать. Погляди Надино какое. Ей как раз от Нади будет. Нехорошо ей в белом. Ходит как мертвец.
В это время из Лукерьиных ворот, легка на помине, вышла Роза.
– Роза, поди сюда! Поди, доченька! – позвала ее Марья.
Роза, покачиваясь, пошла к ним.
– Чё зовете? Вам чё надо?
– Ты завтра приходи, я тебе платье дам да кофту. Придешь?
Роза присела на корточки и поглядела на старух своими разными глазами.
– Приду... – Потом неожиданно захохотала, обнажив белые зубы. – А твоя Надька-то этого чужого любит!
– Так что? Пусть и любит, – не стала возражать Марья.
Роза вздохнула:
– И ко мне в Линьках один рыбак зимой пришел. Толстый и с машиной. Хотел любить, а сам проспал всю ночь. Зря я его караулила! Чужой-то – твой, Лукерья, да?
– Мой.
– Красивый! Его Катька уведет! Я Катьку голой видела! Мы сёдни с ей на речке мылись. Рыбы и те, однако, колом повставали! Прям как камень тело у ей! А чё жаркое, то жаркое!..
– И скажи на милость – дурочка, а понимает! – удивилась Лукерья.
– Не дурочка я! Ты вечно, тетка, выдумываешь! Это вот Яшка -тот дурачок. Он дерется! – Роза подскочила. – Мурашки по ногам забегали. Счас жених выйдет.
И действительно, вышел Бляхин. Не сказав ни слова, он, опустив голову, пошел по улице.
– Сёдни Яшка рыбу ловит, будет меня ухой кормить! Чё-то на голову давит... – Роза вдруг подошла к Марье и поцеловала ее. – Не скажу, а знаю: ты тайну имеешь! Всю тайну сама поймешь! – И, вновь грубо захохотав, Роза побежала следом за Семеном Бляхиным.
Наверху горы показалось стадо, и сразу же из Лукерьиного дома стали расходиться гости.
Подоив корову, Марья Касьяновна часть молока перегнала через сепаратор, часть поставила кваситься. Надя отправилась в свою комнату. Подъехав к письменному столу, открыла дневник. Сегодня с самого утра она жила неспокойно, все чего-то ждала... И вот под вечер к ней пришла Катя... Она ничего не говорила, а просто села и смотрела на нее. Тогда Надя не выдержала и спросила, правда ли, что она любит Егора? Катя ничего не ответила, но все было ясно... И вдруг она сказала: "Я-то, может, и люблю его, а вот уж как он – не знаю. Ты тоже ведь его любишь?" "Люблю, призналась Надя, – только что я? Меня ведь в расчет брать не надо".
Сейчас, оставшись одна, Наденька горько сожалела, что сказала тогда эти слова. Но она их сказала потому, что все чаще и чаще думала о том, что, конечно, она навсегда прикована к своему креслу.
И все же каждое свое утро она начинала с гимнастики. Проделывала упражнения два часа подряд. От этого у нее укрепились руки, торс, ноги же по-прежнему оставались неподвижными. Она могла выпрямить их, могла встать, но сделать хоть один шаг ей не удавалось. Она стала замечать, что ноги ее худеют... Все ее юное существо протестовало!
Наденька, не видя, смотрела в свой дневник и думала, что если ее любовь к Егору безответна, то жить не стоит. Она так и написала: "Жить не стоит, если в жизни нет любви!" Захлопнув дневник, выехала из комнаты. Бабушка сидела на кухне и, задумавшись, смотрела в окно.
– Бабушка! – крикнула Надя. – Я не могу больше так жить! Ну зачем, для чего я живу, милая? Если это наказание, то за что? Скажи, может быть, ты знаешь? За что?!
Наденька разрыдалась, и Марья Касьяновна разрыдалась вместе с ней горько, как никогда прежде.
Где-то далеко заворчал гром. Раскаты его приближались. Все вокруг потемнело, стихло на мгновение – и вдруг оглушительный треск, словно небо раскололось. Через все небо от горизонта до горизонта с запада на восток стремительно пролетела ослепительная молния. Следом вторая, третья. Надей овладел ужас, ее сковал страх перед всесильной и грозной природой.
А небо все сотрясалось от грома и молний, но на землю не упало еще ни одной дождинки. И вдруг Надя стремительно выехала за дверь, потом за ворота. Она направлялась к Егору.
Сомов, завороженный огненной пляской неба, сидел, не зажигая света, посреди мастерской, Лукерья убежала к телке, чтобы той было спокойнее с хозяйкой. Сомов не увидел, не услышал, а почувствовал, что в дверях Надя. Он повернулся. Наденька бросилась к нему, забыв о кресле, и чуть не упала, но Сомов успел подхватить ее на руки.
– Егор! Милый! Я так бежала сюда... Я бежала к тебе, сказать, что ты волен в своих чувствах! Понимаешь, милый мой, так нельзя любить, как я, нельзя! Это грешно и преступно! Любовь не должна быть эгоистичной! Если любишь – значит любишь, и все! Ведь правда? Вот бабушка меня любит и ничего же не требует взамен! И всякая любовь, она должна быть очень высокой! Она должна быть такой высокой, чтобы мы, даже если... Вот даже если бы захотели, не достали бы ее! Она как солнце... И ты меня прости! И пожалуйста... Егор, у меня была Катя... Что делать? Ты ее люби! Она очень... Если хочешь знать, я не имею права на любовь! Но как мне хорошо с тобой... Почему-то совсем не страшно. А когда тебя нет, мне ужасно страшно! Мне кажется, что я скоро умру! Но у меня был ты! И если я умру, был ты... Наденька заплакала, уткнувшись ему в плечо.
За окнами все стихло, и тут же сплошной лиловой стеной обрушился ливень.
После грозы на короткое мгновение все жило тихой, спрятанной жизнью. Но выглянуло солнце, и омытый, заполненный озоном и испарениями трав воздух стал легким, запели птицы, а над островом выросла радуга.
– Воду пьет, – сказала Надя, глядя на радугу. Она уже успокоилась, и только чуть побледневшее лицо ее еще хранило следы слез. – Егор, а почему ты никогда не рассказываешь мне о своей московской жизни? – вдруг спросила она.
– Не знаю.
– А ведь мне интересно, как ты добивался успеха, как жил.
– Все это я могу уместить в одно слово – труд.
– У тебя бывало отчаяние?
– Да... Видишь ли, Надюша, я приехал в Москву, уже не имея родителей, а следовательно, и поддержки. Но я не пробивал себе дорогу локтями, хотя следовало бы. И когда признание получали пустые, наглые... Не хочется сейчас об этом говорить. Еще не отболело. Но вот что всегда меня поддерживало, так это то, что я – русский человек, пришедший на эту землю, чтобы увидеть ее глазами своего народа. Немного, да?
– Немного.
Надя замолчала. Видимо, никогда раньше ей не приходилось думать об этом.
– Егор, а ведь все эти люди, что нас окружают, и есть наш народ?
– Конечно.
– И мы сами есть часть его.
– И мы сами плоть от плоти его.
– Как это здорово! Послушай, так вот же и смысл жизни! Прибавить к имени народа еще пусть негромкое, но и свое! Вот я часто бываю на кладбище. Оно очень старое, но каждая могила сохранилась. Там даже есть самая первая! И есть дата – 1689 год. Здорово, да? Дата есть, а имя человека стерлось. Я спросила одну бабушку: а кто там похоронен? Она ответила так, словно всегда знала этого человека: "Там-то? Так Никола Полуянов. Никола Хрисанфыч!" Стала я о нем узнавать. Оказывается, он первый срубил деревянную часовенку. И об этом помнят. Понимаешь, жил на земле Никола Полуянов! Добрый человек русский.
Вошла тетка Лукерья:
– Чё притихли?
– А мы не притихли, мы разговариваем.
– Ну да и я с вами. А то бы пошли подышали. Не воздух – мед! Егорша, я вот что хочу спросить: как помру, с домом как? Дом жалко. Дом хороший!
– Не помирай, теть. Живи.
– Ладно, поколь поживу, а после? Я ить на тебя дом записала.
– Надюша, давай займемся музеем? Станем собирать иконы, посуду, мебель...
– И стеклотару! – раздался неожиданно низкий голос.
Сомов повернулся и увидел на пороге огромного светловолосого мужика. Лет ему было около сорока. Лицо загорелое, чуть выпирающие скулы. Глаза серые, красиво очерченные темными ресницами.
– Савва! – радостно крикнула Надя.
Савва, чуть пригнувшись, вошел в мастерскую.
– Здорово, Надя! Здорово, Лукерья!
– Да ты как к нам собрался?
– Потянуло.
– И то! И то! Без людей жить... И то! А это племянник мой, Егор.
– Да слышал, – сказал Савва и руки не подал.
– Савва, ты что?! – возмутилась Надя. – Почему руки не подал, не познакомился?
– Велишь? – спросил он.
– Велю!
– Добро. – Савва неслышно и в то же время мгновенно оказался рядом с Сомовым. Протянул ему руку. Ладонь была огромной, и когда Савва пожал руку Сомова, тот понял, что в этой ладони камень хрустит.
– А я, собственно, за вами, Егор Петрович.
– Да ну?
– Да. Баню я сладил. Прошу.
Сомов согласился.
– Так мы после бани придем! – сказал Савва Лукерье и быстро вышел.
– Он не ходит, а летает, – сказал Сомов.
– Точно! А в баню сходи-сходи! – поторопила его Надя.
Вышли за ворота.
– Сейчас жары пойдут. Косить можете?
– Нет, – признался Сомов.
– А косить надо. У тетки – корова.
– Я знаю.
– Я тебе вот что скажу, Егор Петрович, ты тут не играй, понял? Тут тебе не место играть.
– Я не понял.
– Не понял, да? Понял ты. И музея никакого ты не сладишь. То-то! Знаю я вас.
– Это кого – "нас"?
– Тебя!
– Ты меня в баню пригласил или учить? – Сомов остановился.
– Не нравится? – спросил Савва.
– Не нравится.
– Тогда прости.
– Бог простит! – Сомов повернулся, чтобы уйти, но Савва оказался впереди.
– Ладно, остынь. Я же сказал, прости – значит, прости.
Дальше пошли молча. Проходя мимо столовой, Савва выругался:
– Ну ты погляди-и! Столовая в селе, а?! Чтобы бабы вовсе отучились готовить.
– А если кому некогда?
– Это кому некогда? Погляди, кто в этой столовке? Одни алкаши! Получается, не деревня, а сброд! У меня дед правильно сказал: вся пьяная зараза пошла после отмены крепостного права.
– А ты сам не пьешь?
– Никогда.
– Серьезно?
– А зачем? Ты знаешь, Егор Петрович, и женщины меня боятся. Ты, говорят они, черт! А я не черт! Я леший! – Савва улыбнулся. Зубы у него оказались белые, ровные.
Баней заведовал Яшка-паромщик. Он бегал в одних кальсонах, обливаясь потом, из бани к колодцу.
– Воду вам достаю! – отрывисто, словно пролаял, сказал Яшка. Колодезная вода после бани – как вермут с утречка!
Когда разделись, Сомов с восхищением оглядел фигуру Саввы. Под белой, в отличие от лица, совсем незагорелой кожей ходили бугры мышц. Плоские и твердые, как булыжники. Яшка даже перекрестился:
– И как ты такое носишь? – Покачал головой.
Савва взъерошил свои золотистые курчавые волосы и кивнул на дверь:
– Как там?
– Зверь! – делая страшное лицо, сказал Яшка. – Туда войдешь, обратно вынесут!
Сам Яшка не парился, но баню делал хорошо. Для него было истинным удовольствием наблюдать за парильщиками и слушать похвалу.
– Ты нынче, Яшка, себя превзошел! – лежа в ледяной ванне, рокотал Савва.
– Во! Четыре куба дров сжег! Думал, бревна лопнут!
Поначалу жар оглушил Сомова. Казалось, еще мгновение – и сердце лопнет, а легкие сгорят! Воздух – как раскаленное стекло. И вдруг на белые от жары камни Савва плеснул густого настоя ромашки и донника.
Пар ударил в потолок так, словно разорвалась граната. Сомов присел, и тут же горячая, пахучая волна прокатилась по всему телу. Пот потек обильный. Сомов парился на полу, а Савва забрался на самый верх.
– Егор, после я тебя веничком пройду!
Мылись долго, до самой темноты. К вечеру Яшка, выпив свой очередной стаканчик, пошел мыться на речку.
– Мене речная вода бодрит! Плеснусь в ей, прямо как стаканчик выпью!
Было видно, что Савва жалел Яшку. Через его длинную, как огурец, лысую голову шел шрам.
– С войны принес, – сказал Савва. – Через этот шрам у него и с головой нелады.
Возвращались по темноте. Пахло огородами. Савва заговорил о Наде:
– Ты, вообще, ладно придумал с музеем. Ей надо. Она деликатного толку. Как моя жена.
О своем прошлом Савва помалкивал. Уже подходя к Лукерьиному дому, он неожиданно сказал:
– Жениться пришел.
– На ком? – спросил Сомов.
– На Мамонтовой.
Сомов даже с шага сбился от неожиданности.
– Да, Катя очень красивая...
– Ты-то как, всерьез или просто? – спросил его Савва.
Сомов понял, что тот все знает.
– Вообще... Я не знаю, – сказал он честно. – А что же ты раньше думал?
– А я не думал. Сегодня Епифанов рассказал, вот я и надумал. Завтра предложение сделаю. Нет – нет! Да – да! Надо в село переезжать.
– Устал один?
– Устал. Без людей нельзя. Пойду в колхоз.
– А кто же егерем?
– Найдут. Мне в колхоз надо. Я ведь человек земляной, а вот взял и отошел. Стыдно. Как будто спрятался от земли.
Эти слова потрясли Сомова своей правдой. Было видно, Глухов выстрадал все, что сказал...
В доме их уже ждали. Самовар клокотал, на столе – миски с медом, моченой брусникой, топленым маслом, еще потрескивавшим от жара. Тут же стопка блинов.
– Саввушка, упарился, поди? – встретила их Марья Касьяновна.
Он легко поднял ее и поцеловал в щеку.
– Здорово, Марья Касьяновна. А кто же блины пек?
– Я, – сказала Надя.
Она сидела у края стола. Сомов увидел, что она переоделась в белую кофточку, которая так ей шла.
– А у тебя нос красный, Егор! – вдруг засмеялась Надя.
От чая разомлели. Полотенца, висевшие на шее у мужчин, стали мокрыми, а пить все равно хотелось. Савва рассказывал о медведице. Надя, сидевшая с краю, наблюдала то за Глуховым, то за Егором. Она отметила, что оба, при всей непохожести характеров, обладают двумя общими качествами – умом и волей.