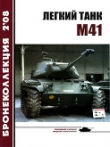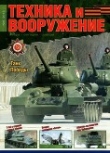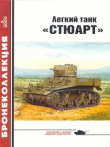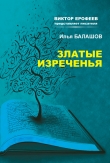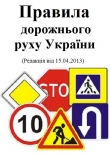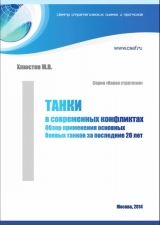
Текст книги "Танки в современных конфликтах. Обзор применения основных боевых танков за последние 20 лет"
Автор книги: Михаил Хлюстов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Впервые публично эти танки были показаны на военном параде в Пекине в октябре 1999 года, и ныне ведется его производство для замены танков Тип 59, Тип 69 и Тип 80, так что к 2005 году было произведено уже свыше 1500 таких танков.
В 1991 года Китай и Пакистан впервые продемонстрировали танк Тип 90-II, вооруженный советской 125-мм пушкой 2А46 и новой автоматизированной СУО с баллистическим вычислителем. В создании танка Тип 90-II принимали участие французские и английские фирмы, а сборка велась в Пакистане и Китае.
В Китае, на основании полученного в ходе создания Тип 90-II опыта и после создания опытныго образца Тип 98 производятся вполне современные танки Tип 99 с 125-мм гладкоствольной пушкой (китайская модификация российского орудия 2А46), способной вести огонь управляемыми боеприпасами 9К119. Как основное средство борьбы с танками противника в состав вооружения танка входят бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана. СУО танка Тип 99 выполнена по западным технологиям. Танк Тип 99 защищен броней «сэндвич» с промежуточным слоем из керамики и навесными многослойными модулями динамической защиты, лазерной системой активной защиты танка. Дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. является китайской модификацией германского WD396.
Танк Тип 99 (ZTZ-99) был показан компанией НОРИНКО в 2000 году и после выпуска 40 танков Тип 99 их производство было продолжено. И ими вооружены только подразделения НОАК, дислоцированные в Пекинском и Шэньяньском военных округах.
Все это достигнуто китайцами за пару десятков лет, причем все данные основываются на той скудной информации, которую китайцы сами добровольно дают в прессу. В то же время очевидно, что участие компаний из Украины, Израиля, Франции, Великобритании и России вывело не только Китай, но и Пакистан в число ведущих танковых держав. В Пакистане производство танков началось с производства китайского Тип 59-I, который был модернизирован Пакистаном и производился как Al Zarrar, затем начал производится китайский танк Тип 69-IIMP (пакистанский вариант 69-II). После создания совместно с Китаем танка Тип 90-II, который в Пакистане получил обозначение Р-90 Al Khalid (Аль Халид), он вместе с закупленными на Украине танками Т-80У составил главную ударную силу армии Пакистана.
1.3. Особенности рынка и основные маркетинговые стратегии продажи основных боевых танков
Немаловажную роль в дискуссии о танках вносят отношения на рынках вооружений. В целом в мире наблюдается тенденция снижения закупок импортных ОБТ и организация собственного производства. От лицензионного производства к собственному танкостроению перешли Индия, Пакистан, Северная и Южные Кореи, Иран. Их танки третьего поколения в основном заполняют внутренний рынок (в Индии и Пакистане – частично) и даже поставляются на экспорт. Рывок совершила Турция, выйдя в число лидеров «второго ряда», закупившая у Южной Кореи технологии, используемые в ОБТ К-2. Турция создала на их основе собственный вариант ОБТ «Altay».
Танк (без электронной «начинки») не требует от страны супертехнологий, для его создания необходимо существование только тяжелого машиностроения. Все это отвечает состоянию промышленности многих стран, лежащих по уровню промышленного развития ниже стран «топ десять». Танк относительно дешев в эксплуатации, может длительно храниться на складах без ежедневного обслуживания и быстро вводиться в строй. Уровень подготовки танкистов также может быть относительно невысоким, что актуально при длительных конфликтах, когда нет времени на подготовку классных экипажей. Все это не скажешь ни о ядерном оружии, ни об авиации и др.
Рынок сужается, спрос на ОБТ падает – соответственно падает серийный выпуск, отчего возрастает себестоимость. Чтобы выставить на рынок «новейшую модель», ее оснащают большим количеством современных вооружений, приборов и оснащения – рыночные цены на ОБТ растут. Поскольку перспективы боевого применения неясны, танки закупают партиями до 100, максимум 200 штук, при сложных условиях сопровождения контрактов.
Всего за восемь лет с 2006 по 2013 гг. в мире будет продано не менее 4515 танков на сумму, превышающую $16,54 млрд. Из этого количества объем рынка новых ОБТ составит не менее 2478 машин на сумму $14,75 млрд, или 55 % от общего количества, и 90 % от стоимости общемировых поставок ОБТ.
Средняя емкость мирового рынка ОБТ составляет примерно 550 танков из них новых – 300 штук. По сравнению с периодом холодной войны (1950–1987 гг.) емкость рынка упала в 4–5 раз.
Указанные факторы приводят к обострению конкуренции между танкостроителями, в свою очередь, влияя на позиционирование товара в продвижении его на рынки. Логика конкуренции выдвигает на первый план выбор между существующими ОБТ, противопоставление их боевых, эксплуатационных и ценовых характеристик. Основные рейтинги основываются на четырех параметрах: огневая мощь – защищенность – показатель подвижности (скорость, маневренность) – эксплуатационные качества.
В предшествующих демонстрациям образцов техники на выставках вооружениях или перед тендерами на закупку военной техники рекламных кампаниях на первое место выходит вероятная встреча с конкурирующим образцом на поле боя, то есть действия в условиях широкомасштабной войны.
Классической оппозицией стало противопоставление модернизированных Т-72 и «Абрамсов». Последние по уровню защищенности в лобовой проекции превосходят даже Т-90А, а более мощная СУО дает «Абрамсу М1А2 SEP» преимущество в дистанции обнаружения противника вдвое, а ночном бою более чем в четыре раза. Это превосходство дополняют «эксклюзивные» американские подкалиберные снаряды с урановым сердечником высокой бронепробиваемости.
Но установленная на Т-90 КУВ «Свирь» превращает танковую пушку в пусковую установку ПТУР, что значительно усиливает огневую мощь и вероятность поражения «Абрамса», в том числе в уязвимые проекции. Бронепробиваемость ракеты-снаряда «Рефлекс» примерно равна толщине (эквивалент гомогенной) брони в лобовых проекциях «Абрамса М1А2».
«Абрамс» КУВ не имеет, установленная на нем пушка стандартна для танков НАТО – лицензионный вариант «Рейнметалл 120», устанавливаемая и на «Леопард-2», и на «Меркаву IV», и на многие другие модели ОБТ.
Подобное приведение аргументов «за» и «против» происходит многократно – постоянно проигрывая виртуальные дуэли Т-90 и «Абрамса». В зависимости от участников тендеров на закупку ОБТ в подобные «схватки» включаются «Леопард-2» и прочие типы.
Почти за полвека существования ОБТ третьего поколения «встреча» между ними состоялась лишь трижды. Все случаи связаны с Ираком. В ирано-иракской войне Т-72 продемонстрировали полное превосходство над «Чифтенами» (один из лучших танков 2-го поколения). В войнах 1991 и 2003 гг. иракская сторона выступала в очевидно неравных условиях, особенно во второй войне, когда модификации иракских Т-72 отстали на десятилетия от новейших на тот момент моделей «Абрамсов» и «Челенжеров».
К войнам средней интенсивности и малой продолжительности можно отнести вторжение в Ливан 1982 г. года и войну в Южной Осетии 2008 года. В 1982-м Израиль и Сирия применили ОБТ третьего поколения, которые показали свое превосходство над танками второго поколения. Но «Меркавы» и Т-72 на поле боя так и не встретились. В конфликте в Южной Осетии участвовали танки одного типа примерно в равном количестве, поэтому при техническом равенстве победу принесли иные факторы, прежде всего боевые качества личного состава и умелое руководство.
При позиционировании ОБТ практически не учитывается изменившийся характер военных конфликтов. Сегодня наиболее актуален локальный конфликт в форме «мятежвойны». Для подобной роли ОБТ изначально не предназначены, и чаще всего их боевые качества в таких войнах не анализируются. Покупатели попадают в патовую ситуацию: ОБТ приобретается как «оружие сдерживания» в противостоянии с соседями – в перспективе могут быть применены по прямому назначению только гипотетически, аналогично СЯО. В реальных малых конфликтах боевая эффективность ОБТ оказывается низкой.
При покупке современных ОБТ одним из решающих факторов становятся эксплуатационные качества – экономические показатели. Здесь российская техника вне конкуренции: цена Т-90А в три раза ниже «Абрамса М1А2 SEP»: 2,5 млн долларов против 7 млн долларов. Эксплуатационные расходы (в том числе расход горючего) ниже примерно вдвое. Поэтому Россия удерживает лидерство по числу проданных новых ОБТ (период 2007–2014 по числу проданных или строящихся по твердым контрактам) – 1291 единица против 491 штуки у США. Американцы лидируют по финансовому объему продаж: 4971 млн долларов против 3858 млн долларов за тот же период.
Выбор и покупка того или иного типа танков в значительной степени зависит от внеэкономических показателей. Не случайно «пропихиванием» на рынки стран-экспортеров занимаются не столько представители концернов, сколько военные структуры государств-производителей.
Здесь тенденции развития бронетехники попадают в зависимость от обратной связи: ситуация на внешних рынках влияет на ситуацию с производством танков и закупкой внутри страны по принципу «раз товар пользуется спросом – значит, техника актуальна». Постоянные PR-кампании создают ОБТ имидж очень актуальной техники, что в свою очередь формирует отношение к ним гражданских политиков, менее военных сведущих в вопросах современной стратегии и вооружений, зато руководящих распределением бюджетных средств.
Хотя экспортная закупка военной техники в значительной мере зависит от политических усилий страны-экспортера, чем от реальных потребностей покупателей, у которых конечные финансовые решения тоже принимают не столько военные, сколько гражданские чиновники. То есть военные могут повлиять на выбор типа танков и то не всегда, конечное решение остается за высшими чиновниками.
Например, половина проданных Россией ОБТ приходится на Индию – давнего союзника в регионе. Чтобы не зависеть от одного производителя, Индия традиционно диверсифицирует закупки ВТ. Высокий показатель приобретения Т-90, а также развертывание его лицензионного производства в Индии (1000 штук) объясняется неудачей проекта индийского танка «Аржун-1», боевые и эксплуатационные качества которого оказались значительно ниже ожидаемых. Тем не менее Индия намерена развивать этот проект и преодолеть большинство недостатков в модели «Аржун-2». Индия нуждается в многочисленных современных танковых войсках, именно как в «оружии сдерживания» Пакистана, который тоже оснащает свои армии большим количеством современных ОБТ как китайского (тип 85) и совместного с ним производства (танк «эль Халид»), так и украинского Т-80УД.
Довольно высокие показатели продаж «Абрамсов» также объясняются политическими причинами. Например, «продажа» иракской армии 140 «Абрамсов» (четверть всего экспорта 2007–2014 гг.) устаревших модификаций произошла в условиях фактической оккупации Ирака.
После ухода американцев Ирак планирует приобрести до 2000 (!) Т-72 у стран-членов НАТО, бывших участников ОВД, и провести их модернизацию по стандартам НАТО с участием американцев. Высокие качества и низкие цены российской военной техники заставили правительство Ирака разместить в конце 2012 года предварительных военных заказов на 4,2 млрд долларов.
Характерно, что значительная часть этих закупок приходится на не самую современную технику, что далеко не случайно. Обычно от внимания аналитиков ускользает наличие устойчивого спроса на мировом рынке на ОВТ устаревших типов и средние танки второго поколения. Он составляет около 250 танков в год. Примерно 50 из них приобретается на запчасти, для музеев и частных коллекций, для установки в качестве монументов. Остальные – для вооружения «слаборазвитых стран» из резервов ВС России, США и прочих эксплуатантов.
Цены на такие танки колеблется от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч долларов – финансовой «погоды» на танковом рынке они не делают, серьезной угрозы современным ОБТ не представляют. Это «оружие бедных».
Обилие танков второго послевоенного поколения на складах стран НАТО и бывших участников СВД позволяет покупать их по ценам, близким к цене металлолома. Общий уровень военной техники многих африканских стран приводит конфликты к уровню военного противостояния 50–40-летней давности.
В некоторых странах Африки до сих пор применяются Т-34-85 и «Шерманы» и довольно часто Т-54/55. Для уровня текущих и вероятных конфликтов с соседями более совершенной техники и не нужно. Уровень бронетехники, как и всей ВТ, напрямую зависит и от уровня конфликта – нет необходимости поставлять сложную технику туда, где она не будет полноценно использована. Мало того что она дорогостоящая, вместо одного «Абрамса» можно купить целый полк Т-55, она требует соответствующей инфраструктуры эксплуатации, боеприпасов, вспомогательной техники. Огромная проблема – комплектация экипажей и обслуживающего персонала, особенно в Африке, где для обслуживания всякого сколь-нибудь сложного комплекса (заурядного для армий Европы или Америки – вертолета, самолета, комплекса ПВО) привлекаются европейские наемники.
Есть проблемы с применением современных боеприпасов. Тем более что зачастую необходимых боеприпасов вообще не производится. Например, в арсенале современных ОБТ США нет осколочно-фугасного снаряда – самого востребованного в локальных конфликтах.
За подобными фигурами умолчания скрывается и иная проблема. Более универсальные танки поколений 1 и 2 более подходят как для ТВД, так и для характера «малых войн». Зачастую это горная или лесистая местность, где танки используются единично или малыми группами, как средство поддержки пехоты. Где низко или вовсе отсутствует противодействие артиллерии и авиации. Воевать приходится против небольших групп пехоты противника, как правило, вооруженных «африканскими танками» – джипами или пикапами с установленными на них крупнокалиберными пулеметами или базуками. В борьбе с ними средний танк на пересеченной местности обладает достаточной мобильностью, высокой защищенностью и огневой мощью. Он эффективен в горных условиях и в джунглях, зачастую показывая большую эффективность, чем применяемые там же ОМТ третьего поколения. В силу простоты конструкции «старые» танки более надежны и ремонтопригодны. Потеря такого танка не обрушит военный бюджет страны – он легко заменим дешевым аналогом, а гибель экипажа при низкой ценности человеческой жизни в подобных странах не вызывает серьезных гуманитарных последствий, как, например, в Израиле или ФРГ.
Потребность в такой боевой технике есть не только у африканских стран. Афганистан, у которого нет проблем с комплектацией экипажей своих истребителей и вертолетов афганскими пилотами, тем не менее постоянно предъявляет спрос на Т-55 и Т-62 из резерва Минобороны России. Причем оплачивает эти поставки американская администрация. Поэтому при желании правительство Карзая могло бы закупать Т-72 и даже более дорогие «Абрамсы» и «Леопарды», но, тем не менее, этого не делает. Им нужна ВТ, эффективно работающая в местных условиях. И если отказ от приобретения американских вертолетов в пользу современных российских модификаций МИ-8 (опять же за счет «средств американских налогоплательщиков») вызывает всеамериканский скандал, то закупка сотни устаревших советских танков проходит незаметно в силу относительно малой суммы контракта.
Сосед Афганистана Пакистан также содержит значительное число танков второго поколения в частях (до 2000 Т-55 различных модификаций, в основном китайские Тип 59) и в резерве (1200 Т-55 и 300 М-48), в том числе по описанным выше причинам. Имея обширную мятежную «зону племен» на севере страны и приграничных с Индией горных районов пакистанские военные держат там части, вооруженные Т-55. Для возможного конфликта с Индией (а также с Ираном) на пустынных равнинах имеется более 650 ОБТ третьего поколения последних модификаций – как «оружие сдерживания».
Показательно, что Пакистан – главный геополитический союзник США в регионе – не закупает американские «Абрамсы», отдавая предпочтение украинскому Т-80УД и китайскому Тип 85 II / III, создавая на основе последнего собственную модификацию «аль Халид».
2. Танк как политическая сила
2.1. Общие оценки
Политический аспект применения танков в аналитике или не рассматривался, или рассматривался вскользь. Военные теоретики, считают это прерогативой политиков, а политологи относят стратегию и тактику применения бронетехники исключительно к компетенции военных.
Количественные и качественные показатели танкового парка страны определяют ударную мощь его сухопутных сил, «оборонный потенциал» в широком смысле, поскольку вооруженные силы определяют как возможности обороны страны, так и агрессии.
Во время холодной войны, наряду с ядерным оружием, наличие огромных танковых армий в центре Европы служило потенциалом сдерживания противостоящих блоков. Причем с обеих сторон существовали страхи агрессии вероятного противника, а желание нанести превентивный удар разбивалось о расчеты хода будущей войны. При ядерных испытаниях середины 40-х на различных образцах ВТ выяснилось, что танки являются наименее уязвимым для ядерного оружия видом вооружений. Потому даже при применении тактического ядерного оружия против ударных бронетанковых группировок значительная их часть должна была уцелеть. Далее война продолжилась бы в «обычном» режиме, итогом которой стало бы быстрое занятие всей Западной Европы войсками ОВД, что привело бы к эскалации конфликта с применением ядерного оружия.
Танки превратились в «оружие сдерживания» на оперативно-тактическом уровне, являясь средством предотвращения глобальной войны. Что определило гипертрофированный рост численности и гонку БТ-вооружений.
В условиях Европы с ее высоким уровнем урбанизации (при сложности применения танков в городах), обилия естественных преград: возвышенных и горных массивов, рек и сети каналов – применение армад танков представляло большую трудность. Единственным козырем могли стать прекрасные шоссейные дороги Европы, однако их значение сводилось на нет бурным развитием средств ПТО: появлением ракетных противотанковых комплексов, усилением ствольной артиллерии, ПТР, принятием на вооружение новых поколений противотанковых мин. Однако такие «мелочи» в глобальных расчетах политиков если и учитывались, то им отводилась второстепенная роль. К тому же свежа была память о европейском блицкриге вермахта, особенно в операциях против Франции, Бельгии, Голландии, Югославии. Он показал, что для хорошо организованной танковой силы, взаимодействующей с авиацией, артиллерией и мотопехотой, водные и горные препятствия не являются непреодолимыми.
Опыт локальных конфликтов, вроде бы, тоже говорил в пользу танков. И там, на протяжении более полувека, танк оставался главной ударной силой поля боя. Наиболее массово и успешно он применялся в условиях, близких к «полигонным» – в слабопересеченных пустынях и полупустынях Синайского полуострова или равнинных местностях на индо-пакистанской границе. Позже – войсками коалиции против Ирака.
В остальных конфликтах танки проявили себя не как основное ударное, а как вспомогательное средство ведения войны. Особенно при ведении войн партизанского типа: Вьетнам, Афганистан, где основными техническими средствами ведения войны стали авиация (особенно возросла роль вертолетов) и артиллерия.
Увлечение новейшими моделями ОБТ коснулось и стран, не имевших ЯО, хотя для них этот дорогостоящий вид вооружений был обременителен. Стремление максимально нарастить танковый потенциал, заполучить в большом количестве самые современные образцы на льготных условиях или вообще бесплатно сильно влияло на внешнеполитические курсы стран третьего мира, искавших союзников среди стран социализма или НАТО. Для ведущих игроков мировой политики поставки танков (наряду с другими технологическими видами вооружений – самолетами, вертолетами, ракетными комплексами, кораблями) превратились в один из козырей усиления своего влияния в разных частях мира. Потому в некоторых регионах к концу «холодной войны» накопился избыточный танковый потенциал. Танки часто использовались не только в международных конфликтах, но во внутренних.
2.2. Танки во внутренней политике
Почти любое государство периодически переживает внутренние и внешние политические кризисы, противостояния, конфликты. В том или ином виде эти явления выливаются в движения политических групп, партий, движений, политизированных масс населения. По мере нарастания мирной конфронтации для простого поддержания порядка, а уж тем более для силового давления, обычных полицейских сил становится недостаточно. На этом этапе эскалации подключается армия.
Вывод на улицу военных еще не означает перехода противостояния политических сил в стадию вооруженной конфронтации. Присутствие на улицах военных, хотя и свидетельствует о новом витке противостояния, может рассматриваться политически активным населением (пикетерами, забастовщиками, демонстрантами), как усиление сил полиции или как дополнительные меры охраны элементов инфраструктуры (в том числе политической) и ценных объектов (банков, музеев, ключевых элементов жизнеобеспечения – электростанций, продовольственных складов и проч.) на случай непредсказуемого развития событий, которые чреваты появлением толп мародеров и вандалов.
Армейские средства транспорта и легкая бронетехника воспринимаются населением как необходимый атрибут выведенных из казарм вооруженных сил. Штатная техника армии может использоваться как средство заграждения для прекращения движения протестных шествий и демонстраций, то есть как средства усиления технических средств полиции.
Где грань, дающая понять политическим противникам, что власть настроена самым серьезным образом, что она готова массированно применить вооруженные силы, не боясь массовых жертв жестоко подавить политических противников? Это вывод на улицы танков, которые становятся самым серьезным аргументом политической игры, самым веским «месседжем» власти своим политическим противникам. «Ultima ratio regum» – «Последний довод королей».
Подобными политическими мотивами руководствуются и силы, устраивающие военные перевороты. Заговорщики дают понять свергаемому руководству страны, что военное превосходство (тактическое или оперативное) на их стороне. Что в случае сопротивления представители свергаемой власти будут ликвидированы в результате войсковой операции. Одновременно населению страны дается понять, что происходит важное политическое событие, новые власти готовы пресекать беспорядки самым строгими мерами.
Подобные акции сопровождаются соответствующими политическими заявлениями: объявление военного, чрезвычайного или «особого» положения, означающего остановку или полное прекращение политического процесса. После него невозможны компромиссы с оппозицией. Всякие ее выступления отныне будут подавляться экстренными мерами, в том числе открытием огня. Что не исключает в определенных случаях продолжение диалога и даже заключение внутриполитических соглашений. Но в таких условиях оппозиция уже не является равноправным участником процесса, а подписанные ею буквально под дулами танков соглашения означают капитуляцию на более или менее выгодных условиях.
Немаловажное обстоятельство подобных мер: при «внутреннем использовании» боевые качества применяемых танков имеют второстепенное значение. Как то: модель и сроки эксплуатации танков, укомплектованность боеприпасами (достаточно иметь минимум снарядов и патронов на экипаж), их боепригодность (вполне приемлемо использование морально устаревших боеприпасов), средствами защиты, топливом (если нет необходимости совершать длительные марши). Основная боевая задача танка в таких условиях – занять стационарную позицию и нести дежурство – передвигаться и открывать огонь только в отдельных случаях. Не слишком важен уровень боевой подготовки танкистов – важна их мотивация к исполнению приказов командования.
Готовый к выполнению задачи танк практически неуязвим для подручных средств, обычно используемых при массовых беспорядках. Танк превращается в «неотвратимую угрозу», даже безнаказанного палача – средство абсолютного террора. Человеку танк, особенно когда все члены экипажа находятся внутри, представляется неуязвимым чудовищем, особо страшным, когда движется на этого человека. Чувство хорошо знакомое всем молодым бойцам, которые в первый раз проходят обкатку танками. В военной терминологии у данной реакции имеется отдельное определение «танкобоязнь».
Что говорить об ощущениях толпы гражданских лиц, к которой приближаются танки. Паника, затем и жертвы давки в такой ситуации – типичное явление. Нередки реакции массового ступора. «Противник» нейтрализован самим фактом появления танка – даже без открытия огня он служит средством психологического террора. В большинстве случаев прибегающие к танкам политики рассчитывают на возникновение подобных реакций. Кроме танкобоязни учитывается трезвый расчет: невооруженный человек не может причинить танку особого вреда. В случае сопротивления будет уничтожен. Сколь-нибудь серьезно противостоять танкам могут только боевые подразделения, оснащенные средствами ПТО.
Использование танков против невооруженных людей является проявлением чрезмерной жестокости. Открытие огня танками ведет к большим жертвам и разрушениям. Поэтому в некоторых странах (ФРГ, Голландия) использование танков во внутренних конфликтах приравнивается к применению ОМП. Что влияет на текущие решения политиков.
Производить современные ОБТ сегодня может ограниченный круг государств, поэтому бронетехника и в первую очередь танки являются предметом активного военного экспорта. Но при подготовке контрактов учитывается предполагаемое использование танков импортером. Случается наложение вето на поставки, если возникает подозрение, что танк может использоваться как средство массового террора. Конечно, играет роль не только гуманитарный фактор – сегодня такие внутренние беспорядки широко освещаются мировыми СМИ, и экспортеры не заинтересованы в создании отрицательного имиджа своей бронетехники. А обвинения в поддержке кровавых режимов используются как аргумент во внешней и внутренней политике.
Особе щепетильны в этом отношении власти ФРГ, над которыми до сих пор довлеет память о преступлениях нацизма во Второй мировой войне. Так, в 2012 году министерство экономики ФРГ, в чьем ведении находится и экспорт вооружений, заключило предварительный контракт на поставку в Саудовскую Аравию огромной партии (до 800 единиц) танков «Леопард-2». Контракт был заблокирован федеральным парламентом ФРГ и отложен до особого рассмотрения в 2013 году. Инициаторами замораживания выступили министерство иностранных дел и министерство обороны Германии. Причина задержки и даже вероятного аннулирования контракта – возможность использования «Леопардов» против своего населения режимом Саудовской Аравии, который считается авторитарным.
Гражданское сопротивление может воспользоваться против танков только самодельными средствами типа «коктейля Молотова». При грамотных действиях экипажей и пехотного сопровождения серьезного вреда танкам они причинить не в состоянии. Зато ответные меры приведут к массовым жертвам среди нападающих. На что и рассчитан вывод танков на улицы. Их задача – занять ключевые точки городов и окружающей местности, блокировать очаги вероятного сопротивления и быть готовыми их подавить, организовать охрану важнейших объектов инфраструктуры, как реальных (объекты жизнеобеспечения, арсеналы), так и несущих политическую символику: правительственные здания, штаб-квартиры ведущих партий, радиостанции, телецентры и проч. И, что немаловажно, демонстрировать силу, подавляющее техническое превосходство.
Подобный метод демонстрации подавляющей технической мощи известен во внешней политике под названием «дипломатия канонерок». Ввод танков – это «дипломатия канонерок», приложенная во внутренней политике.
Использование танков как «грубой силы» во внутренней политике оказывается очень «тонким инструментом». Для их применения требуется большое политическое мастерство, которым, как ни странно, значительная часть политиков, решившаяся на такой шаг, не обладают. Поскольку раз уж прибегли к нему, то предполагали на определенном этапе его использовать. Мудрого политика только безальтернативность выживания может вынудить выводить на улицы танки.
Очень важен выбор политического момента и «дозированность» применения силы – четкие планы развертывания и инструкции для войск на открытие огня. Неправильный выбор момента, равно как слишком мягкие или слишком жесткие приказы могут привести к совершенно неожиданным последствиям.
Именно по этим причинам во внутриполитической жизни вывод войск с танками политики применяют с большой осторожностью. Поскольку такой шаг означает отказ от поиска всякого компромисса среди противостоящих политических сил, отказ от диалога в пользу насильственного принуждения. Вывод танков – косвенное признание власти в провале прежней политики умиротворения. Применение крайних мер – констатацию именно крайнего, безвыходного положения, несостоятельности власти как организатора политической жизни в стране, провал прежнего политического курса, в котором виновата та же власть. Парадокс: применение грубой силы – свидетельство слабости власти.
Эта оборотная сторона «танкового месседжа» также «считывается» оппозиционными силами. Отказ от легитимного политического процесса развязывает протестантам руки в выборе средств борьбы в ситуации «нечего терять». В качестве крайнего средства руководство оппозиции может призывать к вооруженному сопротивлению, началу партизанской войны.
Ввод танков может стать спусковым механизмом для начала оппозицией массовых мирных акций: тотальному гражданскому неповиновению власти, массовым акциям протеста, всеобщим забастовкам и саботажу, призывам к мирному перевороту или контрперевороту, если военные рассматриваются в качестве мятежников. Как ни странно, оппозиция имеет достаточно шансов на выигрыш. Как правило, личный состав танковых частей ориентирован на войну с внешним противником, к защите собственного населения. Выступление против невооруженного народа танкистам представляется как грубое насилие «над своими». Выступать в роли палачей, особенно в условиях массовых армий, где основной контингент служит по призыву, военные, как правило, не хотят. Армия готовится к войне, а не к подавлению политических беспорядков, личный состав не прошел обучения, а тем более тактических занятий на подобные случаи. Это прерогатива внутренних войск или национальной гвардии.