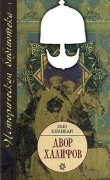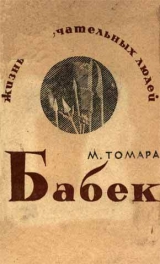
Текст книги "Бабек"
Автор книги: Михаил Томара
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Когда однажды он с небольшой свитой отправился на охоту, сами крестьяне сообщили об этом Хасану, провели его отряд к лагерю Мазиара, и испехбед попал в плен. Его отправили в Сурраменра, причем он отказался в'езжать в город на слоне, как Бабек, и его, связанного, положили на мула, и таким образом доставили во дворец.
Тем временем Абдалла ибн Тагир нарядил следствие для выяснения причин восстания, и обнаружились нити, связывавшие Мазиара с Афшином.
Феодальные владения Афшина входили в область, которой управлял Абдалла, и на почве постоянных столкновений, происходивших между ними, они стали непримиримыми врагами. Абдалла ухватился за нити, выявившиеся при расследовании восстания Мазиара, и выяснил много из скрытой деятельности Афшина. Он установил, что громадные суммы пересылались Афшином в Ошрусну из добычи Базза, из контрибуций, им взысканных с дехканов, стоявших на стороне Бабека, выяснил он и то, что между Мазиаром и Афшином велась секретная переписка. Все это он поспешил сообщить халифу. Мотасим сам допросил Мазиара и вынудил у него признание, что на восстание его подбил Афшин, что Афшин все время вел подпольную работу в целях ослабления халифата и уничтожения арабов. Мазиар получил четыреста ударов кнутом, после этого он попросил пить, а когда выпил, тут же скончался. Тело его было распято на кресте, поставленном вблизи креста, на котором висел труп Бабека. Сняты трупы были только в 842 году, после смерти Мотасима.
Донесения Абдаллы ибн Тагир и показания Мазиара открыли халифу глаза на деятельность Афшина; он был посажен в тюрьму и по его делу наряжено следствие.
Следствие показало, что Афшин был втайне манихеем, зиндиком. Было доказано, что у себя на родине он избил двух мулл за то, что они храм огнепоклонников обратили в мечеть. Было доказано, что он хранил у себя священную книгу манихеев, в роскошном переплете, осыпанном драгоценными камнями, великолепно переписанную и с художественными рисунками в тексте. Было доказано, что он издевался над исламом, ел мясо задушенных животных, совершал манихейские обряды, арабов звал «собаками, которым бросают кость, чтобы потом их бить по голове». Мечтал о восстановлении иранского государства и «белой» религии.
Кроме того выяснилось, что он утаил от халифа громадные богатства, найденные при взятии крепости Базз, присвоил их себе и тайно переправил в свой замок в Ошрусне, подготовляя восстание против халифа и отпадение своего княжества от империи. Правда, он отрицал все эти обвинения. Наказание мулл он оправдывал тем, что огнепоклонники пользовались веротерпимостью; по закону, храмов их нельзя было обращать в мечети. Хранение манихейской священной книги он об'яснял тем, что она досталась ему в наследство от отца. Издевательство над исламом и арабами и совершение манихейских обрядов он категорически отрицал. Утайка денег была столь обычным явлением со стороны правителей и командующих войсками, что на этом преступлении суд не останавливался.
Его сношения с Мазиаром, его замыслы против арабского владычества, его зиндикизм – всего этого было вполне достаточно для вынесения смертного приговора. Однако влияние своих соплеменников, явные симпатии к нему иранских феодалов не позволили Мотасиму подвергнуть его публичной казни. Он умер в тюрьме обычной для того времени смертью: ему не давали пить, и он умер от жажды – род смерти, очень удобный для халифа в том отношении, что не оставлял никаких следов насилия, сохраняя видимость естественной смерти.
Труп Афшина был потом распят у ворот Сурраменра; перед крестом свалили кучу идолов [6]6
Ни религия Зороастра, ни ветвь ее – манихейство – идолам не поклонялись. Идолы были брошены для отвода глаз народа. Поклонение идолам было наиболее страшным грехом для мусульман.
[Закрыть], будто бы найденных в его доме, которые затем были сожжены.
Заключение
Историю Бабека мы знаем исключительно из арабских источников, и известия о нем скудны и, главное, отрывочны. Вполне понятно, что победы Бабека арабские историки считают позорной страницей в истории халифата, и они касаются этого периода жизни Бабека лишь вскользь: не описывают подробно ни порядков, которые Бабек вводил, ни даже военных действий, благодаря которым он выходил победителем. Зато его крушение, падение Базза, пленение и казнь любовно рассказываются на многих страницах. Вследствие такой неравномерности материала в биографии Бабека имеются существенные пробелы, не дающие возможности вполне подробно обрисовать характер крестьянского вождя. Однако в общем облик его достаточно ясен.
Выходец из низов крестьянского населения, выросший среди нищеты, невежества и угнетения, Бабек выдвинулся благодаря необыкновенной одаренности и исключительному организаторскому таланту.
В самом деле, везде, где мы сталкиваемся с крестьянскими восстаниями, мы видим чрезвычайную ограниченность размаха этих восстаний, неспособность их вождей к об'единению больших масс. Каждая крестьянская группа сражается против своего господина, своего феодала, и лишь в очень редких случаях оказывает соседям поддержку в борьбе с такими же феодалами; дальше своего округа повстанцы ничего не видят. Еще менее у крестьянских вождей способности организовать массы, руководить широким социальным движением.
Бабек использовал восстание, возникшее в Ардебильскрм округе, не только для того, чтобы освободить крестьян своего округа, но чтобы добиться освобождения от эксплоатации крестьянства всей страны на всей территории древнего Ирана. Из каждого селения и города, где он поднимал восстание, он брал людей для борьбы за новое село, за новый город, и силы его росли и множились, как лавина. И организаторские способности были у него недюжинные, ведь у него была, когда его могущество достигло высшей точки, армия, численностью не менее чем в 200 тысяч человек, которых надо было снабжать всем необходимым и, главное, оружием. Оружейным же ремеслом в Азербайджане занимались мало, и главным источником, откуда Бабек мог получать оружие, являлось поле битвы, где хуремиты снимали его с убитых и пленных. Оружие того времени состояло из лука, стрел, копий, мечей и боевых топоров, для защиты надевали на головы шлемы, на тело панцырь; панцыри были, впрочем, не металлические, как у византийцев, а кожаные с металлическими полосками, или металлические кольчуги. Изготовлять их, конечно, повстанцы не могли. Имелись в то время у арабов осадные орудия, метавшие громадные камни, которые разбивали стены укреплений. В войсках халифа были отряды людей, одетых в несгораемые одежды, метавших в осажденные города горшки с горящей нефтью. У Бабека, конечно, не было осадных орудий, что и не дало ему возможности овладеть Марагой, не было и нефтяников, а, главное, не было конницы. Передвижение войска требовало громадного количества верблюдов, соответственно приходилось заготовлять им корм. Таким образом, организация массового восстания была связана с большими трудностями. Необходимо было иметь исключительные организаторские способности, чтоб справиться с таким сложным делом.
Ничего подобного мы не видим во время крестьянской войны в Германии; там действовали отряды самое большое в 10–15 тысяч человек, район действия каждого отряда был невелик и ограничивался пределами своей округи или княжества, между тем как громадное войско Бабека занимало территорию двух громадных провинций халифата, с пространством до 400 тысяч кв. километров, т. е. территорию большую, чем вся Италия или даже Польша.
Нрава Бабек был крутого и сурового, и это было необходимо; только строгостью и жестокостью можно было внедрить хоть какую-нибудь дисциплину в армию, состоявшую из полудиких людей.
Насколько широк был его политический кругозор, показывает его переписка с византийским императором. Союз вождя крестьянского восстания с самым могущественным монархом тогдашнего мира, с главой Римской империи, является фактом беспримерным в истории; этому трудно было бы поверить, если бы не единогласные свидетельства и арабских и византийских историков.
Весь план действий Бабека, насколько мы можем его угадать, свидетельствует тоже об его исключительной одаренности. Движение на Тамадан, чтобы прервать сношения Хорасана с Багдадом и подвоз в столицу денег и солдат из восточных провинций, дальнейший поход в Хорасан для поднятия там восстания – рисуют его как крупного стратега.
Он чувствовал себя не только царем земным, но богом, и поклонение, которое ему воздавали крестьяне, освобожденные от рабства и угнетения, только утверждало его в этом чувстве. Это же сознание своей божественности привело его к тем ошибкам в ведении войны, которые погубили восстание и были причиной его гибели. Благодаря военным хитростям он без труда обращал в бегство нестройное войско ополченцев, собранных в провинции по принудительному набору. Продолжительные успехи партизанской войны вселили в него презрение к врагу, чувство непобедимости, и он рискнул вступить под Гамаданом в бой в открытом поле, не учитывая того, что перед ним регулярное войско турецких и берберийских наемников, обученное, дисциплинированное, имеющее военный опыт. У врагов были осадные машины, отряды нефтяников, великолепные стрелки, а главное, воины, сражавшиеся на конях, одетые в панцыри и кольчуги. Ничего этого у Бабека не было и не могло быть. Особенно чувствовался недостаток конницы. Лошадей вообще было мало в те времена; даже в Аравии они представляли большую ценность. Для передвижения войск употреблялись верблюды, на которых садилось по два бойца. На коней садились только во время боя, и у арабских кочевников лошади были только у родовой знати, у старшин племени. Нечего говорить, что у азербайджанских крестьян лошадей не могло быть, а если они у кого-нибудь и были раньше, то теперь исчезли в результате бесчисленных реквизиций, производившихся в условиях военного времени.
Как только Бабек после гамаданского разгрома вернулся к партизанской войне, к отсиживанию в крепости, к засадам, к ночным нападениям, успех вернулся к нему; все силы Афшина не были в состоянии взять Базз в течение двух лет, и армия халифа терпела громадный урон, страдая и от холода, и от недостатка провианта. Как только Бабек отступал от партизанской тактики, он неминуемо терпел поражение: так было, когда он вышел в ущелье навстречу Афшину, так было, когда он послал Адсина атаковать Зафара. Последний смелый маневр, когда он всю армию бросил в засаду в расчете ударить в тыл Афшина во время штурма крепости, не удался и привел к падению Базза.
Громадной ошибкой Бабека было его отступление, особенно в последний период его деятельности, от твердой классовой линии, его ставка на дехканов. Надежды его на мелких феодалов, на их ненависть к арабам, расчет на использование их военного опыта, их знаний, их умения командовать и руководить – не оправдались и не могли оправдаться.
Поведение дехканов определяло то двойственное положение, которое они занимали в социальной структуре халифата: с одной стороны, крепостники, эксплоататоры крестьян, выжимающие у них все соки в свою пользу и в пользу казны, облеченные властью над ними; с другой – сами об'екты угнетения и притеснений со стороны правительства, его агентов, уполномоченных принцесс царского дома. Они были бы рады изгнанию арабов, но лишь при условии, что сами они останутся при своих владениях и при зависимых от них крестьянах. Когда угнетение со стороны завоевателей-арабов чувствовалось особенно сильно, дехканы несомненно сочувствовали перевороту и готовы были присоединиться к восставшим крестьянам; но когда крестьяне побеждали и изгоняли арабов, у дехкан возникало опасение, что очередь дойдет и до них, что крестьяне отплатят им за издевательства, и во всяком случае перестанут на них работать, а все земли, которые обрабатывают, будут обрабатывать для себя. Это опасение имело основание и казалось более грозным, чем власть арабов, что и побуждало их в критический момент переходить на сторону халифа и предавать крестьян в руки врагов. Когда дехканы увидели, что Бабеку не справиться с силами халифата, они с великим усердием старались загладить свою вину перед арабами, стали их преданными союзниками. Ставка на дехканов отталкивала крестьян – основу всего движения – и таила в себе предательство со стороны дехканов. Она была причиной окончательной гибели Бабека.
Каковы были последствия восстания Бабека, какую роль сыграло оно в судьбах иранского крестьянства и всей империи халифов в целом? Какие изменения произошли в социальной структуре халифата под его влиянием?
С самого основания империи халифов в ней замечаются феодализационные процессы, развивающиеся различно в западной половине халифата, отвоеванной арабами у Римской империи (Сирия, Египет), и в восточной – бывшей территории иранского государства Сассанидов. Ко времени арабского завоевания феодализационные процессы бурно развивались в Римской империи, создавалось крупное землевладение с крепостными, с собственными вооруженными отрядами, с из'ятием помещиков из общей юрисдикции. Этот процесс продолжался в завоеванных арабами областях, после перехода их к новым властителям, лишь изменилась национальность землевладельцев: на место помещиков греческой, сирийской, армянской национальности становится арабская родовая знать.
В восточной половине халифата арабы застали уже своеобразный, связанный еще с патриархальностью, феодализм. Мелкие феодалы, дехканы, происходят от старейшин селений, тесно связаны родством с подвластным им крестьянством, которое они эксплоатируют, проживая сами на местах. Крупные землевладельцы живут большей частью при дворе царей или в центрах провинций, порученных их управлению, но не прерывают связи с своими поместьями, заботятся о развитии земледелия, вкладывают в него даже средства.
Завоевавшие Иран арабы в первое время большей частью оставляли феодалам владение их имениями, взимая с них лишь дань, но мало-помалу, под разными предлогами имения конфисковывались, поступали в казну. Наряду с этими дефеодализационными мерами шла однако усиленная раздача земель принцам крови, приближенным халифа: при Оммайядах – преимущественно арабской родовой знати, при Аббасидах – их вольноотпущенникам иранского происхождения. Сперва раздавались пустопорожние земли – мават, – которые нужно было еще «оживить» (устроить сеть оросительных каналов, заселить крестьянами), но скоро стали раздаваться и населенные земли, не требовавшие затрат. Новые владельцы не жили в своих имениях, и единственная связь их с подвластными крестьянами выражалась во взимании с них оброка деньгами или натурой. Казне владельцы платили деньгами, но платили мало, а то и вовсе не платили, если пользовались влиянием при дворе. Право собственности в этих имениях оставалось за казной, и над владельцами всегда висел дамоклов меч конфискации в случае немилости халифа. Тормозила развитие земледелия не только неуверенность во владении землей. Громадный отлив денег в центр, в резиденцию халифа и в большие города Савада, где царила торговая буржуазия, отнимал у провинции оборотный капитал и также задерживал развитие местных производительных сил.
В IX веке, начиная с преемников Мотасима, замечается в империи халифов резкое усиление темпов феодализации, и здесь восстание Бабека сыграло громадную роль.
Недостатки военной организации, сказавшиеся в царствование Мамуна, бессилие войск, состоящих из ополченцев арабской и иранской национальностей, подавить восстания крестьян и обуздать стремления эмиров к отпадению от халифата, особенно ярко обнаружились во время восстания Бабека. Потребовалась реорганизация военного дела и создание постоянного войска, составленного из иноземного элемента. Наиболее благодарный материал для организации новых войск доставляли турки и берберы – купленные рабы; привязанные не к государству, а лично к халифу, отпускавшему их на волю, расточавшему им всякие милости, деньги и земли. Это, в сущности, те же «верные» – личная дружина правителя, – которые были зерном феодального строя и в Западной Европе.
Но для такого войска требуются деньги и деньги, и халифам приходится всемерно усиливать обложение, напрягать все финансовые средства государства, возбуждая этим недовольство населения.
Своеволие и бесчинства этих полудиких воинов, которым потакают халифы, отталкивают от династии ее главную классовую опору – буржуазию Савада, и скоро халифы оказываются полностью в руках своих вооруженных рабов, делаются игрушками в руках турецких военачальников. Рядовые воины более преданы своим командирам, вышедшим из их же среды, из тех же рабов, чем халифу, на которого смотрят лишь как на дойную корову. При каждом восшествии на престол нового халифа, возведенного волей его гвардии, он принужден раздавать преторианцам всю наличность казначейства, а если и этого мало для ненасытных требований солдат, приходится за бесценок отдавать на откуп доходы той или иной провинции, чтобы скорее выплатить подарки войску и спастись от грозящей смерти.
Не прошло и ста лет после смерти Мотасима, как почти все области халифата были уже разобраны откупщиками, которые становились одновременно и правителями провинций, сосредоточивая в своих руках и администрацию, и войско, и финансы. Доходы халифов падают с 400 миллионов дирхемов до 24 миллионов. Раздавши все провинции, халифы не в состоянии уже содержать большое войско; провинции начинают жить совершенно независимой жизнью. Правители их уже обходятся без назначения со стороны халифов. Смелый предводитель шайки вооруженных турок, массами проникающих из Средней Азии в пределы халифата, захватывает ту или иную область, прогоняет местные власти, а затем почтительнейше просит халифа утвердить его в звании правителя. Это так называемый в мусульманском праве «эмират по насилию»: мусульманский закон рекомендует непременно утверждать таких эмиров, во избежание кровопролития между мусульманами.
Наконец через двести лет после смерти Мотасима вождь одного из турецких племен, потомок Сельджука, завладевает Багдадом, лишает халифа светской власти, оставляя за ним лишь роль духовного главы мусульман, покоряет отложившиеся области и вводит в воссозданной империи вполне феодальный строй, раздает своим воинам вместо денег земли с крестьянами, взамен чего новые помещики обязаны являться по первому требованию для службы в войске.
Развал халифата, создание провинциальных центров с своими наследственными правителями, окруженными двором, привлекающими к нему ученых и поэтов, стремящихся перещеголять друг друга роскошью, имел громадное значение в экономическом отношении. Обеднение халифата отразилось на торговле Багдада и Басры; торговая буржуазия Савада потеряла значительную часть своих доходов и уступила первое место в мировой торговле Александрии в Египте. В провинциальных центрах, куда теперь стекались деньги от налогов, развилась промышленная жизнь, начался мощный расцвет ремесл. В Бухаре, в Мерве, в Газне, в Испагани, в Рее и других городах создалась своя зажиточная буржуазия, возникли великолепные дворцы и мечети, начала развиваться торговля.
Создание Мотасимом постоянной армии из турецких рабов и вольноотпущенников приводит в X веке к завершению феодализационного процесса и одновременно к расцвету провинциальных городов, а одной из важнейших побудительных причин создания постоянной армии послужило восстание Бабека, подавить которое оказалось не под силу старой армии из ополченцев и добровольцев.
Каковы же были судьбы иранского крестьянства после гибели Бабека? Что сталось с хуремитским движением после подавления восстания азербайджанских крестьян?
Тяжелая доля иранского крестьянина в общем не стала легче; напротив, за исключением немногих местностей, она стала еще тяжелей. Крестьянин был единственным плательщиком налогов в мусульманских странах, и теперь, когда безумная роскошь багдадского двора сменилась не менее безумной роскошью бесчисленных провинциальных дворов – двора Саманидов в Хорасане, двора Газневидов в Газне, двора Гамданидов в Мосуле и Алеппо, двора Фатимидов в Каире, – ему пришлось платить гораздо больше, чтобы кормить бесчисленные стаи паразитов при дворах эмиров. Если ремесла в городах расцветали, то покупателями продукции промышленности являлись горожане, в первую голову эмиры и их придворные, и крестьяне должны были оплачивать эту продукцию непосильным трудом. Дворы эмиров не могли обходиться без заморских товаров – пряностей, дорогих тканей, благовоний. На этих товарах создавал свое благополучие городской торговый капитал, а на покупку их шли деньги, добытые трудом крестьян.
Но не только расцвет города тяжело ударил по крестьянству; его разоряли беспрерывные усобицы между правителями, постоянные передвижения по территории Ирана тех или иных войск; войны эмиров между собой из-за клочков земли, набеги турецких шаек, то и дело налетавших из-за Сыр-Дарьи, – все это падало на крестьянина и только на него. Горожане отсиживались за крепкими стенами или откупались от осаждающих, а у крестьянина уничтожались посевы, угонялся скот, сжигались постройки. Своеволие турецкой военщины не имело границ, не имели границ и страдания крестьянина.
Во многих местах крестьяне бросали свои земли и селения, бежали в города или сами поступали в отряды эмиров. Бывало, что и сами они становились предводителями отрядов и правителями провинций. Земледелие запускалось, оросительные каналы засорялись, земля стала давать все меньше и меньше. Расцвет городов приводил к упадку деревни, их питавшей; и неминуемо должно было наступить крушение всей системы. Это крушение, постепенно назревая, внезапно обрушилось на все государство под давлением мировой катастрофы – монгольской бури.
Стройные армии Чингиз-хана и Гулагу смели дворы эмиров с их роскошью и расточительностью, сравняли с землей города, истребили их жителей или увели их в далекие страны Востока, оставив лишь крестьян, как источник налогов новым повелителям.
Как же реагировали крестьяне на все бедствия, которые свалились на них, крестьяне, которые так часто восставали при первых Аббасидах и столь долго боролись под знаменем Бабека? Что сталось с их мечтаниями о пришествии царя Ширвина, о грядущем царстве божием на земле?
Известия о крестьянских восстаниях еще попадаются на страницах арабских исторических хроник, но их очень мало. Возглавляются эти восстания классово чуждыми элементами. Так, в том же Азербайджане в 848 году, невдалеке от театра действий Бабека, происходили жаркие бои вокруг города Меренда, где крестьянами руководил дехкан; восстание было быстро подавлено, дехкан взят в плен и казнен. На границах Азербайджана и Джезира в середине IX века имело место восстание курдов. В Табаристане восстали крестьяне под предводительством одного из потомков Али; восстание окончилось удачно; крайнее ослабление халифата в эту пору, в связи с дворцовыми переворотами, не дало возможности подавить это восстание, и Табаристан отделился от империи, стал самостоятельным княжеством, где правил вождь восставших, а после него его потомки. Крестьяне остались у разбитого корыта и продолжали трудиться на новых господ.
В общем настроения крестьянства приняли иные формы и пошли по трем различным путям.
Неудачи восстаний, особенно восстания Бабека, много сулившего крестьянам, принесшим ему столько жертв, повергли большую часть их в глубокое уныние. Надежды на скорое пришествие обетованного мессии, царя Ширвина, которого они видели в Абу Мослиме, в Бабеке, – исчезли. И массами с нарастающей силой начал овладевать тот религиозный дурман, который обычно усиливает свое влияние на умы в эпохи реакций, в эпохи, следующие за неудавшимися восстаниями и революциями, в эпохи разбитых надежд. Повсюду в Иране появились бесчисленные братства суфи-дервишей, проповедывавших аскетизм, умерщвление плоти, отречение от мира, суливших за страдания на земле награды в потустороннем мире. Вступавший в братство отрекался от личной жизни, давал клятву беспрекословного повиновения руководителям, которые становились безграничными властителями над телами и умами братьев низших степеней и могли их неограниченно эксплоатировать. Они подвергали братьев разного рода физическим упражнениям, имевшим целью притуплять их ум, создавать из них безвольных кукол, рабов высших должностных лиц братства. Братья должны были по нескольку тысяч раз в день повторять имя божье, прыгать, вертеться на месте, пока не падали в изнеможении. Все это должно было, по учению дервишей, приблизить братьев к божеству, заставить забыть земные горести, дать им предвкушение райского блаженства. С этого времени дервиши (в Средней Азии их называют ишанами) становятся виднейшими и наиболее влиятельными фигурами в жизни крестьянства Ирана. Крестьянин считает их святыми, божьими людьми, он отдает им все, чего они ни потребуют, из своего имущества, вплоть до своей жены. Влияние официального духовенства, мулл, ничтожно в сравнении с влиянием дервишей, и правительствам восточных государств приходилось, да и сейчас приходится, очень считаться с ними. По их наущениям, в результате их агитации случалось немало бунтов и переворотов, направленных против правителей, ставших почему-либо неугодными руководителями братств.
Другая часть крестьянства пошла по иному пути, пути тоже обычному для эпох реакций, пути заговоров и террора, глубокого подполья и тайных организаций.
Девятый век – эпоха после гибели Бабека – явился свидетелем массового перехода иранского крестьянства в ислам, и хуремитизм исчезает из истории Ирана. Этот переход давал некоторое облегчение от налоговых тягот (освобождал от подушной подати) и делал новообращенного равноправным по отношению к старым мусульманам: с тех пор как турки, сами недавно принявшие ислам, стали хозяевами халифата, отошло в далекое прошлое время, когда арабы обращались с новообращенными других национальностей как с низшими существами.
Но, принимая ислам чисто внешне, крестьяне свято хранили в сердце своем хуремитские верования, верования в переселение душ, в грядущее воплощение царя Ширвина. И эти свой верования они приспособили к исламу. Наибольшее распространение между ними получила мусульманская секта измаилитов, появившаяся много раньше, но лишь теперь получившая широкое распространение. Эта секта, признававшая и Аллаха, и Мохаммеда, и божественность корана, признавала и пришествие в конце времен обетованного мессии, Махди, который должен уничтожить неправду, господствующую в мире, и водворить царство божие на земле. Это пришествие, обещанное, хотя в смутной форме, ученьем Мохаммеда, как нельзя лучше совпадало с хуремитскими верованиями в Ширвина: изменилось только имя обетованного мессии. Один из потомков Али, который, по учению измаилитов, был воплощением божества, Измаил, имел сына Мохаммеда, погибшего еще при жизни отца при таинственных обстоятельствах. Измаилиты учили, что дух божий, воплотившийся в Али и переселявшийся затем в тела его законных преемников, спас Мохаммеда ибн Измаила от гибели, скрыл его от глаз людей и, когда настанет час, вселится в него и появится перед людьми в качестве обетованного Махди. Ему надо беспрекословно повиноваться и теперь, а ввиду его невидимости, надо повиноваться его посланным. На основании этого учения была создана грандиозная тайная организация, опутавшая своими сетями все страны ислама. Под ее руководством происходили многие заговоры, террористические акты, подчас и опасные для халифата восстания.
Мы знаем, что Алиды выдвигались везде на территории халифата недовольными классами в качестве вождей, но восстания, руководимые потомками Али, были разрозненными и легко подавлялись халифами. Теперь энергичные и смелые люди, захватившие руководство измаилитскими организациями, делают попытку об'единить всех недовольных против халифата для его разрушения. В северной Африке они ищут приверженцев среди берберов – кочевников, угнетавшихся арабами; в Египте их опорой была торговая буржуазия Александрии, которая страдала от конкуренции Багдада, и туземное крестьянство. В Аравии к измаилитам примыкают торговые слои побережья Персидского залива, которых забивали торговцы Басры, Сирафа и других портов персидского берега. В северном Иране их приверженцами стали крестьяне, бывшие хуремиты.
Организация была хорошо продумана. Руководителем и пропагандистом в местных группах являлся присланный высшими должностными лицами организации миссионер – дай; он был единственным лицом, которого знали члены группы. Он сам знал только пославшего его, а верховные руководители были известны только немногим надежным помощникам.
Организация имела девять степеней, и прохождение степеней, переход из низшей в высшую, было обставлено таинственными обрядностями, грозными испытаниями, сильно действующими на умы сектантов.
Подпольная пропаганда шла чрезвычайно успешно в течение всего IX века, первые ее результаты сказались в X веке в западной половине халифата, где восстали берберы в северной Африке. Там образовалось независимое государство, возглавляемое верховным руководителем секты, выдававшим себя за обетованного Махди. Вскоре он завоевал Египет и подчинил своему влиянию почти всю Аравию. В восточной Аравии секта дала плоды в виде создания республики карматов, опиравшейся на арабских кочевников, своими набегами наводивших ужас на Города Ирака.
В северном Иране измаилитизм выступил активно лишь в половине XI века с появлением в Табаристане и Дейлеме Хасана ибн Сабаха, создавшего независимое княжество в неприступных горах этих провинций, откуда он рассылал убийц, таинственно поражавших всех мало-мальски выдающихся людей среди правителей халифата, министров и военачальников.
Наконец, та часть крестьян, которая не впала в отчаяние и сохранила активность, бросала землю, не дававшую им ничего, кроме непосильного труда и нищеты, и поступала в наемные войска разных авантюристов, стремившихся в конце IX и начале X века завладеть той или иной провинцией распадавшегося халифата. Они составили в конце IX века войска Якуба ибн Саффара, завладевшего Сейстаном, Керманом, Фарсом, Хузистаном, не раз обращавшего в бегство даже турецкие войска халифов и на короткое время добившегося от халифа утверждения в должности правителя этих провинций.
Крестьяне Дейлема и Табаристана в X веке образовали армию под предводительством сыновей Буйе, вышедших в свое время из рядовых воинов. Они захватили не только почти весь Иран, но и Багдад. Им удалось ограничить светскую власть халифов, взяв все управление халифата в свои руки. Непрерывные войны и междоусобицы этого периода дезорганизовали торговлю, породили отлив денег из оборота, и вместо денег Буиды платят своим дружинникам землей, точнее – предоставляют им самим собирать подати с крестьян на отведенном каждому имении или участке. Раздоры между членами правящего дома не дали этой феодальной организации развиться в полной мере, и феодальный строй окончательно укрепился лишь с водворением в XI веке турок-сельджуков.